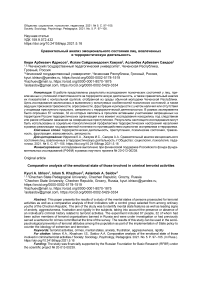Сравнительный анализ эмоционального состояния лиц, вовлеченных в террористическую деятельность
Автор: Идрисов Кюри Арбиевич, Хажуев Ислам Сайдахмедович, Саидов Асланбек Арбиевич
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
В работе представлены результаты исследования психических состояний у лиц, привлеченных к уголовной ответственности за террористическую деятельность, а также сравнительный анализ их показателей с контрольной группой, отобранной из среды обычной молодежи Чеченской Республики. Цель исследования заключалась в выявлении у испытуемых особенностей психических состояний, а также ведущих признаков тревожности, агрессивности, фрустрации и ригидности с учетом наличия или отсутствия у индивида преступного прошлого, связанного с террористической деятельностью. В рамках эксперимента было опрошено 67 человек, 32 из которых являлись в прошлом активными участниками запрещенных на территории России террористических организаций и на момент исследования находились под следствием или ранее отбывали наказание за совершенные преступления. Результаты настоящего исследования могут быть использованы в социально-психологической профилактике террористических настроений населения в рамках реализации государственной политики по противодействию идеологии экстремизма и терроризма.
Террористическая деятельность, преступления, психические состояния, тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность
Короткий адрес: https://sciup.org/149134700
IDR: 149134700 | УДК: 159.9.072.432 | DOI: 10.24158/spp.2021.5.16
Текст научной статьи Сравнительный анализ эмоционального состояния лиц, вовлеченных в террористическую деятельность
Funding: The study was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) under the scientific project № 20-013-00239.
На протяжении всей истории своего существования человечество сталкивалось с разными формами терроризма. Особого размаха это явление достигло в конце XX - начале XXI в. Жестокие террористические акты и диверсии получают широкий резонанс во всем мире, вызывая не только справедливое возмущение общественности, но и серьезное опасение за безопасность на планете [1].
Преломляя социально-экономические трудности, религиозные, национальные и этнические противоречия любого общества в политической плоскости, идеологи экстремизма и терроризма используют их в качестве инструмента и средства для разжигания конфликтов [2], создавая реальную угрозу национальной безопасности любого государства [3, с. 92].
С проявлениями идеологии насилия столкнулась и Россия, для которой угроза экстремистских атак актуальна и в настоящее время. При этом современный терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комплекса взаимодополняющих процессов - идеологических, криминальных, военных, экономических, политических, религиозных и националистических [4, с. 104].
Как указывают В.С. Кряжев [5] и М.А. Вершкова [6], в современных условиях наблюдается эскалация террористической деятельности экстремистски настроенных лиц, групп и организаций, усложняется ее характер, возрастают изощренность и античеловечность террористических актов.
В отличие от других преступных деяний рассматриваемое преследует цели реализации каких-то идей. В связи с этим следует считать, что нравственно-психологические черты террориста основаны на идеологии терроризма, что отражается на эмоционально-психическом состоянии приверженного ей человека, способах восприятия им внешнего мира и формировании у него специфического отношения к реальности [7].
Одной из важнейших задач в изучении проблемы терроризма в современном обществе является исследование личности террориста. Это, как правило, агрессивный, отчужденный, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и отбывавший наказание представитель преступного мира, имеющий серьезный криминальный опыт, довольно невысокий уровень образования и характеризующийся практически полным отсутствием каких-либо духовных и нравственных ориентиров [8]. При этом сложно говорить о каком-то универсальном типе террориста, можно лишь условно назвать некоторые признаки, характеризующие почти всех последователей экстремистских идей, большинство которых являются представителями криминальной среды и людьми с психическим расстройствами [9]. Так, террористы имеют следующие основные характеристики: 1) склонность к постоянному поиску различного рода источников проблем личного характера; 2) непрерывное нахождение в состоянии напряженности и в связи с этим готовность в любое время перейти к обороне; 3) видение угрозы там, где ее нет; 4) сохранение чувств и эмоций, которые были испытаны ранее по тем или иным причинам, причем эти причины давно исчезли; 5) нетерпимость; 6) полимотивированность поведения; 8) склонность к суициду среди лиц в возрасте до 30 лет [10].
Нужно отметить, что идеи терроризма в обществе получают поддержку у небольшого количества индивидов, которые поддаются радикализации и становятся на преступный путь терроризма и экстремизма. По мнению ряда авторов, к психологическим особенностям, обуславливающим возможное антисоциальное поведение в русле террористической направленности, можно отнести тревожность, фрустрацию, агрессивность, нарциссизм и ригидность [11].
В то же время само переживание этих психических состояний индивидом в значительной степени определяет восприятие им окружающего мира [12] и может способствовать обострению более серьезных структурных аномалий личности, развитию комплексов или напротив - возникновению чувства превосходства над другими [13]. Кроме того, психологические особенности могут стать причиной серьезных проблем с критическим анализом реальности и оценкой собственной персоны на фоне отрицания права выбора и альтернативы [14].
По мнению ряда авторов, одной из личностных особенностей, являющейся во многом источником для развития крайних насильственных наклонностей личности, является острое чувство неудовлетворения природосообразных потребностей индивида - фрустрация [15], при которой внутренние установки личности, ее идеологическая направленность становятся первично ригидными: в случае если окружающие люди не разделяют такое видение мира, то они подвергаются презрению, преследованию и ненависти [16, с. 197].
По мнению Ю.М. Антоняна и Е.Н. Юрасовой, тревожность личности, выражающаяся в низкой устойчивости к неопределенности, имеет особое значение среди психологических особенностей лиц, склонных к проявлению экстремизма в его крайних формах [17]. Этой же точки зрения придерживается и С.Э. Воронин, который при исследовании преступлений, связанных с религиозным экстремизмом, обнаружил, что людям, совершавшим их, свойственны неуверенность, обеспокоенность и тревожность [18].
Вместе с тем другой характерной чертой лиц, склонных к экстремистской и террористической деятельности, по всей видимости, является ригидность (от латинского «rigidus» или
«rigiditas» – жёсткий, твёрдый, застывший), проявляющаяся в виде дискомфорта в случае столкновения личности с чем-то новым или изменяющимся при преобладании у нее потребности в организации жизни согласно привычному порядку. При этом последствиями жесткой целеустремленности становятся ограниченный, сфокусированный интерес к внешнему миру, восприятие его через призму предубеждений. Как отмечает Д. Шапиро, при ригидности в психологическом портрете индивида преобладают черты мазохизма – бережного, акцентированного и внимательного отношения ко всей несправедливости в отношении себя, к собственным унижениям, обидам, уступкам и капитуляциям, все это сопряжено с требованием сочувствия и повышенного внимания к своей персоне со стороны окружающих. Однако при этом личность не остается в смирении мученика, напротив, она испытывает раздражение, злобу, горечь, чувство несправедливости [19].
Целью нашего исследования являлось изучение особенностей эмоционального состояния у лиц, вовлеченных в экстремистскую деятельность, для установления эмоциональных паттернов, повлиявших на деформацию личности и обусловивших ее террористическую ориентацию.
В исследовании приняли участие две группы молодых людей. Первая – экспериментальная – включала в себя 32 человека, находящихся под следствием за участие в преступлениях террористической направленности (средний возраст – 27 ± 5 лет). Во вторую – контрольную – вошли 35 человек, преимущественно студенты, подобранные случайным образом (средний возраст – 22 ± 3 года).
В качестве основной методики исследования был привлечен опросник психических состояний Айзенка; клинико-демографическая карта использовалась для сбора анкетных данных.
В работе применялись методы статистической обработки данных – частотный анализ, Т-критерий Стьюдента, критерий Фридмана.
Проведенное исследование позволило установить уровни выраженности состояний тревожности и агрессивности в экспериментальной и контрольной группах (табл. 1).
Таблица 1 – Уровни выраженности состояний тревожности и агрессивности в экспериментальной и контрольной группах
|
Выборка |
Уровни тревожности |
N |
% |
Уровни агрессивности |
N |
% |
|
Экспериментальная группа |
Низкий уровень |
21 |
65,6 |
Низкий уровень |
27 |
84,4 |
|
Средний уровень |
7 |
21,9 |
Средний уровень |
5 |
15,6 |
|
|
Высокий уровень |
4 |
12,5 |
Всего |
32 |
100,0 |
|
|
Всего |
32 |
100,0 |
Низкий уровень |
19 |
54,3 |
|
|
Контрольная группа |
Низкий уровень |
23 |
65,7 |
Средний уровень |
16 |
45,7 |
|
Средний уровень |
8 |
22,9 |
Всего |
35 |
100,0 |
|
|
Высокий уровень |
4 |
11,4 |
||||
|
Всего |
35 |
100,0 |
Было выявлено, что 65,6 % лиц из экспериментальной группы имеют низкий уровень тревожности против 65,7 % испытуемых из контрольной группы. Средние и высокие показатели отмечены у 21,9 % и 12,5 % лиц с террористическим прошлым (в контрольной группе средний и высокий уровень тревожности обнаружен у 22,9 % и 11,4 % опрошенных соответственно). При этом в экспериментальной группе 84,4 % индивидов имеют низкий уровень выраженности агрессивности, а 15,6 % – средний. В контрольной группе низким уровнем агрессивности обладают 54,3 % опрошенных, а средний уровень отмечен у 45,7 % информантов. Высокий уровень агрессивности не выявлен ни у одного человека из обеих групп.
В ходе исследования был также проведен анализ уровней выраженности ригидности и фрустрации в экспериментальной и контрольной группах (табл. 2). В экспериментальной группе были обнаружены следующие данные по ригидности: низкий ее уровень выявлен у 71,9 % (против 22,9 % в контрольной группе), средний – у 15,6 % (68,6 % – в контрольной группе) и высокий – у 12,5 % (8,6 % – в контрольной группе). При этом у 65,6 % лиц из экспериментальной группы был отмечен низкий уровень фрустрации (в контрольной группе он характерен для 74,3 % испытуемых), у 31,3 % и 3,1 % участников исследования выявлены средний и высокий уровни соответственно (против 20 % и 5,7 % в контрольной группе).
Таблица 2 – Уровни выраженности состояний ригидности и фрустрации в экспериментальной и контрольной группах
|
Выборка |
Уровни ригидности |
N |
% |
Уровни фрустрации |
N |
% |
|
Экспериментальная группа |
Низкий уровень |
23 |
71,9 |
Низкий уровень |
21 |
65,6 |
|
Средний уровень |
5 |
15,6 |
Средний уровень |
10 |
31,3 |
|
|
Высокий уровень |
4 |
12,5 |
Высокий уровень |
1 |
3,1 |
|
|
Всего |
32 |
100,0 |
Всего |
32 |
100,0 |
|
|
Контрольная группа |
Низкий уровень |
8 |
22,9 |
Низкий уровень |
26 |
74,3 |
|
Средний уровень |
24 |
68,6 |
Средний уровень |
7 |
20,0 |
|
|
Высокий уровень |
3 |
8,6 |
Высокий уровень |
2 |
5,7 |
|
|
Всего |
35 |
100,0 |
Всего |
35 |
100,0 |
Приведенные данные позволяют выполнить сравнительный анализ выраженности психических состояний у участников исследования (табл. 3).
Таблица 3 – Сравнительный анализ выраженности психических состояний у лиц из экспериментальной и контрольной групп
|
Психические состояния |
Выборка |
N |
Среднее |
Значимость |
|
Тревожность |
Экспериментальная группа |
32 |
6,56 |
0,516 |
|
Контрольная группа |
35 |
7,37 |
||
|
Фрустрация |
Экспериментальная группа |
32 |
5,06 |
0,488 |
|
Контрольная группа |
35 |
5,86 |
||
|
Агрессивность |
Экспериментальная группа |
32 |
3,50 |
0,000 |
|
Контрольная группа |
35 |
7,69 |
||
|
Ригидность |
Экспериментальная группа |
32 |
5,91 |
0,000 |
|
Контрольная группа |
35 |
10,29 |
Как показывают результаты сравнительного анализа средних, достоверно установлено, что уровень агрессивности и ригидности более выражен у респондентов из контрольной группы. Это значит, что лица с террористическим прошлым к моменту обследования продемонстрировали более низкие значения по агрессивности и неуступчивости (ригидности) по сравнению с испытуемыми, не имевшими проблем с законом.
В рамках изучения социально-средовой специфики переживания психических состояний были проанализированы параметры тревожности, агрессивности, фрустрации и ригидности в зависимости от места проживания участников исследования (город/село). Результаты сравнительного анализа вывили достоверные различия у городских и сельских жителей в экспериментальной группе (см. табл. 4).
Таблица 4 – Сравнительный анализ выраженности психических состояний у лиц из экспериментальной и контрольной групп в зависимости от места проживания (город/село)
|
Выборка/психические состояния |
Город/село |
N |
Среднее |
Значимость |
|
|
Экспериментальная группа |
Тревожность |
Город |
24 |
4,75 |
0,001 |
|
Село |
8 |
12,00 |
|||
|
Фрустрация |
Город |
24 |
3,42 |
0,000 |
|
|
Село |
8 |
10,00 |
|||
|
Агрессивность |
Город |
24 |
2,08 |
0,000 |
|
|
Село |
8 |
7,75 |
|||
|
Ригидность |
Город |
24 |
4,75 |
0,018 |
|
|
Село |
8 |
9,38 |
|||
|
Контрольная группа |
Тревожность |
Город |
29 |
7,62 |
0,480 |
|
Село |
6 |
6,17 |
|||
|
Фрустрация |
Город |
29 |
6,24 |
0,295 |
|
|
Село |
6 |
4,00 |
|||
|
Агрессивность |
Город |
29 |
7,66 |
0,913 |
|
|
Село |
6 |
7,83 |
|||
|
Ригидность |
Город |
29 |
10,28 |
0,973 |
|
|
Село |
6 |
10,33 |
|||
Приведенные данные свидетельствуют о том, что в экспериментальной группе представители села более подвержены развитию высокой тревожности, агрессивности, фрустрации и ригидности по сравнению с жителями городов, совершившими аналогичные преступления. В контрольной группе у представителей города чаще фиксировались психические состояния тревоги и фрустрации, тогда как жители сельской местности этой группы оказались более подвержены высокой агрессивности и ригидности, однако данные различия не обладают статистической достоверностью (р ≥ 0,05).
В то же время сравнительный анализ выраженности психических состояний в общем по выборкам показал, что участники экспериментальной группы больше подвержены тревожности, а в контрольной выборке доминирует ригидность (см. табл. 5).
Таблица 5 – Распределение по средним значениям параметров психических состояний в экспериментальной и контрольной группах
|
Выборка |
N |
Среднее |
Ранг |
Значимость |
|
|
Экспериментальная группа |
Тревожность |
32 |
6,56 |
1 |
0,000 |
|
Фрустрация |
32 |
5,06 |
3 |
||
|
Агрессивность |
32 |
3,50 |
4 |
||
|
Ригидность |
32 |
5,91 |
2 |
||
|
Контрольная группа |
Тревожность |
35 |
7,37 |
3 |
0,000 |
|
Фрустрация |
35 |
5,86 |
4 |
||
|
Агрессивность |
35 |
7,69 |
2 |
||
|
Ригидность |
35 |
10,29 |
1 |
||
В экспериментальной группе преобладает состояние тревожности (ранг 1), по сравнению с которой менее выражены ригидность (ранг 2) и фрустрация (ранг 3), а агрессивность (ранг 4) у лиц с террористическим прошлым имеет наиболее низкие показатели по сравнению с указанными психическими состояниями (р = 0,000). При этом в контрольной группе доминирует ригидность (ранг 1) и менее выражены состояния агрессивности (2), тревожности (3) и фрустрации (4) (р = 0,000).
В рамках проведенного исследования были проанализированы также отдельные признаки рассматриваемых психических состояний по методике Айзенка, что позволило выявить наиболее выраженные признаки в разрезе тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности (табл. 6–9).
Таблица 6 – Распределение признаков тревожности в порядке их выраженности
|
Выборки/признаки тревожности |
Средний ранг |
Ранг |
χ2 |
|
|
Экспериментальная группа (n = 32) |
Не чувствую в себе уверенности |
4,04 |
10 |
χ2 = 37,48 р = 0,000 |
|
Часто из-за пустяков краснею |
4,52 |
9 |
||
|
Мой сон беспокоен |
5,78 |
4 |
||
|
Легко впадаю в уныние |
5,44 |
6 |
||
|
Беспокоюсь о только воображаемых еще неприятностях |
4,89 |
8 |
||
|
Меня пугают трудности |
4,93 |
7 |
||
|
Люблю копаться в своих недостатках |
6,28 |
3 |
||
|
Меня легко убедить |
6,61 |
2 |
||
|
Я мнительный |
5,63 |
5 |
||
|
Я с трудом переношу время ожидания |
6,89 |
1 |
||
|
Контрольная группа (n = 35) |
Не чувствую в себе уверенности |
6,37 |
3 |
χ2 = 44,21 р = 0,000 |
|
Часто из-за пустяков краснею |
5,29 |
5 |
||
|
Мой сон беспокоен |
4,34 |
10 |
||
|
Легко впадаю в уныние |
4,66 |
9 |
||
|
Беспокоюсь о только воображаемых еще неприятностях |
5,04 |
7 |
||
|
Меня пугают трудности |
4,76 |
8 |
||
|
Люблю копаться в своих недостатках |
6,79 |
2 |
||
|
Меня легко убедить |
5,66 |
4 |
||
|
Я мнительный |
5,06 |
6 |
||
|
Я с трудом переношу время ожидания |
7,04 |
1 |
||
Таблица 7 – Распределение признаков фрустрации в порядке их выраженности
|
Выборки/признаки фрустрации |
Средний ранг |
Ранг |
χ2 |
|
|
Экспериментальная группа (n = 32) |
Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых все-таки можно найти выход |
6,23 |
1 |
χ2 = 19,35 р = 0,022 |
|
Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом |
5,14 |
9 |
||
|
При больших неприятностях я склонен без достаточных оснований винить себя |
5,27 |
8 |
||
|
Несчастья и неудачи ничему меня не учат |
6,14 |
3 |
||
|
Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной |
6,16 |
2 |
||
|
Я нередко чувствую себя беззащитным |
5,32 |
7 |
||
|
Иногда у меня бывает состояние отчаяния |
5,80 |
4 |
||
|
Я чувствую растерянность перед трудностями |
5,46 |
5 |
||
|
В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, чтобы пожалели |
5,30 |
6 |
||
|
Считаю недостатки своего характера неисправимыми |
4,16 |
10 |
||
|
Контрольная группа (n = 35) |
Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых все-таки можно найти выход |
5,59 |
6 |
χ2 = 31,56 р = 0,000 |
|
Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом |
5,70 |
5 |
||
|
При больших неприятностях я склонен без достаточных оснований винить себя |
5,73 |
4 |
||
|
Несчастья и неудачи ничему меня не учат |
5,83 |
3 |
||
|
Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной |
6,30 |
2 |
||
|
Я нередко чувствую себя беззащитным |
4,00 |
10 |
||
|
Иногда у меня бывает состояние отчаяния |
6,49 |
1 |
||
|
Я чувствую растерянность перед трудностями |
5,19 |
8 |
||
|
В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, чтобы пожалели |
4,96 |
9 |
||
|
Считаю недостатки своего характера неисправимыми |
5,23 |
7 |
||
Таблица 8 – Распределение признаков агрессивности в порядке их выраженности
|
Выборки/признаки агрессивности |
Средний ранг |
Ранг |
χ2 |
|
|
Экспериментальная группа (n = 32) |
Оставляю за собой последнее слово |
4,54 |
8 |
χ2 = 26,15 р = 0,002 |
|
Нередко в разговоре перебиваю собеседника |
5,89 |
4 |
||
|
Меня легко рассердить |
6,54 |
1 |
||
|
Люблю делать замечания другим |
5,57 |
5 |
||
|
Хочу быть авторитетом для других |
5,36 |
7 |
||
|
Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего |
5,36 |
7 |
||
|
Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю |
5,93 |
3 |
||
|
Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться |
5,98 |
2 |
||
|
У меня резкая, грубоватая жестикуляция |
4,38 |
9 |
||
|
Я мстителен |
5,46 |
6 |
||
|
Контрольная группа (n = 35) |
Оставляю за собой последнее слово |
5,77 |
4 |
χ2 = 23,31 р = 0,006 |
|
Нередко в разговоре перебиваю собеседника |
5,66 |
5 |
||
|
Меня легко рассердить |
5,11 |
8 |
||
|
Люблю делать замечания другим |
5,17 |
7 |
||
|
Хочу быть авторитетом для других |
5,57 |
6 |
||
|
Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего |
5,83 |
3 |
||
|
Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю |
6,53 |
1 |
||
|
Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться |
6,33 |
2 |
||
|
У меня резкая, грубоватая жестикуляция |
4,26 |
10 |
||
|
Я мстителен |
4,77 |
9 |
||
Таблица 9 – Распределение признаков ригидности в порядке их выраженности
|
Выборки/признаки ригидности |
Средний ранг |
Ранг |
χ2 |
|
|
Экспериментальная группа (n = 32) |
Мне трудно менять привычки |
5,66 |
5 |
χ2 = 15,15 р = 0,087 |
|
Нелегко переключать внимание |
5,16 |
7 |
||
|
Очень настороженно отношусь ко всему новому |
5,98 |
3 |
||
|
Меня трудно переубедить |
5,09 |
8 |
||
|
Нередко у меня не выходит из головы мысль, от которой следовало бы освободиться |
6,05 |
2 |
||
|
Нелегко сближаюсь с людьми |
4,63 |
10 |
||
|
Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана |
5,59 |
6 |
||
|
Нередко я проявляю упрямство |
4,70 |
9 |
||
|
Неохотно иду на риск |
6,38 |
1 |
||
|
Резко переживаю отклонения от принятого мною режима дня |
5,77 |
4 |
||
|
Контрольная группа (n = 35) |
Мне трудно менять привычки |
6,30 |
3 |
χ2 = 26,75 р = 0,002 |
|
Нелегко переключать внимание |
5,06 |
7 |
||
|
Очень настороженно отношусь ко всему новому |
5,03 |
8 |
||
|
Меня трудно переубедить |
5,26 |
6 |
||
|
Нередко у меня не выходит из головы мысль, от которой следовало бы освободиться |
6,31 |
2 |
||
|
Нелегко сближаюсь с людьми |
4,91 |
9 |
||
|
Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана |
5,50 |
5 |
||
|
Нередко я проявляю упрямство |
6,66 |
1 |
||
|
Неохотно иду на риск |
5,66 |
4 |
||
|
Резко переживаю отклонения от принятого мною режима дня |
4,31 |
10 |
||
Итак, согласно результатам ранжирования ответов по методике Айзенка в экспериментальной группе наиболее выраженным психическим состоянием по шкале «Тревожность» является ощущение трудности, связанное со временем ожидания («Я с трудом переношу время ожидания»), а также неспособность противодействовать суггестивным воздействиям («Меня легко убедить»), тогда как наименее распространено чувство собственной неуверенности («Не чувствую в себе уверенности») (χ2 = 37,481; р = 0,000). В контрольной группе самым популярным также является состояние, связанное со временем ожидания («Я с трудом переношу время ожидания»), а самым редким – переживание, связанное с беспокойным сном («Мой сон беспокоен») (χ2 = 44,211; р = 0,000).
В рамках шкалы «Фрустрация» наиболее выражено в экспериментальной группе состояние, связанное с ощущением безвыходности положения, из которого все-таки можно найти выход («Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых все-таки можно найти выход»), и менее распространено мнение о неисправимости недостатков собственного характера («Считаю недостатки своего характера неисправимыми») (χ2 = 19,348; р = 0,022). В контрольной группе более популярно фрустрационное состояние, связанное с состоянием отчаяния («Иногда у меня бывает состояние отчаяния»), и менее распространено чувство собственной беззащитности («Я нередко чувствую себя беззащитным») (х2 = 31,564; р = 0,000).
В числе признаков агрессивности в экспериментальной группе преобладает ответ «Меня легко рассердить», при этом наименее распространен вариант о наличии резкой и грубоватой жестикуляции (х2 = 26,150; р = 0,002). В то же время в контрольной группе более популярен ответ «Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю», а наименее - «У меня резкая, грубоватая жестикуляция» (х2 = 23,312; р = 0,006).
В комплексе признаков ригидности в экспериментальной группе преобладает отсутствие желания идти на риск («Неохотно иду на риск»), наименьшие значения обнаружены для варианта «Нелегко сближаюсь с людьми» (х2 = 15,147; р = 0,087). В контрольной выборке более популярно проявление упрямства («Нередко я проявляю упрямство»), а наименее выражено отклонение от принятого режима дня («Резко переживаю отклонения от принятого мною режима дня») (х2 = 26,746; р = 0,002).
В настоящем исследовании были проанализированы параметры развития психических состояний в контексте причастности индивида к экстремистской деятельности. Результаты показали, что лица, совершившие преступления террористического характера, оказались менее подверженными реакциям агрессии и ригидности по сравнению с молодыми людьми, не имеющими преступного прошлого. Объяснить данные различия возможно одновременным влиянием на испытуемых двух основных факторов - социального и психологического.
В качестве социального предиктора для обострения психических состояний у лиц из контрольной группы, состоявшей из молодых людей, не имевших проблем с законом, можно назвать режим жесткой самоизоляции в Чеченской Республике в связи с пандемией коронавируса, когда в результате длительного ограничения социальных контактов в психическом пространстве личности могли накопиться напряжение, ощущение недовольства и агрессивности, а отсутствие возможности коммуницировать могло значительно сузить механизмы сублимации данных негативных переживаний. Напротив, лица, задержанные правоохранительными органами за преступления террористической направленности, уже проявили свои негативные внутриличностные переживания в конкретных видах деятельности (в данном случае - в террористической) и в результате оказались в руках правосудия, что могло стимулировать выработку ими более социальнооправданных и правильных форм поведения, включая также желание продемонстрировать менее агрессивную и ригидную натуру.
Исследование также показало, что среди лиц, причастных к преступлениям террористической направленности, выходцы из сельской местности оказываются более подверженными развитию тревожности, агрессивности, фрустрации и ригидности, что, возможно, объясняется социально-экономическими особенностями проживания. Среди молодежи, не имеющей преступного прошлого, напротив, не выявлено различий в выраженности психических состояний в зависимости от фактического места жительства.
В контексте террористической направленности личности трудности со временем ожидания могут быть обусловлены стационарной тревожностью и страхом, связанным с витальной угрозой и ожиданием неотвратимости наказания за содеянное, тогда как у молодежи, не участвовавшей в террористической деятельности, данное состояние может быть детерминировано как индивидуально-психологическими особенностями, так и социально-средовым фактором (режимом длительной самоизоляции). Вместе с тем лица, задержанные правоохранительными органами за террористическую деятельность, могли длительно испытывать состояние фрустрации в поисках способов возвращения к мирной жизни. При этом оно могло также усугубиться в результате ареста и начатого судебно-производственного процесса в рамках уголовного дела. Имея, с одной стороны, склонность к вспыльчивости, лица с террористической направленностью также продемонстрировали наличие способности проявлять осторожность, излишне не рискуя, что объясняется жестким соблюдением конспирологических правил в самой террористической организации. Это, по мнению И.В. Белашевой и соавторов, является одной из особенностей членства индивида в экстремистской группе [20, с. 48].
В заключение сформулируем основные выводы, полученные в ходе исследования:
-
1. Установлено, что агрессивность и ригидность как психические состояния более выражены у молодых людей, не принимавших участия в совершении преступлений террористической направленности, по сравнению с лицами, задержанными правоохранительными органами за причастность к террористическим организациям.
-
2. Выходцы из сельской местности, виновные в совершении преступлений экстремистского характера, оказались более подвержены тревожности, фрустрации, агрессивности и тенденциям ригидности по сравнению с жителями города.
-
3. Доминирующим психическим состоянием лиц, имевших в прошлом проблемы с законом, связанные с осуществлением ими террористической деятельности, является тревожность, тогда как молодые люди, не причастные к подобного рода преступлениям, более подвержены ригидности.
-
4. У лиц, задержанных за участие в террористических актах, более выражены переживания, связанные со временем ожидания, ощущением безвыходности собственного положения, вспыльчивостью и слабостью желания идти на рискованное деяние.
Следует резюмировать, что исследования в направлении изучения психических состояний лиц, причастных к террористической деятельности, вызывают стойкий интерес у представителей научного сообщества. Результаты настоящего исследования позволяют оценить особенности протекания психических состояний у человека, причастного к совершению особо тяжких преступлений, изучить его психический статус и изменения в поведении после совершенного преступления и последовавшего за этим задержания правоохранительными органами.
Практическая значимость исследования обусловлена возможностью использования его результатов для социально-психологической профилактики террористических настроений населения в рамках реализации государственной политики по противодействию идеологии экстремизма и терроризма.
Список литературы Сравнительный анализ эмоционального состояния лиц, вовлеченных в террористическую деятельность
- Белашева И.В., Ершова Д.А., Есаян М.Л. Психология терроризма. Ставрополь, 2016. 120 с.
- Экстремизм как цивилизационный вызов : коллективная монография / В.Ш. Сабиров [и др.]. Новосибирск, 2012. 419 с.
- Писарев О.М., Молчанова Е.П. Особенности смысловых установок осужденных за экстремизм // Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН России. 2020. № 1 (3). С. 91-108.
- Протопопова А.Б. Психологические особенности террористических, деструктивных и экстремистских групп // Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде : сборник статей. М., 2019. С. 103-117.
- Кряжев В.С. Взгляд на проблему борьбы с терроризмом и экстремизмом с учетом современных реалий // Российский следователь. 2016. № 2. С. 35-39.
- Вершкова М.А. К вопросу об особенностях мотивов и целей лица, совершающего преступления экстремистской направленности // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. 2019. № 4. С. 147-151.
- Харзинова В.М. Социально-психологическая, криминологическая характеристика личности экстремиста, террориста, занимающегося пропагандой среди молодежи // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8, № 4-1. С. 112-115. https://doi.org/10.17748/2075-9908-2016-8-4/1-112-115.
- Волкова Н.С. Психология личности террориста-смертника // Символ науки. 2016. № 7-2 (19). С. 118-120.
- Пимакова О.Г. Личность преступника террориста // Виктимология. 2018. № 4 (18). С. 54-58.
- Грачёв Ю.А., Петров И.Ю., Сагайдак А.Ю. Эмоционально-мотивационные аспекты личности террориста // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 3 (71). С. 101-104 ; Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 2002. 384 с.
- Ермаков Ю.А., Арчаков М.К. Социальная ненависть: штрихи к портрету современного экстремиста // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2015. Т. 135, № 1. С. 206216 ; Харзинова В.М. Указ. соч. ; Этнорелигиозный терроризм / Ю.М. Антонян [и др.]. М., 2006. 318 с.
- Окшин М.С. Факторы агрессивности осужденных в различных условиях содержания колонии особого режима // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Психология. 2016. № 1 (19). С. 18-31.
- Оганесян С.С., Лобачева Л.П. О психологических особенностях экстремистов и террористов: общее и специфическое // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 6. С. 19-23. https://doi.org/10.18572/2072-4438-2018-6-19-23.
- Вершкова М.А. Указ. соч. ; Косова А.С. Психологические особенности молодежного экстремизма в образовательной сфере // Молодой ученый. 2016. № 11 (115). С. 1768-1770.
- Давыдов Д.Г. Причины молодежного экстремизма и его профилактика в образовательной среде // Социология образования. 2013. № 10. С. 4-18.
- Шарапов А.В. Психолого-педагогические признаки и типология экстремистской направленности личности // Вестник Череповецкого государственного университета. 2017. № 6 (81). С. 196-204. https://doi.org/10.23859/1994-0637-2017-6-81-28.
- Антонян Ю.М. Криминогенное влияние на личность на стадии ранней социализации // Lex Russica (Русский закон). 2013. Т. 95, № 7. С. 735-741 ; Антонян Ю.М., Ростокинский А.В., Гилинский Я.И. Экстремизм и его причины. М., 2010. 288 с. ; Юрасова Е.Н. Психологические особенности лиц, склонных к экстремизму, терроризму и ксенофобии // Юридическая психология. 2008. № 4. С. 27-35.
- Воронин С.Э. Использование полиграфа и метода психологического профилирования в расследованиях преступлений, связанных с религиозным экстремизмом // Российский следователь. 2016. № 3. С. 16-19.
- Шапиро Д. Автономия и ригидная личность. М., 2009. 160 с.
- Белашева И.В., Ершова Д.А., Есаян М.Л. Указ. соч. С. 48.