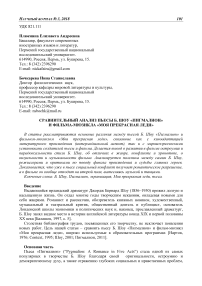Сравнительный анализ пьесы Б. Шоу "Пигмалион" и фильма-мюзикла "Моя прекрасная леди"
Автор: Плюснина Елизавета Андреевна, Бочкарева Нина Станиславна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Литературоведческие исследования
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные различия между пьесой Б. Шоу «Пигмалион» и фильмом-мюзиклом «Моя прекрасная леди», связанные как с киноадаптацией литературного произведения (интермедиальный аспект), так и с мировоззренческими установками создателей пьесы и фильма. Делается вывод о развитии в фильме остроумия и парадоксальности стиля Б. Шоу, об отличиях в жанре, конфликте и хронотопе, о визуальности и музыкальности фильма. Анализируется полемика между самим Б. Шоу, режиссерами и критиками по поводу финала произведения и судьбы главных героев. Доказывается, что уже в пьесе социальный конфликт получает романтическое разрешение, а в фильме он вообще отходит на второй план, вытесняясь музыкой и танцами.
Б. шоу, пигмалион, экранизация, моя прекрасная леди, пьеса
Короткий адрес: https://sciup.org/147229784
IDR: 147229784 | УДК: 821.111
Текст научной статьи Сравнительный анализ пьесы Б. Шоу "Пигмалион" и фильма-мюзикла "Моя прекрасная леди"
Выдающийся ирландский драматург Джордж Бернард Шоу (1856–1950) прожил долгую и насыщенную жизнь. Он отдал многие годы творческим исканиям, овладевая новыми для себя жанрами. Романист и рассказчик, обозреватель книжных новинок, художественный, музыкальный и театральный критик, общественный деятель и публицист, основатель Лондонской школы экономики и политических наук и, наконец, прославленный драматург, Б. Шоу занял видное место в истории английской литературы конца XIX и первой половины XX века [Балашов, 1997, c. 5].
Столетняя библиография трудов, посвященных его творчеству, не исключает появления новых работ. Цель нашей статьи – сравнить пьесу Б. Шоу «Пигмалион» и фильм-мюзикл «Моя прекрасная леди», широко используемые в образовательных программах [Нартов, 1976; Context, 1995; Шоу, 2001; Пигмалион, 2011].
Основная часть
Пьеса «Пигмалион» (“Pygmalion: A Romance in Five Acts”) стала одной из самых популярных в творчестве Б. Шоу благодаря своей оригинальности, остроумию и демократическому духу, а также отражению глубоких социальных и нравственных проблем, актуальных и в наши дни. В этой пьесе Б. Шоу использовал своё многолетнее увлечение фонетикой и лингвистикой. «Но пропаганда научной фонетики только одна из сторон интересной, многогранной пьесы.
Это в то же время пьеса большого социального, демократического звучания – пьеса о природном равенстве людей и их классовом неравенстве, о талантливости людей из народа. Это и психологическая драма о любви, которая по ряду причин почти превращается в ненависть. И, наконец, это пьеса гуманистическая, показывающая, как бережно и осторожно нужно подходить к живому человеку, как страшен и недопустим холодный эксперимент над человеком» [Гражданская,1979, c. 101-102].
Сам Шоу писал об этой пьесе: «Хочу похвастаться, что пьеса “Пигмалион” пользовалась величайшим успехом в Европе, Северной Америке и у нас. Ее поучительность настолько сильна и преднамеренна, что я с восторгом швыряю ее в лицо тем самодовольным мудрецам, которые, как попугаи, твердят, что искусство не должно быть дидактическим. Это подтверждает мое мнение, что искусство не может быть иным» (цит. по: [Деннингхаус, 1988, c. 128]).
Пьеса Б. Шоу была создана в 1912-1913 гг. Главная роль предназначалась для знаменитой артистки Стэллы Патрик Кемпбэлл. По словам очевидцев, эта 47-летняя женщина с удивительным мастерством и убедительностью сыграла 17-летнюю цветочницу Элизу Дулиттл [Гражданская, 1979, c. 102].
Фильм «Моя прекрасная леди» (“My Fair Lady”) был снят Джорджем Кьюкором в 1964 г. на основе одноименного мюзикла композитора Фредерика Лоу и либреттиста Алана Джея Лернера. Главные роли исполнили Одри Хэпберн (Элиза) и Рекс Харрисон (Хиггинс).
Основной сюжет в фильме сохранен, и изменения связаны, прежде всего, с интермедиальностью [Бочкарева, Новокрещенных, 2017] (точнее – «медиальной транспозицией» [Rajewsky, 2005, p. 51], «адаптацией» [Straumann, 2015, p. 249] литературного произведения к музыкальному кино).
Во-первых, в фильме больше разработано пространственное окружение героев (визуальный аспект). Прежде всего, добавлены массовые панорамные сцены в театральном фойе, на рынке, в пивной, на скачках и на балу (в пьесе почти все сцены камерные, бал и опера остаются за сценой, в четвертом акте о них только упоминается). Одной из задач американцев (создателей мюзикла и фильма) было показать зрителю разные слои английского общества, хотя и в условной (театральной) манере, что соответствует ироническому пафосу пьесы ирландца Б. Шоу.
Во-вторых, в фильме, как и в мюзикле, большая роль отводится музыке (вместо пяти актов пьесы – две серии фильма с музыкальной интерлюдией). С одной стороны, таким образом, развиваются слова Хиггинса о том, что для его экспериментов необходим слух ( «If she has a good ear and a quick tongue» / «Если у нее чуткое ухо и гибкий язык» [Шоу, 1986, c. 101]; «You know, she has the most extraordinary quickness of ear» / «у нее совершенно исключительный слух» [Там же, с. 129]).
С другой стороны, темы песен и даже некоторые фразы взяты из пьесы, но в основном это творчество поэта-песенника Лернера и композитора Лоу. Можно сказать, что создатели фильма-мюзикла использовали и развили остроумие и парадоксальность стиля Шоу, которые роднят его с ирландцем О. Уайльдом (см. например об английских экранизациях пьесы «Идеальный муж» [Bochkareva, Ponomarenko, 2017]).
Самое видимое отличие пьесы от фильма заключается в названии. Название пьесы Б. Шоу отсылает нас к греческому мифу о скульпторе Пигмалионе, изваявшем статую Галатеи. В этом мифе потрясенный красотой собственного творения художник умоляет Афродиту оживить мраморную статую. Галатея обретает душу, становится прекрасной женщиной и выходит замуж за Пигмалиона (см.: [Пигмалион,1998, c. 365]).
Шоу иронически сравнивает Альфреда Хиггинса с Пигмалионом. В случае с мюзиклом и фильмом отсылка к мифу в названии утрачивается. Однако и здесь вариативно повторяются слова Хиггинса о том, что он «создал» Элизу (в пьесе: «You will jolly soon see whether she has an idea that I havnt put into her head or a word that I havnt put into her mouth. I tell you I have created this thing out of the squashed cabbage leaves of Covent Garden; and now she pretends to play the fine lady with me» [Шоу, 2001, c. 135]. В фильме: «I'm to put on my Sunday manners for this thing that I created out of the squashed cabbage leaves of Covent Garden?» [Context, 1995, c. 108]).
Вместе с тем, в фильме акцентируется мотив Золушки: Элиза танцует с принцем на балу в Букингемском дворце и воспринимается всеми как неизвестная принцесса.
В фильме по сравнению с пьесой также добавлены некоторые сцены. Например, обучение Элизы правильному произношению. В фильме она учится произносить звук «h», проговаривая фразу «In Hartford, Hereford and Hempshire hurricanes hardly ever happen» таким образом, чтобы пламя свечи колыхалось от ее дыхания. Или сцена с камешками, которые Хиггинс засовывает Элизе в рот, чтобы она научилась четко проговаривать слова.
Такие сцены способствуют более детальному погружению зрителя в процесс обучения, демонстрируют конкретные методические приемы, позволяют актерам выразить свое мастерство, а также создают комический эффект и непосредственно раскрывают сложный характер взаимоотношений учителя и ученицы.
Некоторые сцены, например, где Элиза после неудачной попытки правильно произнести алфавит злится на профессора Хиггинса и мечтает наяву, что по приказу короля его расстреливают, или, где Фредди, томящийся от любви к Элизе, оставляет ей цветы, расширяют жанровые приемы романтической комедии, используя визуальные возможности кинематографического монтажа.
Следует также отметить, что сцена с приемом у миссис Хиггинс, где Элиза демонстрирует первые результаты своего обучения, заменена сценой со скачками в Аскоте, где, помимо миссис Хиггинс, миссис Эйнсфорд Хилл и ее сына Фредди, появляются новые персонажи, а именно леди Боксингтон и лорд Боксингтон. Клара, сестра Фредди, в экранизации отсутствует.
Возможно, режиссер сделал замену сцен, чтобы придать большую важность и торжественность данному событию. На скачках присутствовало огромное количество людей, причем знатного происхождения – герцоги, лорды, графы и так далее. Это заставляет зрителя с большим беспокойством переживать за судьбу героини.
Особое внимание в аспекте сравнения пьесы и экранизации следует уделить развязке. Экранизация показывает нам «романтическую» развязку с возвращением Элизы к профессору Хиггинсу. В пьесе же финал остается открытым.
По мнению немецкого литературоведа Ф. Деннингхауса, изменение финала в фильме способствует неверному истолкованию социально «детерминированной» пьесы: «Элиза уясняет себе, что, несмотря на успешное завершение занятий по языку, на изменение среды, овладение ею всеми формами поведения, она не превратилась еще в настоящую леди, а стала лишь горничной, секретаршей или собеседницей двух джентльменов. Она делает попытку миновать эту судьбу путем бегства. Ей претит мысль о том, чтобы стать женой богатого джентльмена, она хочет зарабатывать на жизнь собственным трудом» [Деннингхаус,1978, c. 147-148].
Борясь против однозначной «романтической» трактовки финала пьесы, Б. Шоу в отдельно написанном «Послесловии» объясняет последующий жизненный путь Элизы и утверждает, что «реальное продолжение очевидно всякому, кто хоть немного разбирается в человеческой природе вообще и в женской интуиции в частности» [Шоу, 1986, c. 156].
Однако Ф. Деннингхаус преувеличивает, когда пишет, что она сама «преодолевает все трудности экономического порядка» и «совместно с Фредди» открывает «преуспевающий цветочный магазин» [Деннингхаус, 1978, c. 154]. По словам Б. Шоу, полковник Пикеринг «несколько лет принужден был держать на своем текущем счету в банке порядочную сумму, чтобы покрывать их убытки» [Шоу, 1986, c. 158].
Тенденциозно трактует Ф. Деннингхаус и будущие отношения Элизы с Хиггинсом: «Трудно себе представить, чтобы такая женщина согласилась играть роль домохозяйки у джентльмена-ученого, который на двадцать лет старше ее, и быть в финансовой зависимости от своего супруга» [Деннингхаус, 1978, c. 154].
У Б. Шоу в «Послесловии» они интерпретируются как сложная привязанность двух сильных личностей: «Просто удивительно, до какой степени Элиза ухитряется по-прежнему вмешиваться в домашнее хозяйство на Уимпол-стрит, несмотря на магазин и свою семью. И можно заметить, что мужа она никогда не шпыняет, к полковнику привязана искренне, как любимая дочь, но так и не избавилась от привычки шпынять Хиггинса, как повелось с того рокового вечера, когда она выиграла для него пари <…> И в то же время есть у нее ощущение, что безразличие его стоит большего, чем страстная влюбленность иных заурядных натур. Она безмерно заинтересована им. Бывает даже, у нее мелькает злорадное желание заполучить его когда-нибудь одного, на необитаемом острове, вдали от всяких уз, где ни с кем не надо считаться, и тогда стащить его с пьедестала и посмотреть, как он влюбится – как самый обыкновенный человек» [Шоу, 1986, c. 156]. Поэтому не удалась попытка поставить пьесу в соответствии с трактовкой Ф. Деннингхауса, а не Б. Шоу, где Элиза не любит Хиггинса [Образцова, 1977, c. 54-55].
Лернер, как и многие постановщики пьесы Б. Шоу, переработал финал для мюзикла «Моя прекрасная леди». В предварительных замечаниях к сценарию он пишет: «Я пропустил продолжение, потому что Шоу объясняет в нем, что Элиза вышла замуж не за Хиггинса, а за Фредди, но – да простит мне Шоу и небеса! – я не уверен, что он прав» (цит. по: [Деннингхаус, 1978, c. 157]).
Ф. Деннингхаус прав, когда утверждает, что в действительности Лернер «не только выпустил из виду “sequel”, но в интересах “поэтической справедливости” также основательно почистил последнюю сцену» [Там же]. Он перенес финальную картину в дом Хиггинса, куда возвращается Элиза в соответствии с жанром «романтической комедии», и повторил сцену с тапочками (вместо покупки перчаток у Шоу).
По словам самого Б. Шоу, в пьесе важную роль играет влюбленность Элизы в Хиггинса и его ответное чувство. Не случайно он называет ученицу Элизой, невольно вызывая в памяти читателя легендарную историю любви Абеляра и Элоизы. Написанное после неудачных театральных постановок «продолжение» вызвано, на наш взгляд, как требованиями социального реализма, так и полемическим характером драматурга.
Заключение
Таким образом, музыкальная экранизация позволяет обнаружить и развивает те потенциальные возможности пьесы, которые вызывали полемику у исследователей, постановщиков и автора. На наш взгляд, в пьесе-romance основной конфликт – социальный, но его «романтическое» разрешение подчеркивается тем, что миссис Хиггинс отправляется на свадьбу мистера Дулиттла (что делает закономерной и свадьбу ее сына с Элизой, хотя против этого впоследствии возражал сам Шоу).
В фильме социальный конфликт не разрешается и отходит на второй план (мистер Дулиттл получает деньги и собирается жениться, но возвращается в пивную к своим друзьям, и даже Элиза отказывается присутствовать на его свадьбе).
В соответствии с жанром музыкальной романтической комедии здесь акцентируется конфликт между холодным разумом, бессердечной муштрой и социальным снобизмом – с одной стороны, любовью и музыкой – с другой. В переломный момент обучения, когда Хиггинс с восторгом говорит о музыкальности английского языка, Элиза понимает его, делает успехи в произношении и сменяет ненависть на любовь, которая побеждает и в финале.
Список литературы Сравнительный анализ пьесы Б. Шоу "Пигмалион" и фильма-мюзикла "Моя прекрасная леди"
- Балашов П.С. Поборник правды // Бернард Шоу. Избранное. Москва: Прогресс, 1977. С. 5-25.
- Бочкарева Н.С., Новокрещенных И.А. Проблемы взаимодействия литературы и других искусств в контексте интермедиальности (опыт кафедры мировой литературы и культуры Пермского государственного национального исследовательского университета) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2017. Т. 9. Вып. 2. С. 117-130.
- Гражданская З.Т. Бернард Шоу: Очерк жизни и творчества. 2-е изд. Москва: Просвещение, 1979. 175 с.
- Деннингхаус Ф. Театральное призвание Бернарда Шоу / Пер. А.С. Кортикова, С.В. Рожновского. Москва: Прогресс, 1978. 328 с.
- Нартов К.М. Зарубежная литература в школе. Пособие для учителей. Москва: Просвещение, 1976. 287 c.