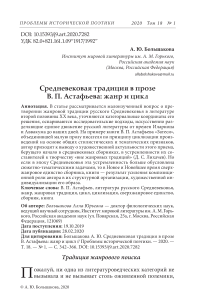Средневековая традиция в прозе В. П. Астафьева: жанр и цикл
Автор: Большакова Алла Юрьевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается малоизученный вопрос о претворении жанровой традиции русского Средневековья в литературе второй половины ХХ века, уточняются категориальные координаты его решения, оспариваются исследовательские подходы, искусственно разделяющие единое движение русской литературы от времен Илариона и Аввакума до наших дней. На примере книги В. П. Астафьева «Затеси», объединившей малую прозу писателя по принципу циклизации произведений на основе общих стилистических и тематических признаков, автор приходит к выводу о художественной актуальности этого приема, берущего начало в средневековых сборниках, в устремленности их составителей к творчеству «вне жанровых традиций» (Д. С. Лихачев). Но если в эпоху Средневековья эта устремленность больше обусловлена сюжетно-тематическими задачами, то в Новое и Новейшее время сверхжанровое единство сборника, книги - результат усиления композиционной роли автора в их структурной организации, художественной индивидуализации его образа.
В. п. астафьев, литература русского cредневековья, жанр, жанровая традиция, цикл, циклизация, сверхжанровое единство, сборник, книга
Короткий адрес: https://sciup.org/147226246
IDR: 147226246 | УДК: 82.0+821.161.1.09“1917/1992” | DOI: 10.15393/j9.art.2020.7282
Текст научной статьи Средневековая традиция в прозе В. П. Астафьева: жанр и цикл
Традиция жанрового поиска
Пожалуй, ни одна из литературоведческих категорий не вызывала и не вызывает столь оживленной полемики, как та, что в системе русской поэтики именуется введенным еще А. Н. Веселовским термином «жанр»1. Вместе с тем очевидно, что сам факт унаследования современной литературой жанров русского Средневековья a priori считается доказанным и потому не нуждающимся в пояснениях: жанровая традиция существует, анализу подлежат лишь способы и особенности ее претворения. И все же пояснения необходимы.
Исследований жанровой традиции в литературе Новейшего времени (особенно второй половины ХХ в.), к сожалению, не так уж много, и если они и не согласуются с обозначенной предустановленностью, то, как правило, лишь в плане цитирования и апелляций к авторитетам. «Тип произведения», «инвариант структуры», «содержательная форма», «память искусства» — все эти определения, конечно, приводятся, но по большей части вне их эстетической наполняемости соответствующим историко-культурным контекстом и без «достаточно убедительных» толкований жанра как закона художественного творчества2, что, с одной стороны, дает основание время от времени объявлять эту категорию теоретической фикцией3, выдумкой литературоведов и критиков4, а с другой — приписывать жанрам прошлого не присущие им значения, смешивать собственно жанровые признаки с тематическими и даже стилистическими.
Но вот парадокс: признавая, что восприятие старинных жанров «с известной долей модернизации <…> крайне вредит их исследованию»5, ученые и литераторы тем не менее оценивают их, руководствуясь именно современными представлениями, что такое жанр. Исходя именно из современного понимания его сущности и роли в творческом акте, относят, к примеру, «Слово о полку Игореве» к разряду лиро-эпических поэм [Робинсон], [Рыбаков], [Чивилихин], а «Житие протопопа Аввакума» — к автобиографической повести, тяготеющей к нравоучительному роману [Гусев]6. И это правильно. Элементы системы не могут быть истолкованы через самих себя: необходим объяснительный принцип, взятый из другой, более универсальной системы.
Другой аспект проблемы (наряду с трудностями в разграничении жанровых, тематических и иных признаков7)
заключается в непроясненности отличия жанровой эволюции 8 от жанровой традиционности 9, а последней, в свою очередь, — от жанровой традиции, под которой мы понимаем избирательное использование писателями жанров прошлого с целью программирования читательского восприятия в заданном русле. К сожалению, вопрос об эстетической составляющей в этих процессах большинство исследователей литературы русского Средневековья сводит лишь к общей констатации: средневековый автор — не творец новой эстетической реальности, а переписчик, смиренный записыватель Божественного откровения. «Древнерусская литература, — пишет А. Н. Ужан-ков, — относится к “области бессознательного”, но не в том смысле, что автор не сознает, о чем и что он пишет, но в том плане, что автор, будучи духовно развитой личностью, способен по Благодати уловить волю Творца, подчиниться ей и зафиксировать Божественное откровение (теофанию) в создаваемом сочинении. Тут-то и возникает вопрос: кому, в авторском плане, оно принадлежит? Древнерусский книжник на своем авторстве не только не настаивал, но и всячески старался дистанцироваться от сочинения (отсюда доминирующая анонимность древнерусских произведений или неверно указанное авторство, как правило, богословских авторитетов прошлого)» [Ужанков: 97].
Но вот три версии авторства поэмы «Слово о полку Игореве», по своей художнической дерзости и свободе обогнавшей даже XIX век.
-
1. Версия Н. В. Шарменя — В. А. Чивилихина : автор «Слова» — сам князь Игорь, вынесший свое имя в ее название: «Слово…» (обозначение жанра), «…о полку Игореве…» (тема). Чья поэма? «Игоря сына Святославля внука Ольгова» (имя, отчество и фамилия автора) [Чивилихин: 597].
-
2. Версия Ю. Н. Сбитнева : автор — дочь персонажа поэ-мы, великого князя Святослава Всеволодовича, Болеслава. Основана на реконструкции скрытой в конце текста подписи: «Рекъ Боян и ходы на Святъславля пестворица старого времени Ярославля Ольгова коганя хоти» (курсив мой. — А. Б .). На самом деле это темное место следует читать так: «Рекъ бояни ходына Святъславля, пестворица старого времени, Ярославля
-
3. Версия В. Д. Воробьева — Б. П. Агеева : автор — Владимир Святославович, сын князя Игоря. При разбивке Воробьевым текста на ритмизованные единицы первые буквы описания подготовки русского войска к первой битве и начала битвы с половцами образуют акростих: «Володмери слово писа-са» (см.: [Агеев]).
Ольгова коганя хоти» (курсив мой. — А. Б .) [Сбитнев: 14] — т. е.: рассказала сие дочь (киевского князя) Святослава и отвергнутая жена (Владимира, сына галицкого князя Ярослава), лето-писица старого времени, Ольги (жены) Ярослававой дитя любимое.
Речь, конечно, не об опровержении устоявшегося мнения. Анонимность, безусловно, имела место, но не в сочинениях, так сказать, штучного порядка, а по большей части в хрониках, летописях, при объединении произведений в циклы, составлении сборников.
Продолжим, однако, мысль о сознательном использовании жанрового наследия с целью программирования читательской рецепции.
По мнению В. Е. Гусева, обобщившего в статье «О жанре Жития протопопа Аввакума» работы предшественников — Н. К. Гудзия, В. В. Виноградова, В. П. Адриановой-Перетц, Д. С. Лихачева и др., «не литературная традиция, а прежде всего своеобразие самого жизненного материала, реальное содержание жизни самого Аввакума <…> подсказывали Аввакуму-писателю и адекватную форму отражения этого материала — сложное, развернутое повествование с широким социальным фоном, с большим количеством действующих лиц, с главным героем в центре; повествование, в котором органически сливались картины быта и религиозные рассуждения, героическое и обыденное, трагическое и комическое» [Гусев: 197].
Ничуть не возражая против данного вывода, тем не менее считаю необходимым дополнить его следующим уточнением: для организации столь «сложного, развернутого повествования» была использована все-таки прежняя жанровая форма, решительно деформированная в сторону романного повествования лишь в последующие времена. В Новом и Новейшем времени в ряду таких жанровых фигур узнавания — и «Житие одной бабы», и «Захудалый род. Семейная хроника князей Протозановых (Из записок княжны В. Д. П.)» Н. Лескова, и «Кануны. Роман-хроника 20-х годов» В. Белова, и «Видение» В. Астафьева.
Можно утверждать, конечно, что здесь мы имеем дело с терминологическими двойниками. Бывает и так. И для доказательства того, что перед нами не жанр-омоним, а действительно правнук или внук по линии родства-традиции, надо сопоставлять не только сходные образы, темы и идеи, а жанровые структуры в целом: включая композицию, в т. ч. разбивку текста, повторы фраз, как, к примеру, это сделали В. А. Стадниченко и Н. П. Хрящева в разборе миниатюры «И прахом своим» из книги В. П. Астафьева «Затеси». Сопоставив «параболическую» структуру древней притчи с иносказанием современного писателя, исследователи убедительно доказали намеренное ее разрушение с целью изменения читательских ожиданий: всепримиряющей гармонии нет, «человеческий мир выходит из подчинения закону природной Мудрости, его “взламывает” война» [Стадниченко, Хряще-ва: 132]. Назидание и форма растворились друг в друге, остались лишь боль, печаль и то неизбывное, что во всей полноте способны выразить только стихи:
«С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь»10.
А это уже из всечувствования средневекового сказителя:
«Протопопица, бедная, бредет-бредет да и повалится — коль-ско гораздо! В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человек на нея набрел, тут же и повалился; оба кричат, а встать не могут. <…> Я пришол, — на меня, бедная, пеняет, говоря: “долго ли муки сея, протопоп, будет?” И я говорю: “Марковна, до самыя до смерти!” Она же, вздохня, отвещала: “добро, Петро-вичь, ино еще побредем ”» (курсив мой. — А. Б. )11.
«Еще побредем…» — и пусть душа «о станется чиста до конца, до смертного креста» 12.
Вот она, извечная дорогая истинного творца и поистине «самая жгучая, самая смертная связь»13 инварианта структуры произведения и поэтической картины мира, определяемой индивидуальным художническим мирочувствованием. Об этом, сосредоточась на пресловутой анонимности в характеристике средневековых жанров (как будто анонимность и безликость — одно и то же!), стараются не вспоминать. А зря — ведь без обращения к этому аспекту невозможно понять существо любой этнопоэтики — то, «чтo делает данную литературу национальной, в нашем случае — чтo делает русскую литературу русской» [Захаров: 113].
Циклизация и ее роль в формировании сверхжанрового единства
Впрочем, нельзя сказать, что вопрос вообще выпал из поля внимания исследователей литературы русского Средневековья. Одни ее своеобразие усматривают в особой «системе жанров», другие — во взаимодействии элементов в рамках одной жанровой модели, третьи — в эволюции жанров.
Действительно, жанровая палитра русской литературы XI– XVII вв. чрезвычайно разнообразна и не отличается особой устойчивостью. Все в ней зыбко, границы подвижны. «…Пос-тоянно возникают произведения, которые стоят особняком от традиционных систем жанров, разрушают их либо творчески объединяют. В результате поисков новых жанров <…> появляется много произведений, которые трудно отнести к какому-нибудь одному прочно сложившемуся, традиционному жанру. Эти произведения стоят вне жанровых традиций» [Лихачев, 1986: 83]. Суждение, требующее углубления в проблему жанрообразования. В частности, выявления возможных связей между жанровыми поисками в словесном творчестве средневековой Руси и — сходными явлениями в литературе относительной современности, на наших глазах переходящей в разряд исторического прошлого.
Симптоматично раздумье, высказанное еще в 1960-х гг. В. Солоухиным. Свою книгу малой лирической прозы «Капля росы» он открывает диалогом с воображаемым собеседником:
«— Ну, а теперь расскажи мне, что ты сейчас пишешь. — Я пишу книгу . — Повесть? — Н… не совсем. — Роман? — Нет. Ее совершенно нельзя назвать романом. — А, я знаю, ты опять пишешь очерки. — Вряд ли… — Так, видно, это будет нечто автобиографическое? — Смотря как понимать автобиографию. <…> — Так что же ты пишешь в конце концов? — Книгу … Это книга про мое родное село Олепино» (курсив мой. — А. Б .)14.
Недоумение «собеседника» очевидно. Ведь « книга » — понятие размытое и вроде бы внежанровое. Но выбрано автором оно как раз из-за функциональности: главная задача — соединить отдельные части в единое целое (образ Олепино); составить из «как бы отдельных и как бы разрозненных картин» — «одну, общую и цельную» [Солоухин: 4]. Установка на вольное собирание мозаики из разрозненных, кажется, осколков, фрагментов бытия принципиальна: здесь утверждение жизни жанра без регламентированных границ. Желание запечатлеть жизнь такой, какая она есть в реальности и в душе, в своем субъектном мире. Пусть в разорванном, хаотичном, мятущемся, странном, но — живом наперекор всему.
Можно сказать, сопротивление традиционности, жанровой регламентированности границ и определило в русской прозе второй половины ХХ в. возникновение особого сверхжанра, объединяющего самые разные типы произведений — от миниатюр, эссе, очерков до рассказов и повестей. Это не только упомянутые «Затеси» В. Астафьева, но и другие книги малой прозы: «Крохотки» А. Солженицына, «Камешки на ладони» В. Солоухина, «Мгновения» Ю. Бондарева, «Крупинки» В. Крупина.
У этой тенденции, берущей начало в составлении средневековых сборников, богатая родословная. В русской литературе Нового времени она проявилась в циклизации лирикоэпических произведений, начиная со «Стихотворений в прозе» И. Тургенева; дальнейшее развитие включает в себя «Маленькие рассказы» и «Рассказы в каплях» А. Куприна, «Короткие рассказы» И. Бунина, лирико-философские миниатюры М. Пришвина и др.
По мнению исследователей, такой способ авторского самовыражения и обусловил рождение нового (мета)жан-ра. Так М. Н. Дарвин определяет литературный цикл как
«сверхжанровое единство» [Дарвин: 14]. Ю. Д. Бурмистрова пишет, что «рассмотрение цикла как “наджанрового объединения” наиболее перспективно, поскольку такой взгляд учитывает как самодостаточность текста, входящего в цикл, так и его взаимосвязь с другими фрагментами цикла» [Бурмистрова: 74]. Согласно Л. Е. Ляпиной, «в новой литературе циклизация стала способом преодоления жанровой авторитарности — и одновременно средством создания качественно иных, новых жанровых форм» [Ляпина: 28].
Отмечу еще одну особенность: современное литературоведение рассматривает произошедшие за столетия изменения в представлениях о цикле/циклизации, опираясь преимущественно на образцы XIX–XX вв. Внимание к первоистокам ограничено обычно упоминаниями (к примеру, о Куликовском цикле, включающем «Задонщину», «Сказание о Мамаевом побоище» и др.). Между тем именно циклизация играла решающую роль в построении литературного пространства средневековой Руси посредством объединения мелких произведений в более крупные структуры — сборники, книги.
« Произведения постоянно включались в циклы и своды произведений. И это включение не случайно. Каждое произведение воспринималось как часть чего-то большего <…>. Ни одно из произведений Древней Руси — переводное или оригинальное — не стоит обособленно . Все они дополняют друг друга в создаваемой ими картине мира » (курсив мой. — А. Б .) [Лихачев, 1987: 12–14].
В результате такого «дополнительного», «амфиладного принципа» создавался уникальный по мощи и своеобразию «общий грандиозный ансамбль», в котором циклы и своды произведений слагались «в единое здание литературы» и в котором «самые противоречия составляли некое органическое явление, эстетически уместное и необходимое» [Лихачев, 1987: 8].
Но что такое средневековый литературный цикл? По определению А. С. Демина, это: «1) цепь отдельных законченных рассказов, 2) на однотипную тему, но о разных событиях, 3) объединенных в составе одного произведения или книги, 4) сходными мотивами, деталями, композицией и — главное — фразеологией» [Демин: 343]. По мнению О. Н. Бахтиной, средневековый цикл «характеризуется единым сюжетом, повторяющимися элементами в композиции и стиле, общей связующей идеей». Это «не просто тематическая подборка, хотя подобных примеров можно много найти в древнерусской литературе, а новая жанровая единица» [Бахтина: 47].
Если мы обратимся к практике Новейшего времени, то увидим, что многие из этих определений вполне применимы и к упомянутым ранее книгам малой прозы. Так, В. П. Астафьев жанр, точнее, сверхжанровое единство «Затесей» в их первой книжной публикации 1972 г. обозначил подзаголовком « Книга коротких рассказов»15. Это действительно «цепь отдельных законченных рассказов» о «разных событиях», внутренне сопряженных в раскрытии дополняющих друг друга тем, развитии общей идеи (защита человека и мира, природы и культуры, красоты и добра) и объединенных одним образом автора (авторским «я»).
Таким образом, и в этом отношении мы можем говорить о наследовании средневековой традиции, хотя с теоретической точки зрения вопрос о циклообразовании книги как особого метажанра безусловно нуждается в дополнительном освещении. Ведь «книготворчество как один из видов циклизации — это явление сложное и неисследованное. Современное литературоведение только приступает к изучению этой проблемы» [Белоусова, Дашевская: 11].
В русской прозе второй половины ХХ в. циклизация — не только опредмеченное мышление по доминантам («затесям», «зарубкам») с одновременным соединением разрозненных элементов («крохоток», «камешков», «песчинок») в круговороте бытия16, но и раздвижение пространственно-текстовых границ, в т. ч. благодаря унаследованной жанровой форме. И такие книги, как «Затеси», «Крохотки», «Крупинки», «Камешки…», подтверждают это. Они могут наращиваться, пополняться новыми произведениями, т. е. фактически рождаться заново на наших глазах, преодолевая тем самым норматив деления жанров по формально-количественному признаку (малая, средняя или большая форма)17. Отсюда и свобода их жанровых перевоплощений: постоянное пополнение новыми разделами, колебание объема от сравнительно небольшого цикла до масштабной книги — сверхжанрового единства, вмещающего в себя исторические судьбы нации.
Традиция преодоления традиции: книгаВ. П. Астафьева «Затеси»
Рассмотрим теперь подробнее жанровую эволюцию в прозе В. П. Астафьева. Этот замечательный мастер слова отличался склонностью к неустанному переписыванию и изменению собственных текстов, опубликованных в разных и порой существенно отличающихся друг от друга редакциях. Таким образом, автор представал перед нами и как первый читатель своих текстов, и как скриптор, соавтор-переписчик, создающий в духе высокого Средневековья все новые тексты на основе прежних, выступающих в роли претекстов. Другой особенностью Астафьева была склонность к достраиванию своих произведений: объединению их, старых и новых, во все более разраставшуюся по объему и структуре книгу — связанный единым автором-повествователем сборник рассказов, повестей («Последний поклон»), лирико-философских миниатюр («За-теси») — по методу циклического расширения. Напомню, главное отличие Нового и Новейшего времен, продолживших средневековую линию жанрообразования, состоит в художественной индивидуализации авторской личности. У Астафьева «суммируемые» произведения — не просто тексты одного автора, явленного в различных жанрово-стилистических обличиях. Это разные грани одной личности, данной в возможном ее развитии, с постепенным вычленением из пестрой жанровой палитры костяка будущей книги, нового отдельного сборника.
Особое значение именно сборника в своем творчестве отмечал сам писатель в предисловии «Подводя итоги» к собранию сочинений 1997–1998 гг.: автор-составитель не должен руководствоваться рационально-волевыми методами; процесс должен быть естественным, книга — вызревать постепенно. «Браться писать сборники рассказов не должен и опытный автор — сборник, он на то и сборник, чтоб накапливать его годами, иногда и десятилетиями…»18.
Попробуем проследить общие очертания процесса.
Еще первые, опубликованные в 1960-х гг. сборники рассказов Астафьева «Зорькина песня» (1960), «След человека» (1962), «Помню тебя, любовь» (1963), «Весенний остров» (1964), «Поросли окопы травой» (1965), «Синие сумерки» (1968) и др. состояли из произведений трех планов:
-
— отдельные, не связанные между собой рассказы, которые затем входили в другие сборники, многократно перепечаты-ваясь (такие известные рассказы, как «Сибиряк», «Солдат и мать», «Васюткино озеро», «Руки жены» и др.);
-
— рассказы, которые затем образовали первую книгу «Последнего поклона» — сборник прозы, за десятилетия увеличившийся от одной книги в 1960-х гг. до трех (в собрании сочинений 1997–1998 гг.);
-
— выходившие под общим жанровым именованием («рассказы») «короткие записи-миниатюры», как впоследствии попытался обозначить их жанровую особенность автор (1, 536)19, эссе, заметки и прочие произведения малой прозы, которые постепенно собирались воедино под общим названием «За-теси».
«Принцип, по которому Астафьев собирал миниатюры в циклы, названные Тетрадями, готовя к изданию свое Собрание сочинений, еще не вполне разгадан исследователями» [Хряще-ва: 137]. Действительно, о «Затесях» литературоведами написано немало, но или в общем плане [Блинова], или в сугубо тематическом [Зыкова], или жанрологическом, но слишком субъективном [Зубков] (см. прим. 19), касающемся отдельных аспектов [Стадниченко]. К сожалению, сейчас интерес астафье-ведения к этой книге слабеет. Так, в сборниках последних «Астафьевских чтений» 2017–2019 гг. лишь одна статья посвящена «Затесям», причем ее автор рассматривает их с точки зрения не литературы, а методики лингвострановедческой работы: на основе «лингвокультурологического анализа миниатюры В. П. Астафьева “Ах ты, ноченька” с целью разработки лингвистического компонента содержания обучения русскому языку как иностранному» [Голощапова: 352].
В предисловии к полному собранию сочинений Астафьев упоминал, что его принцип текстовой организации можно назвать «лоскутным одеялом» — собирание воедино самых разных «отдельных кусков и рассказов» (1, 53): историй, впечатлений, наблюдений, мыслей вслух, зарисовок. Симптоматично, что все эти текстовые «лоскуты» в разных сборниках вступали в самые различные сочетания, и фрагменты книг «Последний поклон» и «Затеси» вначале входили в одни и те же сборники, но всякий раз в новом количественном составе и порядке следования, в зависимости от выбора составителя. Публиковались они и отдельно в периодической печати: как самостоятельные произведения, которые затем — уже в книгах-сборниках — выстраивали некое сверхжанровое единство.
Как это происходило?
Первый опыт собирания миниатюр, которые позже получают именование «затеси», в отдельный цикл состоялся в сборнике 1964 г. «Весенний остров». Примечательно, что первое название этого цикла «Дыхание родной земли», объединивший 11 будущих «затесей», еще не имело жанровой нагрузки. До того, как появиться на обложке отдельной книги, именование « Затеси » было введено в сборник прозы Астафьева «Поросли окопы травой» (1965)20 — опять же на уровне названия цикла . Сборник делится на два цикла. В первый — «Рассказы» — включены и оставшиеся самостоятельными произведения («Два солдата», «Солдат и мать», «Старая лошадь» и др.), и рассказы, затем вошедшие в «Последний поклон» («Конь с розовой гривой», «Далекая и близкая сказка») в его первом отдельном книжном издании в 1968 г. Второй цикл сборника получил именование «Затеси» и включал миниатюры — фрагменты будущей отдельной книги («Весенний остров», «Марьины коренья», «И прахом своим…» и др.). Хотя, надо заметить, единство складывалось неоднозначно — авторский выбор менялся со временем. И, к примеру, включенный первоначально в цикл «Затеси» рассказ-зарисовка «Деревья растут для всех», где фигурируют персонажи «Последнего поклона» (бабушка Катерина Петровна и внук Витя Потылицын), естественно перейдет в упомянутую книгу21.
В книжном варианте «Затеси» вышли в 1972 г. объемом в 238 страниц. В издании 1982 г. книга уже выросла до 325 страниц и состояла из 6-ти циклов; в собрании сочинений 1997 г. (544 с.) — из 7-ми; а в последнем (посмертном и наиболее полном — 687 с.) издании 2003 г. — из 10-ти (в книгу вошли три новых цикла, изданных в сборниках «Благоговение» 1999 г. и «Пролетный гусь» 2001 г.).
Еще при жизни писателя эти циклы получили именование « тетради ». Наверное, на уровне культурного бессознательного автор тем самым стремился подчеркнуть рукописность книги — по аналогии с образцами рукописного письма средневековой Руси, когда тексты записывались в разрезанные разлинованные тетради (или свитки), которые располагались на коленях у писцов. Аналоги такой практики мы находим во второй половине ХХ в. у старообрядцев — к примеру, у писателя С. А. Носова, чья технология собирания рукописных текстов в тетради описана учеными: «На начальном этапе сборники представляли собой небольшие тетради по 8–10 листов, непереплетенные и несшитые. Ранние сборники (50–60х гг.) изготовлялись из разномастных листов, чаще всего из школьных тетрадей в линейку, косую линейку, в клетку, причем в некоторых случаях листы могли быть уже использованы школьниками с одной стороны, а некоторые листы вообще изготовлены из упаковочной бумаги. В поздних сборниках (1970-е гг.) тетради изготовлялись из листов одного формата: С. А. Носов покупал готовые наборы почтовой бумаги, на этой бумаге он и письма писал, и делал из них тетради, затем тетради переплетал. Он сшивал тетради нитками, затем формировал из них блоки и подбирал переплет» [Мелихов: 122].
У Астафьева «тетрадный» вопрос — всегда вопрос художественного содержания. Один из теоретических ключей к его разрешению мы находим в последних исследованиях жанра — к примеру, в лингвистическом анализе жанра личного дневника, к которому близки «Затеси» по «тождеству иллокутивно-интенционального содержания (фиксации каждодневных событий, установки на исповедальность)» [Рабенко: 251]. Такого рода исследования доказывают движение жанра в историческом времени по «принципу объединения разных вариан-тов и вариаций (жанровой модели. — А. Б.) в единый инвариант» [Рабенко: 251]. Тогда в процессе модификации основной модели мы получаем «жанровые варианты некоего инварианта» [Рабенко: 251] — будь то издавна сложившийся инвариант объединения текстов в сборник или модификации средневековых жанров — жития, летописи, видения… В случае с Астафьевым вопрос осложнен еще тем, что его «художественная система… противится жанровой монологичности» [Щербакова: 176], каким-либо каноническим рамкам.
В изданиях разных лет мы сталкиваемся с парадоксальными высказываниями писателя, отказывающегося признавать за своими текстами власть жанрового канона. «Меня часто спрашивают на встречах и в письмах: что такое затеси? Откуда такое название? — пытался объяснить жанровую “вне-находимость” своей книги Астафьев. — Чтобы избежать объяснений, первому изданию “Затесей” (“Советский писатель”, 1972) я дал подзаголовок “Короткие рассказы”. Но это неточно. Рассказов, как таковых, в той книге было мало, остальные миниатюры не “тянули” на рассказ, они были вне жанра, не скованные устоявшимися формами литературы » (курсив мой. — А. Б .) (7, 537).
Кажется, после такого утверждения невозможно свести астафьевские затеси к какой-либо жанровой модели. Но не напоминает ли такая «внежанровость» уже знакомую по литературе русского Средневековья поисковую ситуацию? «В результате поисков новых жанров <…> появляется много произведений, которые трудно отнести к какому-нибудь одному прочно сложившемуся, традиционному жанру. Эти произведения стоят вне жанровых традиций » (курсив мой. — А. Б .) [Лихачев, 1986: 83].
Вместе с тем мы не вправе игнорировать главный признак литературности текста — его жанровую организацию и определенность. В астафьевских «Затесях» жанровая определенность являет себя в циклизации как литературном приеме, посредством которого общий смысл книги прочитывается на пересечении границ отдельных частей целого (противоположных по эстетическому содержанию миниатюр, объединенных в тетради-циклы) и самого целого (сборника) как некоего метажанра. Его объединяющее книгообразующее начало — идея России , возвышенная по сути, пафосу утверждения даже через самоотрицание.
«Превращая страну в помойку, в отвальный овраг для радиационного и всякого другого заразного и губительного мусора, небо — в темную адскую завесу, — и все это во имя спасения нас, бедных, хозяева отечества нашего породили совершенно наплевательское отношение народа к себе и к своей земле. И чем дальше вглубь тем неряшливей, грязней наша белая Русь. Паршой и ржавчиной она покрыта, гибнущим лесом завалена, прокислой, гнилой водой рукотворных морей залита…» («Ужасная дыра» — 7, 133).
Резкие и горькие строки распада и отчаяния («Российское разгильдяйство», «Ужасная дыра», «Предел» и др.) преодолеваются высоким авторским настроем, запечатленным в названиях циклов-тетрадей: «Благоговение», «Древнее, вечное», «Видение», «Последняя народная симфония». Образ целого рождается на границе прекрасного/возвышенного и безоб-разного/низменного, жизни и смерти, сна и яви, веры и безверия, прошлого и настоящего, отражая сдвинутую, хаотичную реальность и — волю автора (и русской идеи в высших устремлениях) к преодолению хаоса гармонией, космосом Бытия.
«Я смотрел на залитый солнцем храм. Озеро уже распеленалось совсем, туманы поднялись высоко, и ближний берег темнел низкими лесами, а дальний вытягивался рваным пояском. Среди огромного, бесконечно переливающегося бликами озера стоял на льду храм — белый, словно бы хрустальный, и все еще хотелось ущипнуть себя, увериться, что все это не во сне, не миражное видение, на которое откуда бы ты ни смотрел, все кажется — оно напротив тебя, все идет будто бы следом за тобою» («Видение» — 7, 69).
Связь между отдельными миниатюрами как составляющими того или иного цикла и самими циклами как составляющими всей книги — не столько в тематической или сюжетной последовательности, сколько в объявленном самим автором принципом движения «по затесям»22. В смене авторских состояний — лирико-философских умонастроений, публицистического пафоса, позиции к предмету изображения (точки зрения). Процитированные строки из второго цикла «Видение» (начало затеси «Ужасная дыра») предваряются авторским утверждением веры (финал предыдущей затеси
«Манская грива»): «Природа наша и народ наш похожи друг на друга, они способны воскресать из праха» (7, 132).
Так на страницах астафьевских произведений, в частности, и деревенской прозы, в целом, воскресает и претворяется средневековый жанр-«ансамбль», соединяющий разнородные и разновременные части по амфиладному принципу. «Сейчас мы требуем от художественного произведения полного единообразия стиля, жесткого единства идей, полного отсутствия швов и различий в отдельных частях, — отмечал Д. С. Лихачев. — Художественное единство в Древней Руси понималось гораздо шире. Это могло быть единство ансамбля, создававшегося в течение ряда десятилетий и сохранявшего авторские особенности в каждом из своих разновременных слоев» [Лихачев, 1987: 37].
Амфиладно-ансамблевый принцип построения таких книг, как «Затеси», предполагает их открытость во времени: постоянное расширение состава за счет новых текстов; изменение прежних в процессе авторского переписывания, перегруппировку внутри циклов и т. п. Вместе с тем разновременные части целого образуют не только различные по содержанию тексты, но и различные жанры — лирико-философская миниатюра, рассказ, записки, зарисовка, притча, легенда и др.
Использование средневековых жанров, — о чем свидетельствует в астафьевских «Затесях» цикл « Видение » и давшее ему название затесь о явлении старинного храма на северном русском озере, — доказывает невозможность свести размышления о жанровой природе подобной книги лишь к привычному определению «книга миниатюр». Перед нами — претворение жанра видения23 не только как основного в одноименном разделе-цикле, но и как определившего художественную организацию всей книги, если рассматривать ее с точки зрения нравственно-эстетического идеала, утверждаемого писателем при сохранении правды жизни: ведь издавна «видения читались как документальные свидетельства» [Соболева: 154]. Идеал Жизни и Красоты, возвышенный в своих христианских основах, разными художественными гранями проявляется и в других миниатюрах цикла, утверждающих тезис Прекрасное есть
Жизнь («Как лечили богиню», «Гимн жизни», «Божий промысел», «Домский собор» и др.).
-
* * *
Подводя итоги, замечу, что возникшая еще на заре русской словесности тенденция имеет свои параллели в литературе европейского Возрождения, развивавшейся в тот период, когда на Руси царило Средневековье. Подчеркну: Средневековье не как временной период, но — особый тип бытия. И тяготение русской прозы второй половины ХХ в. к книге, сборнику, построенному по модели «повествования в рассказах» или «книги новелл», обращает нас не только к нашим истокам, но и к европейскому аналогу — объединенным сюжетно-повествовательной рамой «Кентерберийским рассказам» Дж. Чосера, «Декамерону» Дж. Бокаччо или, к примеру, «Новеллино» Мазуччо, где отдельные истории соединены «сквозным» образом автора-повествователя, выносящего свое морализирующее послесловие — «мазуччо». Парадоксальный момент, с точки зрения развития жанра: «книга новелл» в XIV–XVI вв. — предтеча романа, тогда как возвращение в русской литературе к жанру «книги-сборника» (или, в модифицированном варианте, — к повествованию в рассказах) во второй половине ХХ в. можно определить как альтернативу выхолощенной модели соцреалистического романа.
Тем не менее само обращение к форме «повествования» несет отпечаток и средневековой письменной культуры, и фольклорных форм, возвращает нас и к жанру европейского «фольклорного повествования» XVI в. Углубление в народную память объединяет произведения, разделенные столетиями: эти «повествования складываются на основе многообразного, подчас уходящего корнями в глубокую древность фольклорного материала» [Кожинов: 106]. Таким образом, линия жанрового обновления в русской литературе Новейшего времени преломлялась через многовековую традицию не только национальной, но и мировой литературы и фольклора.
двадцатых годов, но, если верить современным исследователям, такое же положение сохранилось и сейчас — различия в оценках не существенны…» [Захаров: 40].
См. об этом: [Лейдерман: 12].
В Древней Греции слово «цикл» (κύκλος — в переводе с греч. «круг», «круговорот», лат. ciclus) обозначало сосредоточение и изображение некоего ряда событий, либо фактов внутри круга, т. е. имело, может быть, еще и такой смысл, который мы вкладываем сегодня в понятие «эн-цикло-педия» (от греч. ἐνκύκλιος παιδεία — в круге обучения).
Список литературы Средневековая традиция в прозе В. П. Астафьева: жанр и цикл
- Агеев Б. П. А такой рати еще не слыхано! Слово о полку Игореве в религиозном контексте [Электронный ресурс]. - URL: http://rospisatel.ru/ageev-slovo.htm (12.10.2019)
- Бахтина О. Н. О жанрообразующей роли циклизации в древнерусской литературе // Проблемы метода и жанра: cб. науч. ст. - Томск: Изд-во ТГУ, 1989. - Вып. 15. - С. 46-57.
- Белоусова О. О., Дашевская О. А. Поэтика цикла и книги в современном литературоведении // Вестник Томского государственного университета. - 2014. - № 389. - С. 6-14.
- Блинова О. И. "Затеси" в прозе и жизни Виктора Астафьева // Творчество В. П. Астафьева в контексте мировой культуры: Всероссийская конференция с международным участием. Красноярск, 26-27 апреля 2012 года. - Красноярск: Изд-во КрГПУ, 2012. - С. 24-28.
- Бурмистрова Ю. Д. "Стихотворения в прозе" И. С. Тургенева и проблема циклообразования // Вестник Московского государственного областного университета. - 2018. - № 4. - С. 72-80.
- Голощапова Т. А. Методика лингвострановедческой работы с "Затесями" В. П. Астафьева: дидактический потенциал // Творчество В. П. Астафьева в контексте национальной истории и культуры: мат. Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летнему юбилею В. П. Астафьева / отв. ред. Т. Н. Садырина; ред. кол.; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск: Изд-во КрГПУ, 2019. - С. 353-357.
- Гусев В. Е. О жанре Жития протопопа Аввакума // Труды отдела древнерусской литературы / АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Отв. ред. Д. С. Лихачев. - М.; Л., 1958. - Т. XV. - С. 192-202.
- Дарвин M. Н. Проблема цикла в изучении лирики. - Кемерово: Изд-во КГУ, 1983. - 103 с.
- Демин А. С. Циклы как форма // Демин А. С. Историческая семантика средств и форм древнерусской литературы (источниковедческие очерки). - М.: Издат. дом ЯСК, 2019. - С. 341-411. (Studia philologica)
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики: этнологические аспекты. - М.: Индрик, 2012. - 264 с.
- Зубков В. А. "Затеси" как жанровая доминанта поздней прозы В. Астафьева // Феномен В. П. Астафьева в общественно-культурной и литературной жизни конца ХХ века: cб. материалов I международной научной конференции, посвященной творчеству В. П. Астафьева. Красноярск, 7-9 сентября 2004 г. - Красноярск: Изд-во КрГПУ, 2005. - С. 74-78.
- Катаев В. П. Алмазный мой венец. - М.: Советский писатель, 1979. - 224 с.
- Кожинов В. В. Роман - эпос нового времени // Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении: в 3 т. / Акад. наук СССР. Ин-т мир. л-ры им. А. М. Горького; ред. кол: Г. Л. Абрамович и др. - М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1964. - T. II. Роды и жанры литературы. - С. 97-172.
- Лейдерман Н. Л. Теория жанра: Научное издание / Институт филологических исследований и образовательных стратегий "Словесник" УрО РАО; Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2010. - 904 с.
- Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. - Л.: Наука, 1986. - С. 57-78.
- Лихачев Д. С. Великий путь: Cтановление русской литературы XI-XVII веков. - М.: Современник, 1987. - 301 с.
- Лозинская Е. В. Жанр // Западное литературоведение ХХ века: Энциклопедия / Рос. акад. наук; ИНИОН; под ред. Е. А. Цургановой. - М.: Intrada, 2004. - С. 145-148.
- Ляпина Л. Е. Жанровая специфика литературного цикла как проблема исторической поэтики // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1990. - Вып. 1. - С. 23-30 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2341 (20.08.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.1990.2341
- Мелихов М. В. Жанрово-тематический состав рукописных сборников писателя-старообрядца С. А. Носова // Вестник Череповецкого государственного университета. - 2017. - № 6. - С. 121-127.
- Рабенко Т. А. Вариативное функционирование речевого жанра (на материале жанра личного дневника) // Сибирский филологический журнал. - 2018. - № 1. - С. 250-260.
- Робинсон А. Н. "Слово о полку Игореве" и героический эпос Средневековья // Вестник АН СССР. - 1976. - № 4. - С. 104-112.
- Рыбаков Б. А. Перепутанные страницы. О первоначальной конструкции "Слова о полку Игореве" // Слово о полку Игореве и его время / отв. ред. Б. А. Рыбаков. - М.: Наука, 1985. - С. 25-67.
- Сбитнев Ю. H. Тайны родного слова: Новое прочтение древнерусского текста "Слова о полку Игореве". - Чернигов: Троица, 2010. - 176 с.
- Соболева А. Б. Жанр видений в древнерусской литературе (на материале азбучного патерика) // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016. - № 4. - С. 153-169 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1482757395.pdf (20.08.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.2016.3763
- Стадниченко В. А. Поэтика видений в "Затесях" В. П. Астафьева // Уральский филологический вестник. Серия: Драфт: молодая наука. - 2018. - № 5. - С. 91-101.
- Стадниченко В. А., Хрящева Н. П. Семантика параболической структуры в миниатюре В. Астафьева "И прахом своим" ("Затеси. Тетрадь первая") // Филологический класс. - 2017. - № 4 (50). - С. 130-134.
- Тамарченко Н. Д. Жанр // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Рос. акад. наук; ИНИОН; под ред. А. Н. Николюкина. - М.: НПК "Интелвак", 2001. - Стб. 263-265.
- Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 334 с.
- Ужанков А. Н. Стадиальное развитие русской литературы XI - первой трети XVIII в. Теория литературных формаций. - М.: Изд-во Литературного института им. А. М. Горького, 2008. - 526 с.
- Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы / перевод с англ. А. Зверева, В. Харитонова, И. Ильина. - М.: Прогресс, 1978. - 325 с.
- Хализев В. Е. Теория литературы. - 3-е изд. - М.: Высш. шк., 2002. - 437 с.
- Хрящева Н. П. Способы трансляции природного сознания в "Затесях" В. Астафьева (на примере анализа лирических миниатюр "Хлебозары", "Сильный колос") // Филологический класс. -2018. - № 4 (54). - С. 137-142.
- Чивилихин В. А. Память: в 2 кн. - М.: Современник, 1984. - Кн. 1. - 640 с.
- Щербакова В. А. Жанровая специфика повести В. Астафьева "Перевал" // Неофилология. - 2019. - Т. 5. - № 18. - С. 170-177.