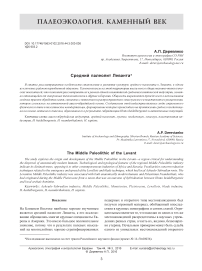Средний палеолит Леванта
Автор: Деревянко А.П.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Палеоэкология. Каменный век
Статья в выпуске: 3 т.44, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности становления и развития культуры среднего палеолита в Леванте, в одном из ключевых районов первобытной ойкумены. Технокомплексы на этой территории имели много общих технико-типологических показателей, что позволяет рассматривать их в рамках единой левантийской среднепалеолитической индустрии, заметно отичающейся от синхронных технокомплексов в Африке и Евразии. Общность выражается прежде всего в использовании сходных приемов обработки камня, связанных с появлением и распространением леваллуазского и пластинчатого расщепления, которое сложилось на автохтонной ашело-ябрудийской основе. Создателями этой индустрии являлись люди современного физического типа и палестинские неандертальцы, формирование которых происходило на протяжении среднего плейстоцена на основе метисного таксона, образованного в результате гибридизации Homo heidelbergensis и автохтонных популяций.
Ашело-ябрудийская индустрия, средний палеолит, мустье, плейстоцен, леваллуа, пластинчатая индустрия
Короткий адрес: https://sciup.org/145145769
IDR: 145145769 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.003-036
Текст научной статьи Средний палеолит Леванта
На Ближнем Востоке наиболее хорошо изученным является средний палеолит Леванта, к его исследованию обращались многие крупные специалисты Европы и Америки. Это имело большое положительное значение, потому что в результате полевых изысканий на многослойных хорошо стратифицированных пещерных и открытого типа местонахождениях был получен огромный материал, обобщенный впоследствии в крупных монографиях и сотнях статей. Отрицательным является то, что находки из одних и тех же местонахождений рассредоточены в научных учреждениях разных стран, а часть их, видимо, безвозвратно утеряна. Печальным примером может быть судьба одного из уникальных местонахождений открытого
*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).
типа Кзар-Акил, которое исследовалось различными специалистами. Его богатейшие коллекции хранятся в разных научных учреждениях, но некоторые артефакты, вероятно, утрачены [Marks, Volkman, 1986].
В данной работе мы проанализировали опубликованные результаты исследований среднего палеолита Леванта и сформулировали гипотезы по ключевым аспектам культурогенеза и антропогенеза на этой территории. При построении обобщений мы исходили из следующих базовых предположений. Средний палеолит Леванта принципиально отличался от среднекаменного века Африки и мустье Европы. Истоки среднего палеолита Леванта уходят в ашело-ябру-дийскую индустрию, поэтому необходимо отказаться от термина «мустье Леванта». Создателями мустьер-ской индустрии были европейские неандертальцы. В Леванте в среднем плейстоцене* с приходом на эту территорию H. heidelbergensis происходил эволюционный процесс, в результате которого сформировались H. sapiens (Схул и Кафзех) и палестинские неандертальцы (Амуд, Кебара, Табун).
Археологический аспект
Среднепалеолитические технокомплексы Леванта являются одними из ярких и оригинальных среди индустрий Африки и Евразии. Эту особенность подчеркивали многие исследователи [Bar-Yosef, 2006; Hovers, Belfer-Cohen, 2013; и др.]. Одна из первых исследователей среднего палеолита Израиля Д. Гаррод в пещере Табун в слоях D, С, В выявила индустрию, которая включала изделия как леваллуазские, так и типологически близкие к мустьерским ретушированным орудиям. Она назвала эту индустрию леваллуа-му-стьерской, разделив ее на раннюю (слои D, С), которая представлена треугольными отщепами и удлиненными заготовками, а также большим количеством орудий верхнепалеолитических типов, и позднюю (слой В и верхняя галерея) с большим количеством скребел и довольно редкими леваллуазскими остриями [The Stone Age…, 1937]. Причем и ранние, и поздние материалы, с точки зрения технологии, составляли определенное единство и отличались от синхронных европейских коллекций. Мнение Д. Гаррод по проблеме градации среднего палеолита Леванта находит поддержку у большинства исследователей до конца 1940-х гг., а ее технологический подход к изучению каменных индустрий используется и сегодня.
С 1950-х гг. леваллуа-мустье исследователи называют левантийским мустье.
Л. Коуплэнд разделила средний палеолит Леванта на три стадии – Табун D, С, В в соответствии с основной стратиграфической последовательностью в пещере Табун, являющейся уникальным палеолитическим памятником, материалы которого представляют единую линию развития каменных индустрий от ашеля до финала среднего палеолита [Copeland, 1975]. Это, конечно, не исключает возможность больших перерывов в осадконакоплении и заселении пещеры человеком.
Важно отметить, что пластины и орудия верхнепалеолитических типов спорадически обнаруживаются во всей стратиграфической последовательности отложений. Нижние слои пещеры (G и F) содержат тэйяк-скую индустрию развитого ашеля. В вышележащем слое Е найдены нелеваллуазские изделия из пластин в сочетании с ашело-ябрудийской индустрией с бифа-сами. Верхние слои пещеры (D, С, В) отнесены к среднему палеолиту [Монигал, 2001].
Исследователи среднего палеолита Леванта при изучении каменного инвентаря опираются в основном на его технологические характеристики. А. Маркс обращает внимание на то, что в процессе типологического анализа все специалисты выделяют определенные типы орудий: продольные скребла, концевые скребки; отмечают различия между ножами с обушком и плохо ретушированными скреблами. Однако такие орудия, как рекле и псевдолеваллуазские острия, выемчатые орудия и мустьерские транше не всегда определимы и не всеми исследователями включаются в типологические списки. Технологические характеристики данных орудий более показательны, чем их типологическая классификация [Marks, 1992].
Средний палеолит Леванта занимает особое место среди палеолитических индустрий второй половины среднего – первой половины верхнего плейстоцена. Во-первых, Левант был связан постоянным сухопутным переходом с Африкой, по которому беспрепятственно могли передвигаться популяции людей и животных. Во-вторых, существенные изменения природно-климатических условий в период 400–50 тыс. л.н. обусловливали частую смену адаптационных стратегий и способствовали появлению инноваций или возвращению старых способов в первичной и вторичной обработке камня. В-третьих, природно-климатические флуктуации вызывали миграции как внутри Аравийского полуострова, так и за его пределами. В-четвертых, палеолит Леванта, особенно Израиля, является одним из хорошо изученных в Евразии. В-пятых, на территории Леванта в среднем палеолите обитали два таксона: люди современного анатомического вида и палестинские неандертальцы.
Среднепалеолитические слои в пещере Табун датировались разными методами, и для них имеется доста-
Таблица 1. Даты для пещеры Табун, тыс. л.н.*
|
Слой (по Гаррод) |
Подразделение Елинека |
EU-, ESR-даты (средние значения) |
LU-, ESR-даты (средние значения) |
Усредненная дата (ESR-, и US-методы) |
TL-дата (средние значения) |
Осадочный материал |
|
Расщелина |
– |
– |
– |
– |
– |
Краснозем |
|
В |
– |
82 ± 14 |
92 ± 18 |
90+30-16 |
– |
Почва |
|
102 ± 17 |
122 ± 16 |
104+33 -18 |
||||
|
С |
I |
120 ± 16 |
140 ± 21 |
135+60 -30 |
165 ± 16 |
» |
|
D |
II |
133 ± 13 |
203 ± 26 |
143+41 -28 |
196 ± 21 |
Ил |
|
V |
– |
– |
– |
222 ± 27 |
» |
|
|
IX |
– |
– |
– |
256 ± 26 |
» |
*По: [Zviely et al., 2009].
точно много хронологических определений (табл. 1). Для отложений в пещере Табун, кроме указанных в таблице, имеются и другие даты. С учетом определений для других местонахождений, обнаруженных в регионе, этапы среднего палеолита Леванта можно датировать следующим образом: ранний – 260 (250)–165 (150) тыс. л.н., средний – 165 (150)–100 (90) тыс. л.н., поздний – 100 (90)–55 (50) тыс. л.н.
Ранний этап в развитии среднепалеолитической индустрии Леванта отличается высоким индексом пластин, удлиненными остриями, большим разнообразием орудий верхнепалеолитических типов (резцы, скребки, проколки, усеченные орудия, ножи со спинкой), которые встречаются в сочетании с более типичными для среднего палеолита скреблами различной модификации и зубчато-выемчатыми орудиями; некоторые типы изделий были характерны для ашело-ябрудийской индустрии.
Л. Мейгнен с учетом собственных моделей операционной цепочки и реконструкций Э. Боёды [Boёda, 1995] разделяет среднепалеолитические нуклеусы на две группы: для получения удлиненных заготовок (пластины и острия) и относительно удлиненных заготовок (пластины и удлиненные отщепы) [Meignen, 1994, 2000]. Для раннего этапа среднего палеолита Леванта наиболее типична технология первичного расщепления, прослеживаемая по материалам местонахождений Табун D, Рош-эйн-Мор [Marks, Monigal, 1995], Хай-оним, Абу-Сиф [Meignen, 1998, 2000; и др.]. Для этих и других местонахождений, расположенных в прибрежных и окраинных районах Леванта, характерна индустрия с высоким индексом пластин (рис. 1).
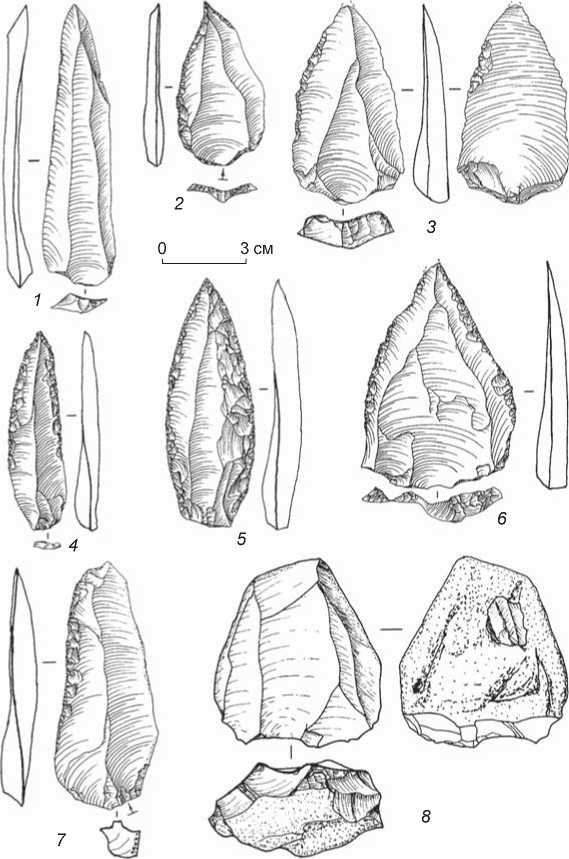
Рис. 1. Находки из местонахождения Табун IX [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2015].
1 – леваллуазский остроконечник; 2 , 3 , 6 – леваллуазские остроконечники с ретушью; 4 , 5 – ретушированные пластины; 7 – скребло с естественно притупленной спинкой; 8 – леваллуазский нуклеус.
Среди материалов левантийского раннего среднего палеолита преобладают одноплощадочные конвергентные, биполярные и объемные нуклеусы, в т.ч. призматические и пирамидальные для изготовления пластин одно-, двухнаправленного и центростремительного расщепления, а также ядрища, у которых в качестве рабочей площадки использовалась как вся поверхность, так и ее часть [Marks, Monigal, 1995; Монигал, 2001].
Р. Шимельмитц и С.М. Кун, анализируя находки из слоя Табун D, выявили еще одну очень важную особенность систематического расщепления ядрищ. В рамках одной последовательности обработки разных участков поверхности нуклеуса леваллуа изготав- в амудийской индустрии, обнаруженной в пещере Ке-сем [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011].
Подобное разнообразие технических систем оформления нуклеусов для получения различных заготовок было прослежено по ашельским комплексам Леванта [Goren-Inbar, Belfer-Cohen, 1998]. Указанными исследователями выдвинуто предположение о том, что каждый морфологический тип является отражением специфической стратегии расщепления нуклеуса.
Арте факты раннего этапа среднего палеолита из слоя Табун D отражают также использование нескольких технических систем изготовления каменных орудий [Meignen, 2000]. На территорию Леванта ливались пластины, отщепы леваллуа и леваллуазские в раннем плейстоцене и первой половине среднего острия, одновременно использовалась однонаправ- не проникали мигранты с другой технико-типоло- ленная техника, предусматривавшая редукцию ядри-ща [Shimelmitz, Kuhn, 2013]. Эта техническая традиция хорошо прослеживается на более раннем этапе гической индустрией, поэтому дальнейшее развитие среднепалеолитической индустрии типов Табун С и В основывалось на уже сформировавшейся индустрии раннего этапа среднего палеолита. Сле-
дует признать справедливым вывод Л. Мейгнен о том, что технология изготовления пластинчатых лезвий, распространенных в верхнем палеолите, базировалась на мустьерских (среднепалеолитических. – А. Д. ) знаниях, которые сформировались 150–200 тыс. л.н., задолго до появления морфологически современного человека [Ibid., p. 166].
С самого раннего этапа среднего палеолита на некоторых местонахождениях преобладали пластинчатые заготовки. Так, на местонахождении Табун D индекс пластин среди целых заготовок составляет 50,1. Индекс пластин в раннем среднем палеолите Леванта варьирует в пределах 20, хотя и скалывавшиеся с нуклеусов от-щепы, и острия часто использовались в качестве заготовок при изготовлении каменных орудий [Монигал, 2001]. Это предопределяло разнообразие стратегий первичного расщепления для получения заготовок. Удлиненные заготовки, обнаруженные в нижних горизонтах пещеры Хайоним (215–180 тыс. л.н.), на местонахождении Рош-эйн-Мор (210 тыс. л.н.), в ранне-, среднепалеолитических горизонтах пещеры Мислия (250–160 тыс. л.н.), – результат расщепления нуклеусов, напоминающих верхнепалеолитические и сосуществовавших с леваллуазски-ми ядрищами, которые служили для скалывания укороченных заготовок (рис. 2). Пластины
0 3 cм
Рис. 2. Находки из пещер Мислия ( 1–5 ) [Weinstein-Evron et al., 2015] и Хайоним ( 6–10 ) [Meignen, 2000].
1, 6–8 – остроконечники типа абу-сиф; 2 – остроконечник леваллуа; 3 – боковое скребло; 4, 5, 9, 10 – нуклеусы.
и пластинчатые заготовки часто использовали для различных операций без дополнительного оформления ретушью. Среди изделий со следами вторичной обработки преобладают скребла, удлиненные остроконечники, проколки, орудия усеченной формы, ножи со спинкой и др.
В целом ранне-, среднепалеолитическую индустрию Табун D характеризуют однополярные суживающиеся (подтреугольные в плане) нуклеусы, с которых скалывали заготовки в виде пластин и удлиненные острия. Правильные в плане пластины получали также из нелеваллу-азских нуклеусов. Отщепы и более короткие остроконечники с широким основанием скалывали с биполярных нуклеусов. В этой индустрии воплощены различные леваллуазские способы расщепления, в т.ч. снятие отщепов с овальных, радиально подготовленных нуклеусов. В ней нашла отражение не только доминировавшая леваллуазская система расщепления, но и другие стратегии редукции. Индустрии раннего этапа среднего
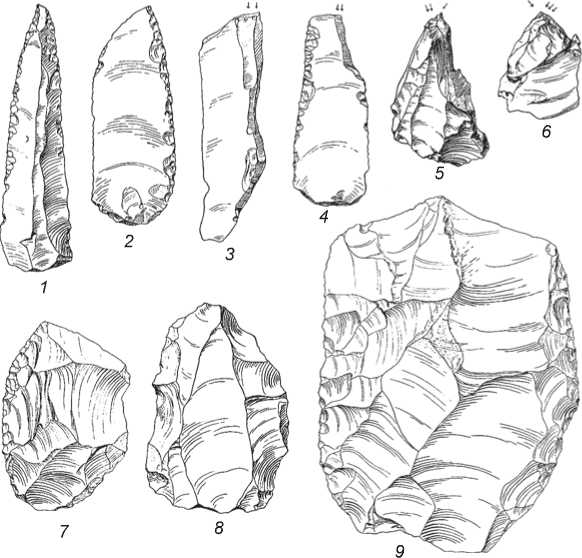
Рис. 3. Находки из местонахождения Табун С [The Stone Age…, 1937]. 1 – остроконечник; 2 – скребло; 3–6 – резцы; 7, 9 – скребла; 8 – нуклеус.
палеолита существовали на протяжении 100–90 тыс. лет. Этому длительному периоду соответствуют разное соотношение приемов леваллуаз-ского и нелеваллуазского расщепления, а также использование в качестве заготовок пластин и отщепов, что, видимо, было связано со сменой адаптационных стратегий. По основным технико-типологическим показателям индустрия раннего периода левантийского среднего палеолита близка к индустрии верхнего палеолита. Сходство проявляется в способах первичного расщепления и наличии скребков, резцов, проколок и некоторых других изделий.
Примечательно, что материалы раннего этапа среднего каменного века Африки, MSA I, принципиально отличающиеся от синхронных левантийских коллекций, также включают заметное количество верхнепалеолитических изделий и представляют стратегии первичного расщепления, которые исчезают на следующем этапе – MSA II. Подобное прослеживается по более поздней среднепалеолитической индустрии Табун С, которую ориентировочно следует отнести к 165 (150)–100 (90) тыс. л.н. На этапе левантийского среднего палеолита индустрия Табун С в значительной степени утратила пластинчатый характер (рис. 3). Почти исчезли нуклеусы, с которых производились однонаправленные снятия пластин и леваллуазских остроконечников. Леваллуазских остроконечников и верхнепалеолитических орудий очень мало. В первичном расщеплении доминирующим приемом было снятие классических овальных леваллуазских отщепов с радиально подготовленных нуклеусов. Для этой индустрии характерно радиальное и биполярное расщепление. Среди орудийного набора преобладают скребла, зубчато-выемчатые изделия, остроконечники типа мустьерских, ножи с обушком, имеются резцы и др. изделия, изготовленные на отщепах. Среди скребел почти полностью отсутствуют орудия с прямыми краями, преобладают простые выпуклые, двойные и конвергентные [The Stone Age…, 1937; Garrod, 1962; Marks, 1983, 1992; Jelinek, 1982a, b; и др.].
По мнению А. Маркса, различия между индустриями Табун D и Табун С были обусловлены использованием разных стратегий расщепления: в первом случае остроконечники и пластины снимались c одноплощадочных треугольных в плане леваллуазских нуклеусов, во втором – заготовки скалывались методом радиального расщепления. Некоторые различия в орудийном наборе определялись тем, что ретушировались заготовки разного типа. Изменения в технике расщепления могли быть следствием специфической адаптации [Marks, 1992].
Хронологически к среднему палеолиту типа Табун С относятся находки из пещер Схул и Кафзех, в которых обнаружены погребения людей современного вида. Пещера Схул представляет собой углубление под сравнительно небольшим навесом. Глубина пещеры 6 м, ширина 14 м у входа, ориентированного на северо-запад [The Stone Age…, 1937]. Мощность рыхлых отложений в пещере составляет ок. 3 м, хотя брекчия, прикипевшая к стенам пещеры и находящаяся выше современного уровня отложений, в которой содержится среднепалеолитический материал, свидетельствует о том, что верхняя часть культуросодержащих отложений не сохранилась.
Сохранившаяся часть культуросодержащего горизонта А имеет мощность 20–25 см. Горизонт перекрывает плотную толщу пещерных отложений (горизонт В1). Вдоль стен и у входовой части пещеры эту толщу подстилает пачка брекчиевидных прослоек, у стен переслаиваемая сталагмитовыми линзами (горизонт В2). На отдельных участках, где отсутствует брекчия, расчленить горизонты В1 и В2 было практически невозможно. На скальном дне пещеры залегал слой серого песка, содержащего окатанный материал. В карстовой трубе грота выявлен слой песка темнокоричневого цвета (горизонт С).
При раскопках пещеры Схул, а она была раскопана полностью, обнаружено свыше 10 тыс. изделий из кремня, которые составляли единый комплекс. Находки из горизонта В1 были патинизированы, а изделия из горизонта В2 не несли следов патины и имели «свежий» вид (рис. 4). Для индустрии Схул характерны широкие леваллуазские отщепы, которые скалывали с радиальных нуклеусов, одинарные скребла, изготовленные из отщепов, реутилизованные четырехугольные леваллуазские нуклеусы для пластин, леваллуазские треугольные остроконечники с широ-
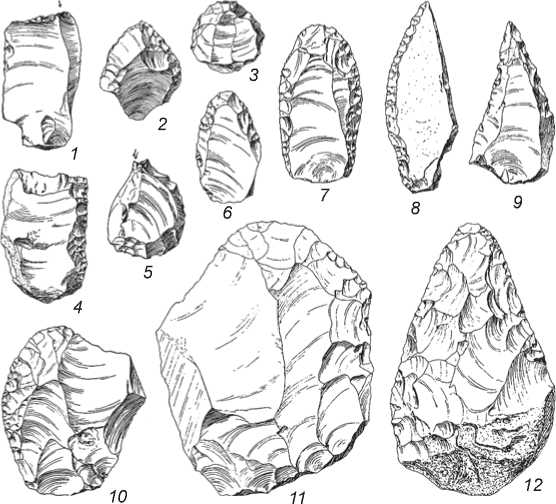
Рис. 4. Находки из пещеры Схул, слои В2 ( 1–7, 10, 12 ) и В1 ( 8, 9, 11 ) [McCown, 1934].
1, 5 – резцы; 2, 9 – остроконечники с ретушью; 3, 11 – нуклеусы; 4, 6, 7, 10 – скребла; 8 – нож с обушком; 12 – бифас.
ким основанием и фасетированной ударной площадкой, резцы. Важно подчеркнуть, что леваллуазских остроконечников в нижнем горизонте по количеству было значительно больше, чем в верхнем, а необработанных леваллуазских широких отщепов в горизонте В1 по удельному весу больше, чем в слое С.
Даты для культуросодержащих горизонтов пещеры Схул относятся к большому временному диапазону. Первые определения выполнены ЭПР-методом по инициативе К. Стрингера по двум зубам жвачных животных: EU-даты от 54,6 до 101 тыс. л.н., среднее значение 81 ± 15 тыс. л.н., LU-даты от 77,2 до 119 тыс. л.н., среднее значение 101 ± 12 тыс. л.н. [Stringer et al., 1989]. Методом TL-датирования по шести образцам обожженного кремния установлены такие даты: 166,8–99,0 тыс. л.н., среднее значение 119 ± 18 тыс. л.н. [Mercier et al., 1993]. Ф. МакДермот, используя ЭПР-метод, датировал два образца, которые были отобраны К. Стрингером, а также еще три образца из слоя В, и выявил большие различия [McDermott et al., 1993].
По мнению Ф. МакДермота, в пещере Схул, вероятно, были представлены разные по хронологической принадлежности группы людей [Ibid.], что подтверждало выводы первых исследователей пещеры Т. МакКоуна и А. Кейса [McCown, Keith, 1939]. А. Ронен также считал, что погребения в 2-метровой толще пещеры Схул мог разделять значительный промежуток времени [Ronen, 1976].
На основе дат Ф. МакДермота можно выделить раннюю группу гомининов, относящихся к интервалу 110–90 тыс. л.н., и позднюю – 60–40 тыс. л.н. Позднее А. Ронен, опираясь на результаты прямого датирования ЭПР-методом по изотопам урана [Grün et al., 2005], пришел к выводу, что останки людей современного вида следует датировать временем 102 ± 26 тыс. л.н. [Ronen, 2012].
Среди местонахождений на Ближнем Востоке и в Евразии в целом пещера Схул, безусловно, занимает особое место в связи с открытием в ней погребений людей современного вида. Найденные в пещере останки 10 чел. разного возраста по стоянно привлекают внимание антропологов. Мы поддерживаем мнение Д. Джохансона о том, что этот антропологический материал является ключом к пониманию процессов сапиентации в мире [Johanson, Blake, 1996], и считаем необходимым проведение в ближайшее время секвенирования ДНК как останков из пещер Схул и Кафзех, так и палестинских неандертальцев.
В пещере Кафзех на территории Израиля также обнаружены останки людей совре- менного анатомического вида [Neuville, 1951; Vander-meersch, 1981; Коробков, 1978]. Пещера расположена в 2,5 км к юго-востоку от г. Назарет, ориентирована на юго-запад. Ее ширина 20 м, глубина 12 м. В пещере кроме зала с высоким сводом, к которому примыкает вход, ограниченный с двух сторон каменными стенами и отделенный от грота порогом высотой 1,5 м, имеется т.н. вестибюль, в котором были обнаружены палеоантропологические остатки. Раскопки проводились в 1930–1936 гг. Р. Невиллем и М. Штекелисом, а в 1965–1980 гг. – Б. Вандермеершем во внешней части «вестибюля». Исследователи по-разному маркировали слои: Р. Невилль обозначал их снизу вверх от М до А, а Б. Вандермеерш – от XXIV до I.
К среднему палеолиту по Р. Невиллю отно сят-ся слои от M до F, а по Б. Вандермеершу – от XXIV до XI. Р. Невилль характеризует среднепалеолитическую индустрию Кафзеха как леваллуазскую, с обилием леваллуазских острий. Среди них мало удлиненных образцов. Леваллуазские острия в большинстве своем имеют широкое о снование и фасе-тированную ударную площадку. Эти острия без ретуши или с преимущественно однорядной ретушью по одному краю. Скребла изготавливались из отще-пов, сколотых с радиальных нуклеусов, и составляли 15–20 % от всех орудий. Отмечено значительное количество зубчато-выемчатых изделий. Обнаружены также анкоши, резцы, ножи с естественной спинкой. В некоторых культуросодержащих горизонтах зафиксированы очаги. Р. Невилль всю индустрию из Кафзеха объединял в единый техникотипологический комплекс и считал, что она развивалась на местной основе.
В 1930 г. при раскопках Р. Невилль и М. Штекелис обнаружили о станки семи индивидуумов, а в 1934 г. им же удало сь найти многочисленные фрагменты скелетов гомининов, в частности четыре черепа. Б. Вандермеерш в ходе раскопок обнаружил скелеты еще 14 индивидуумов. Среди них одним из наиболее полных и хорошо сохранившихся был Кафзех IX – скелет женщины возрастом ок. 20 лет, которая была захоронена с подогнутыми ногами. Всего в нескольких сантиметрах от Кафзех IX залегал скелет ребенка (Кафзех X), погребенного в сильно скорченном положении [Зубов, 2004]. Могильная яма у них была общей.
Средняя дата для Кафзех по всем слоям 92 ± 5 тыс. л.н. [Кауфман, 2002]. Для останков людей современного вида, датированных по зубам ЭПР-методом, имеются даты: 100 ± 10 и 120 ± 8 тыс. л.н. [Grün, Stringer, 1991].
Среднепалеолитическая индустрия Табун С в целом характеризуется преимущественно радиальным расщеплением, по определению Э. Боёды [Boëda, 1988]. Скалываемые с таких нуклеусов отщепы раз- личных размеров являлись заготовками для многих изделий – скребел различных модификаций, зубчато-выемчатых изделий и др. Обнаружены левал-луазские треугольные остроконечники с широким основанием и фасетированной ударной площадкой в виде шляпы жандарма (chapeau de gendarme). Они часто не подвергались ретушированию, а если ретушь и наносилась, то была, как правило, односторонней и однорядной.
Финальному этапу среднего палеолита типа Табун В соответствуют преимущественно одноплощадочные однонаправленные леваллуазские нуклеусы, с которых скалывали короткие остроконечники с широким основанием (такие же представлены в нижележащем горизонте), а также пластины и радиальные нуклеусы для скалывания отщепов. В орудийном наборе преобладают скребла боковые и других модификаций, ножи с обушком, зубчато-выемчатые изделия (рис. 5). Л. Коуплэнд рассматривала финальный этап среднего палеолита Леванта как позднейшее сочетание индустрий типа Табун D и Табун С [Copeland, 1975].
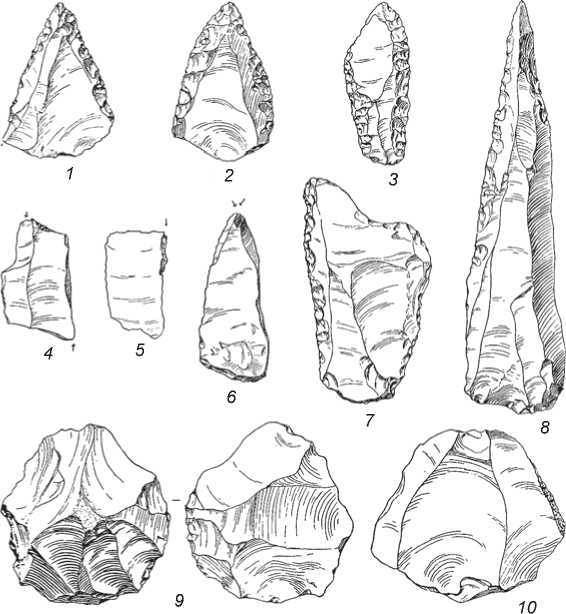
Рис. 5 . Находки из местонахождения Табун В [McCown, 1934]. 1–3 – ретушированные остроконечники на треугольных отщепах; 4–6 – резцы;
7 – скребло; 8 – остроконечник типа абу-сиф; 9, 10 – нуклеусы.
На территории Леванта исследовались многослойные местонахождения Ракефет, Кебара, Амуд, Эмирех, Кзар-Акил, Бокер-Тактит и др., где культуросодержащие горизонты финала среднего палеолита перекрываются верхнепалеолитическими слоями. Полевые исследования в пещере Кебара, расположенной на горе Кармель, проводились в 1930-е гг. Д. Гаррод и Т. Мак-Коуном. Тогда были выделены горизонты раннего натуфа, позднего периода верхнего палеолита и среднего палеолита. Повторные раскопки позволили уточнить стратиграфию и выявить четыре верхнепалеолитических горизонта, перекрывавших слои финального среднего палеолита [Bar-Yosef et al., 1992; Sarel, Ronen, 2003; Мейгнен, Бар-Йозеф, 2005].
Среди находок из пещеры Кебара, относящихся к позднему этапу среднего палеолита, преобладали отщепы, полученные в результате леваллуазского рекуррентного снятия. Скалывание заготовок производилось однонаправленно конвергентно с нуклеусов, имеющих выпуклый фронт расщепления. По находкам из всех горизонтов можно сделать вывод о том, что первичное снятие заготовок было почти одинаковым. В нижних слоях ХII и XI пластины составляли 30 % от числа леваллуазских заготовок. В вышележащих горизонтах Х и IX часто встречались левал-луазские острия с широким основанием. Материалы слоев VIII–VI свидетельствуют о сохранении тенденции к получению подтреугольных форм, которые сочетались с подпрямоугольными. В коллекции каждого культуросодержащего горизонта ретушированные изделия составляют ок. 3–4 %.
Л. Мейгнен и О. Бар-Йозеф провели сравнительный анализ среднепалеолитической индустрии Ке-бары с технокомплексами некоторых других стоянок Леванта [Meignen, Bar-Yosef, 1992]. Главной особенностью индустрии из пещеры, по их мнению, были от-щепы и короткие острия с широким основанием, ко-
Таблица 2. Даты для пещеры Кебара, тыс. л.н. *
|
Слой |
TL-метод |
ЭПР-метод |
Другие методы |
|
Обожженный кремень |
Эмаль зубов |
||
|
VI |
48,3 ± 3,5 |
53,9 ± 4,6 |
– |
|
VII |
51,9 ± 3,4 |
66,7 ± 6,0 |
– |
|
VIII |
57,3 ± 4,0 |
58,2 ± 5,4 |
– |
|
IX |
58,4 ± 4,0 |
– |
– |
|
X |
61,6 ± 3,6 |
– |
60 ± 6,0 (EU) 64 ± 6,0 (LU) |
|
XI |
60,0 ± 3,5 |
65,1 ± 5,1 |
– |
|
XII |
59,5 ± 3,5 |
58,9 ± 5,5 |
– |
*По: [Porat et al., 1994].
торые соответствуют индустрии Табун В. Индустрия Кебары близка также к находкам из слоя XXVIII Кзар-Акил, Амуд и особенно слоя В пещеры Сефуним.
Для среднепалеолитических слоев Кебары TL-и ЭПР-методами определены даты, которые укладываются в интервал 48–66 тыс. л.н. [Porat et al., 1994] (табл. 2).
В пещере Кебара обнаружены фрагменты скелета ребенка (Кебара I) и достаточно хорошо сохранившиеся ко сти нижней части скелета мужчины 25–35 лет [Arensburg et al., 1985; Vandermeersch, 1969, 1981]. Человек был захоронен в неглубокой яме на спине. Рост мужчины ок. 170 см. Антропологи отмечают наличие у него подъязычной кости ( os hyoideum ), по строению практически не отличающейся от подъязычной кости современного человека, что свидетельствует о высоком уровне развития речи. Морфологически гоминин имел сходство с индивидуумами из пещеры Схул, но был более массивен. В культуросодержащем слое вместе с антропологическими останками залегали многочисленные каменные орудия, относящиеся к финалу среднего палеолита типа Табун В.
Антропологические находки, морфологически близкие к Кебара I, обнаружены в небольшой пещере Амуд [Watanabe, 1968; Rak, Kimbel, Hovers, 1994; Ohnuma, 1992]. Для индустрии этого местонахождения в целом характерны основные технико-типологические показатели, типичные для технокомплексов финального этапа среднего палеолита типа Табун В. Нуклеусы в основном двух типов: подтреугольной в плане формы, односторонние для скалывания коротких остроконечников с фасетированной ударной площадкой (chapeau de gendarme) и радиальные для снятия отщепов. Небольшое количество нуклеусов можно отнести к нелеваллуазским для снятия пластин. В числе заготовок – ок. 55 пластинчатых отщепов, 750 подтреугольных и треугольных сколов и ок. 200 пластин, длина которых в 2 раза больше ширины, с параллельными краями.
Среди ретушированных орудий выделяются остроконечники с мелкой ретушью преимущественно с дорсальной стороны, концевые и боковые скребки на пластинах и пластинчатых сколах, скребла на от-щепах, в основном двойные и конвергентные, а также отщепы и пластины с мелкой ретушью по краю.
В категории орудий следует отметить артефакты верхнепалеолитического типа: изделия с поперечной фаской (pièces à chanfrein), проколки, изделия типа сверл, скребки. Некоторые остроконечники имеют основание, оформленное мелкой ретушью; они напоминают эмирейские изделия этого типа. К. Онума, сравнив индустрию из основных позднепалеолитических горизонтов В4 и В2 Амуда, пришел к выводу, что, несмотря на некоторые различия, инвентарь обо- их слоев обнаруживает значительное сходство и в целом может быть отнесен к левантийскому мустье типа Табун В [Ohnuma, 1992, p. 103].
Особый интерес вызывает найденное в пещере Амуд захоронение молодого мужчины (Амуд I). Он выделяется среди всех неандертальцев ростом (более 180 см) и объемом мозга (по одним данным 1 740 см3, по другим – 1 800 см3). Наряду с типично неандертальскими чертами (хорошо выраженный надглазничный валик, покатый лоб, низкий свод черепа и др.) у этого индивидуума имеются признаки, отличающие его от классических европейских неандертальцев: свод черепа выше; затылок округлый, без шиньона; зубы небольших размеров, намечается подбородочный выступ, сосцевидные отростки височной кости массивны и др. Амуд I многие антропологи относят к палестинским неандертальцам, близким к представителям группы Схул–Кафзех.
Еще одно местонахождение с антропологическими находками исследовалось на территории Сирии в пещере Дедерьех, в 60 км на северо-запад от Алеппо [Akazawa et al., 1993, 1995а, b; 1999]. Пещера представляет собой большую полость (ширина у входа ок. 15 м, глубина 60 м, максимальная ширина 40 м) со сводчатым куполом высотой более 10 м. Она находится на высоте 450 м над ур. м. на левом берегу вади Дедерьех. Раскопки проводились у входа, где были найдены натуфийские орудия, и в глубине пещеры – индустрия финала среднего палеолита и два погребения. В одном из них обнаружен хорошо сохранившийся скелет ребенка. Всего при раскопках пещеры найдены о станки не менее четырех детей и шести взрослых и молодых людей. Результаты раскопок в пещере Дедерьех в российской научной литературе представлены не столь широко, по сравнению с материалами исследований среднего палеолита в Израиле, поэтому остановимся на них несколько подробнее.
На основном участке раскопок в глубине пещеры, где обнаружены неандертальские погребения и индустрия финала среднего палеолита, была выделена последовательность из 15 геологических слоев. С учетом насыщенности археологическими материалами исследователи разделили слои на несколько подуровней. Стратиграфическая последовательность отложений в пещере в целом хорошо выражена: границы между слоями четкие, за исключением пристеночных участков. Все 15 слоев были объединены в четыре пачки снизу вверх: четвертая пачка – слои 15–12, третья – слои 11–7, вторая – слои 6–4, первая – слои 3–1.
В нижней пачке найдено небольшое количество изделий: два леваллуазских нуклеуса с негативами односторонних сколов остроконечников и один радиальный нуклеус для снятия отщепа, конвергентные и двойные скребла на отщепах и пластинах, ретушированные пластинчатые сколы. Таким образом, в нижних слоях представлена немногочисленная индустрия, типичная для финального среднего палеолита типа Табун В. В слое 13 обнаружена коронка первого моляра верхней челюсти.
В вышележащих слоях третьей пачки было значительно больше орудий, которые полностью соответствовали находкам из нижних горизонтов. Нуклеусы представлены леваллуазскими типами для снятия коротких леваллуазских остроконечников с широким основанием и фасетированной ударной площадкой, а также радиальными формами для скалывания от-щепов. В дебитаже преобладали леваллуазские снятия. Большой процент составляют острия, пластины и отщепы с ретушью. Имеются ножи с притупленной спинкой с галечной коркой, зубчато-выемчатые изделия, ретушированные остроконечники с широким основанием, одно- и двухрядные скребла с прямым и выпуклым лезвием на отщепах и пластинах, концевые скребки на пластинах, ретушированные пластины и отщепы. В слое 11 обнаружено захоронение ребенка возрастом ок. 2 лет. Кости в анатомическом порядке находились в специально вырытой яме. На костях грудного отдела лежал отщеп. Рядом с погребением были о статки очага.
Во второй пачке также обнаружены каменные изделия, типичные для финального этапа среднего палеолита. Нуклеусы в основном леваллуазского типа для снятия укороченных острий и отщепов. Материалы слоев этой пачки и нижележащих слоев представляют одну технику оформления ядрищ и утилизации отщепов и пластин. Значительна доля ретушированных пластин, остроконечников и отщепов. Найдены скребла двойные, одинарные и конвергентные с прямым и выпуклым лезвием на отщепах и пластинах, ножи с притупленной спинкой и корковым покрытием, концевые скребки и резцы, ретушированные отще-пы и пластины. В слое 6 выявлено несколько очажных пятен и костей диких животных вокруг них. Из слоев 5 и 4 извлечено несколько фрагментов останков гомининов.
В самой верхней пачке по обилию находок выделяется слой 3. Каменный инвентарь залегал в нескольких подуровнях и по технико-типологическим показателям не отличался от инвентаря нижележащих слоев. В слое 3 также прослежены очаги, вокруг которых находились фрагменты костей животных и обугленные остатки растений. В этом слое обнаружен неполный скелет с хорошо сохранившимся лицевым отделом черепа.
Весь каменный инвентарь финального этапа среднего палеолита из пещеры Дедерьех по технико-типологическим показателям со ставлял единый комплекс, типичный для Табун В. Среди нуклеусов преобладали леваллуазские формы для снятия укороченных остроконечников и радиальных отщепов. Ретушированию подвергались остроконечники, отще-пы и пластины. В коллекции орудий доминировали скребла. По типу рабочего лезвия они делятся на две основные группы: прямые и выпуклые или вогнутые. Лезвие интенсивно обрабатывалось ретушью. Доля скребел увеличивалась снизу вверх. Во всех слоях представлены верхнепалеолитические орудия. Типичны резцы и скребки. Их количество также увеличивалось снизу вверх.
Ме стонахождение в пещере Дедерьех на основании радиоуглеродного анализа шести образцов датируется периодом от 48 100 ± 1 200 до 53 600 ± ± 1 800 л.н. Исследователи отмечают, что нижняя дата является предельной для радиоуглеродного метода, и не исключают более древний возраст нижних слоев. По гуминовым кислотам также определен период от 48 до 55 тыс. л.н.
При раскопках пещеры были обнаружены останки представителей разнообразной фауны. В нижней пачке залегали кости дикого козла и муфлона. В третьей пачке кости этих животных преобладали, по сравнению с нижележащими слоями увеличилась численность остатков обитателей степи – газели, носорога, лошади, а также умеренного пояса – благородного оленя, кабана, дикого быка. В верхних слоях доминирующими по количеству костных остатков становятся представители видов, характерных для умеренного пояса, кости оленей составляют ок. 30 % от всех фаунистических находок. Сравнение фаунистических материалов выявило значительные различия между животными, останки которых представлены в четвертой и первой пачках. Исследователи объясняют это тем, что верхние слои накапливались в более влажных условиях и в районе пещеры Дедерьех были распространены лесные массивы. Возможно, с этим связано увеличение количества скребел в верхних культуросодержащих горизонтах.
Хорошо известная пещера Шанидар на территории Ирака, в которой также были обнаружены погребения неандертальцев, исследовалась в течение четырех сезонов Р. Солецким [Solecki, 1953, 1960, 1975; и др.]. Пещера находится в ущелье, которое прорезает склоны Барадоста, на высоте ок. 360 м над уровнем р. Большой Заб. Вход ориентирован на юг, его ширина 25 м, высота 8 м; длина пещеры 40 м, максимальная ширина 53 м. В рыхлых отложениях в пещере мощностью 14 м выделено четыре культуросодержащих слоя. Три слоя (А, В, С) относятся к неолиту – позднему палеолиту. Слой D мощностью более 8 м относится к финалу среднего палеолита. Его вскрытие показало, что было пять обрушений потолка, свидетельствующих о землетрясениях. Под грудой камней обнаружены останки H. neanderthalensis .
Заселение пещеры гомининами началось в самом начале процесса заполнения полости рыхлыми отложениями – каменные изделия были найдены на самом дне. Представления о первичном расщеплении позволяют составить немногочисленные сильно сработанные нуклеусы и дебитаж. Среди нуклеусов выделяются истощенные нуклеусы типа радиальных. Помимо отщепов обнаружены остроконечники небольших размеров с расширенным основанием и удлиненные, а также пластины. Очевидно, что в первичном расщеплении наряду с радиальными использовались ле-валлуазские нуклеусы для снятия остроконечников и пластин, а также нелеваллуазские формы для получения пластинчатых заготовок. Среди орудий преобладали скребла одинарные с прямым, выпуклым и изогнутым лезвием, а также конвергентные, выполненные на пластинах и пластинчатых отщепах. Много орудий, оформленных крутой ретушью, на пластинах и отщепах. Р. Солецкий обнаружил четыре небольших по размерам острия с подтеской, которые отнес к эмирейскому типу. К сожалению, каменный инвентарь из пещеры Шанидар опубликован частично. В целом он имеет сходство с изделиями как позднего этапа среднего палеолита Леванта, так и позднего периода среднего палеолита западной части Переднеазиатского нагорья.
Среднепалеолитиче ская индустрия Шанидара не имеет твердо установленных дат. Р. Солецкий полагал, что заселение пещеры началось в раннем вюр-ме, ориентировочно 100–80 тыс. л.н. Для верхней части слоя D имеется радиоуглеродная дата 46 900 ± ± 1 500 л.н. [Bar-Yosef, 1998].
Неандертальцы из пещеры Шанидар по морфо-логиче ским характеристикам не сколько отличаются от европейских неандертальцев и от палестинских неандертальцев, останки которых представлены на местонахождениях Амуд, Кебара и Табун. Всего в Шанидаре обнаружены останки девяти неандертальцев (семь взрослых особей и два ребенка), в т.ч. пять черепов. О морфологии этой группы наибольшую информацию удается получить по скелетным остаткам и черепу Шанидар I. В морфологии черепа четко прослеживается ряд архаичных особенностей: сильно развитый, непрерывный надглазничный валик; выступающий шиньонообразный затылок, низкий лоб, выступающая средняя часть лица, отсутствие подбородочного выступа, уплощенная область клыковых ямок и др. А.А. Зубов отмечает, что некоторые черты позволяют отдельным исследователям констатировать сходство этой группы гомининов с классическими западно-европейскими неандертальцами, противопоставляя их гомининам Схул и Кафзех. Однако шанидарцы имели ряд прогрессивных характеристик, что свидетельствует об их отклонении от европейских неандертальцев в сторону сапиентных форм.
А.А. Зубов подвергал сомнению возможность сближения неандертальцев из Шанидара с классическими западно-европейскими неандертальцами [2004, с. 299].
Заслуживает внимания точка зрения Э. Тринкауса на проблему шанидарских неандертальцев [Trinkaus, 1983]. Исследователь отмечает, что по многим анатомическим особенностям шанидарские находки демонстрируют эволюционный застой. У них отмечается индивидуальная изменчивость, но в целом их можно сгруппировать в два основных подварианта. По большей части анатомических особенностей важно отметить гомогенность этой группы. Только в лицевом скелете отмечается некая динамика признаков: появление прогнатизма на среднем уровне лица на фоне более уплощенной и архаичной формы более древних шанидарцев.
Проведенный детальный анализ по разным системам анатомических признаков шанидарских неандертальцев и других представителей верхнеплейстоценовых ближневосточных популяций выявил эволюционные преобразования, которые проходили на этой территории. Они проявляются в изменчивости ряда признаков посткраниального скелета при сравнении ранних неандертальцев с классическими европейскими неандертальцами и не исключают индивидуальную массивность скелетов. У ближневосточных неандертальцев отмечаются незначительные изменения в пропорциях зубов при очевидной изменчивости их абсолютных размеров. Отмеченная изменчивость зубов, сохранение массивности скелета у ряда представителей, как и архаичности некоторых частей черепа дают возможность отличать эти находки от останков синхронных людей современного анатомического вида. Однако особенности лицевого скелета ближневосточных гомининов демонстрируют четкое направление изменчивости от ранних неандертальцев к людям современного анатомического вида, что позволяет провести линию от массивных среднеплейстоценовых гомининов с мощным жевательным аппаратом к грацильным формам, близким к сапиенсам. Ша-нидарские неандертальцы по признакам посткраниального скелета и передним зубам уступают в прогрессивности людям современного анатомического вида, однако редукция части признаков лица делает их ключевыми в понимании эволюционных преобразований, связанных, в частности, с влиянием культурных инноваций.
Шанидарские гоминины интересуют ученых и с другой точки зрения: тело Шанидар I, погибшего, как полагал Р. Солецкий, от удара обломком горной породы во время землетрясения, сородичи присыпали крупными кусками известняка и более мелкими камнями. По мнению антропологов, этот индивидуум при жизни лишился одной руки. Однорукий человек в то время не мог бы выжить без поддержки и помощи других членов коллектива. О социальных отношениях внутри популяции свидетельствует и погребение Ша-нидар IV. После захоронения умершего в специальном углублении сородичи засыпали могилу цветами и лекарственными растениями [Solecki, 1975; Lietava, 1992]. Финальный этап среднего палеолита Леванта связан с проживавшими на этой территории палестинскими неандертальцами, которые морфологически существенно отличались от классических западно-европейских. Индустрия типа Табун В, по заключению Л. Мейгнен и О. Бар-Йозефа, также значительно отличалась от мустьерских индустрий Европы [Мейгнен, Бар-Йозеф, 2002].
Технико-типологические особенности левантийского мустье освещаются в многочисленных публикациях, поэтому мы остановились только на некоторых местонахождениях среднего палеолита Леванта и не рассматриваем такие важные памятники, как пещера Нахр-Ибрагим, местонахождение Наама, финальные среднепалеолитические комплексы Кзар-Акил, Бокер-Тактит и др. Все среднепалеолитические местонахождения Леванта, в соответствии с тремя стадиями (фазами) Табун D, С, В, различаются по инвентарю, но по основным технико-типологическим показателям составляют единый технико-типологический комплекс, который эволюционировал на протяжении более 200 тыс. лет. Он изменялся под влиянием экологических условий и в ходе контактов с популяциями сопредельных территорий. Но в целом, с нашей точки зрения, развитие среднепалеолитической индустрии Леванта происходило преимущественно на местной основе и было связано с популяциями людей современного вида и палестинскими неандертальцами.
Почти 80 лет не прекращается дискуссия о том, как происходило развитие раннего, среднего и верхнего палеолита Леванта – последовательно или прерывисто. Решение вопроса затруднено тем, что на многослойных палеолитических местонахождениях не всегда удается четко проследить всю последовательность залегания культуро содержащих горизонтов, несмотря на совершенствование методов геохронологии, а также провести корреляцию данных, полученных различными методами при технико-типологическом и сравнительном анализе археологических материалов Леванта; исследователи уделяют основное внимание технологическому анализу в ущерб типологическому; сравнивают материалы полевых исследований памятников, различающиеся по степени изученности (это особенно влияет на результат при сравнении процентного соотношения тех или иных типов орудий); материалы исследований одного и того же местонахождения находятся в разных местах хранения (примером может быть стоянка Кзар-Акил) и т.д.
Существуют две основные точки зрения на истоки левантийского среднего палеолита. Гипотезу о своеобразии левантийского среднего палеолита (ашело-мустье) и его отличии от западно-европейского, пожалуй, первой высказала Д. Гаррод [The Stone Age…, 1937]. Мы считаем справедливым вывод О. Бар-Йозефа о том, что среднепалеолитические комплексы Леванта составляют особое единство в рамках среднепалеолитической индустрии Африки и Евразии [Bar-Yosef, 2006]. Важная роль технологии получения пластин с помощью леваллуазской и неле-валлуазской систем расщепления – одна из главных особенностей, отличавшая ранне- и среднепалеолитические индустрии Леванта от синхронных индустрий Африки.
В среднекаменном веке Африки леваллуазское расщепление получило широкое распространение, но, как показал Х. Кру [Crew, 1975], оно отличалось от леваллуазского расщепления, использовавшегося в Леванте. Леваллуазская (протолеваллуазская) технология первичного расщепления на территории Леванта впервые появляется в Гешер Бенот Яаков на стадии МИС 18–20 [Goren-Inbar, 2011, Ill. 8, 1 ]. Если говорить о преемственности в палеолите Леванта, то прежде всего необходимо обратиться к уникальной последовательности культуросодержащих слоев в пещере Табун. В самом нижнем культуросодержащем слое G пещеры наряду с другими орудиями залегали зубчатовыемчатые изделия, обработанные крутой ретушью, одинарные скребла, единичные аморфные резцы, чопперовидные орудия. Нуклеусы представлены укороченными пирамидальными односторонними формами для снятия аморфных пластин и пластинчатых отще-пов, а также со следами бессистемного расщепления. В вышележащем слое F наиболее распространенными типами орудий были резцы и скребки. Среди одно-и двухплощадочных нуклеусов выделено четыре ле-валлуазских.
Материалы нижних слоев G и F пещеры Табун свидетельствуют о том, что в первичном расщеплении использовались леваллуазское и пластинчатое раскалывание, но в целом технология получения заготовок для изготовления орудийного набора была ориентирована на скалывание с ядрищ отще-пов. В технологической характеристике индустрии двух нижних горизонтов А. Елинек отмечал минимальную роль леваллуазской техники [Jelinek, 1975]. Однако наличие в индустрии верхнепалеолитических орудий – резцов, скребков – позволило считать ее значительно продвинутой.
В материалах вышележащего слоя Е были выделены три фации, или три индустриальных комплекса: 1) ябрудийский, ориентированный в основном на получение отщепов и изготовление скребел типа кина; 2) ашельский, связанный с изготовлением преимуще- ственно бифасов, скребел и отщепов; 3) амудийский, предназначенный для изготовления пластин и орудий верхнепалеолитического типа [Copeland, 2000]. В начале 1980-х гг. А. Елинек с учетом данных своих раскопок пришел к выводу о том, что все сменяющие друг друга фации индустрии слоя Е, включая аму-дийскую, относятся к мугаранской индустриальной традиции. Наличие разных фаций он объяснял адаптацией древних популяций к различным экологическим условиям [Jelinek, 1981, 1982а, b]. По мнению исследователя, амудийская традиция развивалась постепенно на основе предшествующих местных культурных традиций, а леваллуа-мустьерская индустрия произошла от мугаранской.
Материалы ашельских местонахождений Леванта, с нашей точки зрения, позволяют утверждать, что пластинчатое и леваллуазское расщепление играло не ведущую, но важную роль в получении заготовок для изготовления орудий в индустрии древних популяций региона. На ашело-ябрудийском этапе финального ашеля значение пластинчатых технологий значительно возрастает. И с этим связано появление уже в раннем палеолите нуклеусов, подготовленных для последующего получения заготовок. Их можно разделить на четыре типологические группы: унифасиальные, радиальные, комбева и леваллуазские для получения отщепов. Строго говоря, они были достаточно близки по технологии изготовления от этапа первичного оформления заготовки и до скалывания с них отще-пов. Поэтому можно бесконечно дискутировать о том, где впервые появляется тот или иной тип нуклеусов, каким образом и когда он появляется в других районах Евразии [Деревянко, 2016а, б]. Сравнивая финальную ашельскую индустрию Леванта с африканскими и европейскими, О. Бар-Йозеф отмечает, что ашело-ябрудийская группа может рассматриваться как локальная группа, географически ограниченная в своем распространении одним регионом [Bar-Yosef, 1994, p. 257]. В позднеашельской амудийской индустрии пластинчатые заготовки играли большую роль в изготовлении орудий. Яркие свидетельства этого получены при исследовании в пещере Кесем в Израиле [Barkai, Gopher, Shimelmitz, 2005; Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011; и др.].
На базе амудийской индустрии, начальный этап развития которой относится ориентировочно к 400 тыс. л.н. [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011], сформировался средний палеолит Леванта. Среднепалеолитические индустрии типа Табун D, В, С, по нашему мнению, эволюционно развивались вплоть до верхнего палеолита. Естественно, что за 200 тыс. лет смена палеоэкологических условий в Леванте, изменение адаптационных стратегий, кратковременные контакты с популяциями людей сопредельных территорий и др. причины вносили некоторые инновации в среднепалеолитический технокомплекс. Причем уже в раннем палеолите могли появляться, а затем со временем исчезать верхнепалеолитические приемы в оформлении нуклеусов и изделия верхнепалеолитического типа; в течение столь продолжительного периода так же могли появляться и исчезать леваллуазские системы.
Противники вывода о преемственности в развитии палеолита в Леванте от ашеля до финала среднего палеолита при доказательстве своей позиции привлекают различные аргументы. Приведем некоторые из них: стоянки среднего палеолита типа Табун D находятся в аридных зонах глубинных территорий Леванта, а стоянки типа Табун С – преимущественно вдоль побережья; мустье типа Табун С исчезло в связи с приходом на юг региона неандертальца, принесшего ок. 75 тыс. л.н. традиции мустье типа Табун В, или продолжало существовать и после появления этого вида до периода миграции в Левант популяции H. sapiens с верхнепалеолитическими технологиями; технологии первичного и вторичного расщепления изменялись в определенные периоды на протяжении второй половины среднего и первой половины верхнего плейстоцена. Гипотеза о том, что линия развития индустрий финального этапа ашеля и среднего палеолита прерывалась, обосновывается также различиями в процентном соотношении пластин, отщепов и других типов каменных орудий.
Для всех исследователей, в т.ч. для нас, очевидна проявлявшаяся на протяжении всего ашеля и среднего палеолита в Леванте некоторая мозаичность в технологиях первичного расщепления и оформления отдельных типов орудий, в процентном соотношении изделий. Например, на раннем этапе среднего палеолита типа Табун D имеются пирамидальные нуклеусы верхнепалеолитического типа и верхнепалеолитические орудия, на среднепалеолитических местонахождениях типа Табун С они почти не встречаются и вновь появляются на финальном этапе среднего палеолита типа Табун В. С нашей точки зрения, некоторые различия в палеолитической индустрии Леванта были обусловлены изменениями природно-климатических условий, которые заставляли человека разрабатывать новые адаптационные стратегии. Такое же разнообразие палеолитических индустрий наблюдается в Африке, Европе, на Алтае и в других регионах. Как отмечают К.А. Трион и С. МакБриарти, изменения адаптационных стратегий гомининов в переходный период от ашеля к среднему каменному веку в Африке были постепенными и разнохарактерными [Tryon, McBrearty, 2006]. Подобная ситуация фиксируется и в Леванте [Goren-Inbar, 2011], но это не означает, что прерывалась единая линия развития палеолитической индустрии.
Изучение процесса возникновения пластинчатых технологий в Африке и Евразии и особенностей их распространения показывает, что на одних и тех же территориях в среднем и позднем плейстоцене пластинчатые технологии и леваллуазское расщепление неоднократно появлялись и исчезали, сосуществовали с отщепными, доминировали или не играли заметной роли в изготовлении орудий. Сложность характера развития индустрий не всегда была связана с миграционными процессами. Вследствие прихода на территорию, заселенную автохтонной популяцией, людей с другой индустрией могла происходить или диффузия культур, или замещение коренного населения пришлым, что, возможно, приводило к смене всего технокомплекса. В Леванте, с нашей точки зрения, т.н. прерывистость в среднепалеолитических индустриях типа Табун D, С, В не была связана с появлением другого населения, это результат эволюции индустрии в течение 200 тыс. лет. Археологи не могут проследить данный процесс во всех деталях.
Все исследователи среднего палеолита Леванта считают, что 130–100 тыс. л.н. в регион мигрировали популяции людей современного физического типа из Африки. Свидетельством этого процесса являются антропологические останки, обнаруженные в пещерах Схул и Кафзех. Кратко рассмотрим развитие индустрии на юге, востоке и севере Африки, откуда могли мигрировать в Левант люди современного анатомического вида в интервале 200–80 тыс. л.н.
Наиболее раннее проявление пластинчатой технологии в Африке выявлено в Кении в формации Кап-турин. В отложениях этой формации в секции К13 исследовались стоянки GnJh 42 и 50, которые датируются по 40Ar/39Ar 545 ± 3 и 509 ± 9 тыс. л.н. [Johnson, McBrearty, 2010]. Более 95 % всех заготовок на обеих стоянках относились к отщепам (включая фрагменты и угловатые сколы), 2,7 % составляли пластины и их фрагменты. В более поздних литологических горизонтах на стоянках GnJh 3, 15, 17 также была представлена пластинчатая индустрия, которая по технологическим показателям не имела преемственной связи с более древней [McBrearty, Bishop, Kingston, 1996; McBrearty, 1999; McBrearty, Brooks, 2000; Деревянко, 2015].
В Африке преемственность не про слеживается не только между ашельскими местонахождениями в формации Каптурин, но и между ними и местонахождениями среднекаменного века. Последние, пожалуй, лучше всего изучены на юге континента, где имеется много многослойных стоянок в пещерах, под скальными навесами, а также открытого типа. Начало среднего каменного века, или MSA, фиксируется по исчезновению на палеолитических местонахождениях бифасов, кливеров и других изделий, типичных для позднего ашеля. Хронологически граница пере- хода определяется по-разному: от 250 до 200 тыс. л.н. Р. Сингер и И. Уаймер, основываясь на материалах раскопок на р. Класиес, выделили несколько стадий развития среднепалеолитической индустрии на юге Африки: MSA I, MSA II, ховисонс порт, MSA III [Singer, Wymer, 1982].
Для раннего этапа MSA I характерно пластинчатое расщепление, но технологически оно никак не связано с индустрией, обнаруженной в формации Каптурин.
Ранний этап MSA I по основным технико-типологическим показателям существенно отличается от предшествующего и последующего. На стадии MSA I пластины снимались мягким отбойником, а на стадии MSA II применялся жесткий отбойник и были типичны фасетированные ударные площадки. По мнению С. Вурц, заготовки, скалывавшиеся с нуклеусов на этих двух стадиях, существенно различались. На более раннем этапе по сравнению с поздним ширина площадок пластин и остроконечников значительно меньше, а значения отношения длины заготовки к длине площадки выше. Остроконечники на стадии MSA III намного короче, чем на стадиях MSA II и MSA I [Wurz, 2005, p. 433]. В пещере Бломбас из средней части культуросодержащих отложений, обозначенных как фаза М2, были извлечены несколько бифасиально обработанных каменных изделий и более 20 костяных орудий, которые использовались, возможно, в качестве наконечников и шильев [Henshilwood et al., 2001]. Для них ТL-методом получены даты: 76 ± 7 и 105 ± 7 и 105 ± 9 тыс. л.н. [D`Errico et al., 2005]. Выше залегал культуросодержащий слой, в котором выявлены артефакты культуры стилбэй. В слое обнаружены ок. 400 двусторонне обработанных наконечников, в т.ч. с хорошо оформленным насадом, более 10 костяных орудий, фрагмент ко сти с выгравированными продольными линиями. Они датированы ТL-методом: от 67 ± 7 до 82 ± ± 8 тыс. л.н. [Ibid.] и OSL-методом: 75,2 ± 3,9 тыс. л.н. [Jacobs, Wintle, Duller, 2003]. Типичными для стадии ховисонс порт, как и для стадии MSA I, являются пирамидальные нуклеусы. На местонахождениях хови-сонс порт пластины более мелкие, геометрической формы, с притупленной ретушью спинкой и небольшой ударной площадкой, технологические характеристики которой указывают на снятие заготовки с нуклеуса мягким отбойником. Предназначались они, по мнению исследователей, для изготовления составных орудий.
Орудия геометрической формы с притупленной спинкой – специфика среднего палеолита Африки. Они появились в южной части континента в индустрии форсмит, переходной от ранне- к среднепалеолитическим, и в центральной в индустрии лупембан в самом начале среднего каменного века. Но наибольшее распространение такие орудия получили на стадии ховисонс порт. Орудия геометрической формы использовались, вероятно, в качестве вкладышей для составных орудий типа остроконечников, ножей и кинжалов, у которых была, скорее всего, деревянная основа, как у более поздних верхнепалеолитических и мезолитических. Индустрию ховисонс порт многие исследователи датируют интервалом 80 (70)–50 тыс. л.н.
В материалах, которые относятся к этапу MSА III, отсутствуют орудия геометрической формы; индустрия в целом характеризуется многими исследователями как более архаичная. Пластинчатое расщепление верхнепалеолитического типа на юге Африки проявляется ок. 30 тыс. л.н. Таким образом, в развитии индустрий на этой территории не прослеживается определенная преемственность: пластинчатая технология появляется в ашеле (ее связь с раннесреднепалеолитической пока не выявлена), затем она исчезает и возникает вновь в верхнем палеолите. Объяснить это только сменой населения невозможно. Появление и исчезновение пластинчатых технологий могли быть обусловлены не только приходом новых популяций, но и сменой адаптационных стратегий, вызванной изменением экологических условий и предполагавшей разработку новых приемов первичной и вторичной обработки камня [Деревянко, 2015]. В коллекциях среднего этапа каменного века юга Африки нет технокомплексов, которые хоть в какой-то мере соответствовали бы технологии первичной и вторичной обработки камня или типам орудийного набора индустрии среднего палеолита Леванта.
Другая линия развития индустрии среднекаменного века прослеживается на севере и северо-востоке африканского континента. На севере наиболее яркой является индустрия атер. В предыдущих номерах журнала мы уже давали краткую характеристику атера [Деревянко, 2015, 2016б].
Для атера наиболее характерно леваллуазское расщепление [McBurney, 1967]. Его основные стратегии: получение острий, отщепов и пластин. Диагностирующий элемент индустрии – изделия с черешком. Прежде всего это наконечники с оформленными ретушью острием и черешком. Ретушь могла быть одно-и двухрядной. Черешок имели скребла, скребки, проколки и резцы, что свидетельствует о широком использовании многофункциональных составных орудий и наличии надежных приемов крепления. На атерийских местонахождениях наиболее многочисленны скребла различной модификации, представлены и зубчато-выемчатые изделия, ножи с обушком. На позднем этапе данной культуры широкое распространение получили острия: с округлым и при-остренным черешком, с треугольным и асимметричным основанием, бифасиально обработанные листовидные. Верхнепалеолитических орудий – скребков, резцов, пластин с притупленным краем и др., по сравнению со среднепалеолитическими, немного.
Сложной проблемой является датирование атера. В прошлом веке радиоуглеродным методом эта индустрия датировалась 40–20 тыс. л.н. Применение новых методов кардинально изменило взгляд на проблему. Для местонахождения Дар-эс-Солтан в окрестностях г. Рабата получена OSL-дата 110 тыс. л.н. [Barton et al., 2009]. Возраст памятников с аналогичной индустрией в районе г. Темара близок к этому значению. Образец из нижних атерийских слоев в пещере Мугарет-эль-Алия датирован в пределах от 62 ± 5 до 81 ± 9 тыс. л.н. [Wrinn, Rink, 2003]. Атерийская индустрия формировалась, видимо, ок. 112–110 тыс. л.н. и существовала длительное время. Ее какое-либо влияние на среднепалеолитические индустрии Леванта не прослеживается. Единичные атерийские местонахождения известны на территории Аравии. Одно такое местонахождение с поверхностным залеганием культуросодержащего горизонта открыто на юго-западной окраине пустыни Рубаль-аль-Хали. Здесь собрано 300 атерийских изделий [McClure, 1994], которые, по мнению Х. Макклюра, относятся к 30–20 тыс. л.н.
На севере африканского континента наиболее полно динамику индустрии среднего и раннего верхнего палеолита отражают находки из пещеры Хауа Фтеа в Киренаике, расположенной между Магрибом и Египтом. Мощность рыхлых отложений в ней достигает 14 м. Ч. МакБерни по технико-типологическим характеристикам материалов выделил отложения трех периодов – преориньяка, леваллуа-мустье и верхнего палеолита [McBurney, 1967]. Самому раннему, по его определению, преориньяку соответствует нижняя толща (ок. 0,5 м). Среди каменного инвентаря Ч. МакБерни выделяет плоские призматические нуклеусы с одним фронтом снятия, одно- и двухплощадочные. Орудийный набор (ок. 80 экз.) включает бифасиаль-но обработанные и чопперовидные изделия, резцы, скребки, скребла, фрагменты листовидного острия, проколки и др. Индустрию из нижнего культуросодержащего горизонта в пещере Хауа Фтеа по всем основным показателям нельзя отнести к ближневосточному ориньяку. Она, вероятно, имеет отношение к раннему или среднему этапу среднекаменного века Северной Африки; ввиду малочисленности материалов сделать окончательные выводы невозможно. Индустрия свидетельствует об использовании пластинчатого расщепления в изготовлении орудий из пластин.
В Северо-Восточной Африке в долине Нила выделены две разные индустрии: ранненубийская, относящаяся к стадии МИС 5е (~130–115 тыс. л.н.), и поздненубийская, датированная МИС 5а (~85–74 тыс. л.н.) [Mercier et al., 1999; Van Peer, Vermeersch, Paulissen, 2010]. Для первой характерны бифасы лупембанско-го типа. Они имели преимущественно копьевидную и удлиненно-треугольную форму. Для орудийного набора типичны зубчатые и зубчато-выемчатые изделия, которые изготавливались из пластин и отщепов. Среди орудий наибольшую долю составляют скребла различной модификации. Главными признаками, отличающими ранненубийскую индустрию от поздненубийской, являются наличие бифасов, особое оформление леваллуазских нуклеусов.
Между ранней и поздней нубийскими индустриями существует большой временной разрыв. Так, на местонахождении Тарамса-1 в долине нижнего Нила эти два комплекса были изолированы друг от друга слоем песка, относящимся к МИС 5d (117 ± 10 тыс. л.н.) [Van Peer, Vermeersch, Paulissen, 2010]. В пещере Содмейн в Египте поздненубийский горизонт залегает выше ранненубийского. Исследователи считают, что эти две индустрии разделены интервалом ~115–85 тыс. лет. В Африке не известны относящиеся к данному хронологическому диапазону местонахождения с нубийским технокомплексом [Usik et al., 2013; Rose, Marks, 2014; и др.]. В это время на юге Аравии, на территории Омана и Йемена, появилась нубийская индустрия. Возраст нубийского технокомплекса стоянки Айбут-аль-Ауваль в Дхофа-ре (Южный Оман) ок. 106 тыс. лет [Usik et al., 2013], что, по мнению исследователей, соответствует времени миграции носителей данной индустрии на Аравийский полуостров.
Нубийская леваллуазская технология не оказала большого влияния на индустрию Леванта [Rose, Marks, 2014]. Однако нам представляется, что не следует исключать возможность контактов левантийского населения с более южными популяциями – создателями нубийской леваллуазской технологии – и дрейфа генов между ними. Слабое влияние нубийской технологии на индустрию среднего палеолита Леванта можно объяснить тем, что популяции людей двигались из Африки в Аравию по южному маршруту, а с установлением на Ближнем Востоке аридного климата миграционные потоки значительно уменьшились. Мигрантов с нубийской индустрией из Африки исследователи ассоциируют с людьми современного анатомического вида [Vermeersch et al., 1998; Armitage et al., 2011; Van Peer, 1998; Usik et al., 2013; Rose, Marks, 2014; и др.].
Рассмотренные нами индустрии раннего и среднего этапов среднекаменного века Африки убедительно свидетельствуют о том, что не было мощного потока мигрантов с этого континента, которые бы принесли в Левант другую технологию и заместили бы там автохтонное население. Вероятно, какие-то группы людей из Африки, например, создатели нубийской индустрии (люди современного вида), проникнув в Аравию, начали контактировать с левантийскими популяциями, между ними могли происходить асси- миляционные процессы, но заметного влияния на индустрию среднего палеолита это не оказало. Люди современного вида (Схул и Кафзех) сформировались в Леванте, а не мигрировали из Африки.
Вторая миграционная волна из Западной Европы в Левант двигалась, по мнению многих исследователей, в конце среднего палеолита (80–60 тыс. л.н.), что не находит подтверждения, с нашей точки зрения, при сравнении индустрий финала среднего палеолита региона с мустье Европы.
Индустрия финального этапа среднего палеолита Леванта типа Табун В происхождением была связана с индустрией типа Табун С. Л. Мейгнен и О. Бар-Йозеф, изучив последовательность изготовления орудий в Кебаре, пришли к выводу: леваллуазская техника однонаправленного расщепления, распространенная на Ближнем Востоке, отличалась от приемов леваллуа, которые наиболее часто использовались на территориях Египта, Нубии и Ливии. Эти различия выявляются и при сравнении левантийских индустрий с технико-типологическими комплексами, получившими распространение в среднем палеолите Западной Европы [Meignen, Bar-Yosef, 1992, p. 144]. Мы полагаем, что палестинские неандертальцы также сформировались на Ближнем Востоке и морфологически отличались от западно-европейских неандертальцев.
На различных стоянках финала среднего палеолита Леванта применялась в основном леваллуазская система расщепления камня с некоторыми модификациями, тогда как на синхронных местонахождениях Европы – разные техники раскалывания: леваллуа, кина, дисковидная [Мейгнен, Бар-Йозеф, 2002]. Это заключение, на наш взгляд, является еще одним основанием для отказа от отнесения среднего палеолита Леванта к мустьерской индустрии и причисления палестинских неандертальцев к западно-европейским [Деревянко, 2016б].
Антропологический аспект
За последние 80 лет в Леванте – в пещерах Табун, Схул, Кафзех, Кебара, Шанидар, Дедерьех и др. – найдено значительное количе ство останков гомини-нов периодов МИС 5 и 4. Начиная с первых открытий палеоантропологических материалов в пещерах Табун и Схул среди исследователей ведутся оживленные дискуссии относительно их стратиграфического положения, даты, таксономической принадлежности и др. Первые исследователи местонахождений Табун и Схул по-разному интерпретировали костные остатки. Т. МакКоун считал, что палеоантропологические находки из пещеры Схул представляют два разных антропологических типа [McCown, 1934]. Одна группа (захоронения III, VI–X) является более ранней, другая (I, IV и V) – более поздней. Впоследствии эту точку зрения поддерживал А. Ронен [Ronen, 1976]. Он полагал, что 2-метровая толща отложений слоя В, в котором найдены захоронения, накапливалась в течение длительного времени. А. Кейс, также исследовавший палеоантропологические находки, относил их к неандертальцам, но отмечал, что по сравнению с неандертальцами Европы они более современны. Т. МакКоун и А. Кейс объединяли гомининов Схула с видом Paleoanthropus palestinensis [McCown, Keith, 1939]. Морфологические различия между палеоантропологическими находками из пещеры Табун и Схул они объясняли возможной гибридизацией между неандертальцами и кроманьонцами.
Несколько другая точка зрения на эти находки была высказана Ф. Хауэллом. Гомининов из пещер Схул и Кафзех он рассматривал в качестве промежуточного звена в антропогене между неандертальцами Табуна и людьми современного анатомического вида и определял их как протокроманьонцев [Howell, 1958]. Позднее исследователь высказал предположение о принадлежности нижней челюсти из слоя С в пещере Табун H. sapiens [Howell, 1999]. В настоящее время специалисты придерживаются единого мнения: в среднем палеолите Леванта обитали два таксона – люди современного антропологического вида (Схул и Кафзех) и неандертальцы (Табун, Амуд, Кебара). В связи с накоплением археологических и палеоантропологических материалов, относящихся к среднему и верхнему плейстоцену Леванта, развернулась дискуссия о последовательном или прерывистом развитии индустрии раннего, среднего и верхнего палеолита, а также о процессе заселения этой территории человеком.
Взгляды ученых на проблему преемственности в индустриях среднего палеолита в Леванте и судьбу людей современного анатомического вида и неандертальцев различны [Stringer, Andrews, 1988; Arensburg, Belfer-Cohen, 1998; Shea, 2001; Мейгнен, Бар-Йозеф, 2002; Кауфман, 2002; Hovers, 2006; Hovers, Belfer-Cohen, 2013; и др.]. Одни исследователи счит ают, что оба таксона синхронно проживали на территории Леванта в течение непродолжительного периода, и пытаются проследить их эволюцию по чертам преемственности в среднепалеолитических индустриях. Другие отвергают возможность происхождения комплексов среднего палеолита Леванта от ашело-ябрудийской индустрии и допускают, что люди современного анатомического вида пришли из Африки, а неандертальцы со своими индустриями – из Европы.
Наиболее последовательным сторонником концепции прерывистого развития среднего и верхнего палеолита, а также замещения людей современного анатомического вида (Схул, Кафзех) неандертальцами и последующего замещения их H. sapiens, пришедшего 50–40 тыс. л.н. из Африки в Левант, является Д. Ши. Он предложил сценарии конкурентного вытеснения и вымирания вследствие климатических изменений, основанных на данных о наличии у H. sapiens более совершенных, чем у неандертальцев, культурных, биологических и социальных связей [Shea, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008; и др.]. Нельзя не согласиться с его утверждением, что в настоящее время отсутствуют надежные свидетельства параллельного существования неандертальцев и людей современного анатомического вида в Леванте. Но у исследователей нет уверенности, что все среднеплейстоценовые местонахождения в этом регионе уже открыты и полностью изучены. Здесь, несомненно, будут обнаружены новые местонахождения, хотя, может быть, не такие уникальные, как Схул, Кафзех, Табун, Амуд, Кебара. По нашему мнению, археологический материал из среднепалеолитических местонахождений в Леванте позволяет предположить одновременное расселение в регионе людей современного анатомического вида и неандертальцев. Мы не считаем необходимым дискутировать с проф. Д. Ши, но попытаемся кратко изложить свою точку зрения, свое видение процессов расселения гомининов в Леванте в среднем и позднем плейстоцене, хотя понимаем, что многие положения нашей гипотезы могут вызвать резкую критику.
Наша концепция основана на том, что в индустриях Леванта раннего этапа, среднего и верхнего палеолита прослеживается преемственность, на этой территории на протяжении раннего и среднего палеолита расселялось автохтонное население. Конечно, это не исключало контактов с популяциями, мигрировавшими на Ближний Восток и Аравийский полуо стров с сопредельных территорий Африки, Ирана и др. в связи с изменениями климата или другими причинами. Во время кратковременных контактов мог происходить обмен генетическим материалом. Если бы в раннем и среднем палеолите в Левант пришли популяции из Африки или с других территорий, то произошла бы аккультурация, а в случае формирования антагонистических отношений – полное замещение автохтонного населения, что получило бы отражение в материалах палеолитических местонахождений. Возможные кратковременные контакты автохтонного населения с популяциями сопредельных территорий могли приводить к некоторой диффузии культур. В этом случае могли происходить и генный дрейф, и обмен некоторыми инновациями в обработке камня. Допустимо, что такие связи возникали, например, между обитателями Леванта и популяциями людей современного анатомического вида, создателями афро-арабского нубийского тех- нокомплекса, зафиксированного в Омане на Аравийском полуострове [Rose, Marks, 2014].
Обнаруженная в районе палеоозера Джаббах в Аравии индустрия с радиальной системой первичного расщепления технологически близка к среднепалеолитической индустрии Леванта типа Табун С, а короткие с широким фасетированным основанием леваллуазские о стрия, сколотые с однонаправленных конвергентных рабочих поверхностей нуклеусов в Джебель Катефех 1, близки к технологически левал-луазским остроконечникам типа Табун В [Crassard, Hilbert, 2013]. Д. Роуз и Э. Маркс объясняют это либо культурной диффузией, либо вторжением левантийских мустьерских (неандертальских. – А. Д. ) групп с юга во время оптимальных климатических условий. Эти исследователи допускают наличие и других сходных демографических и культурных проявлений [Rose, Marks, 2014, p. 75]. Кратковременные контакты с мигрантами не приводили к замещению коренного населения, а только способствовали генному дрейфу и обмену некоторыми инновациями в технологии обработки камня.
Многие исследователи среднего палеолита Леванта придерживаются мнения о миграции на эту территорию двух таксонов: людей современного анатомического вида из Африки и неандертальцев с юга Европы. Время миграции людей современного анатомического вида из Африки в Левант исследователи определяют по-разному. Один из крупнейших исследователей палеолита О. Бар-Йозеф их выход с африканского континента относил к интервалу 110–90 тыс. л.н. [Bar-Yosef, 1987, 2000; и др.]. В одной из последних работ, написанной им в соавторстве, с учетом изменений климатических условий в Африке и на Аравийском полуострове предлагается более ранняя дата распространения этих популяций в Леванте – 140 ± ± 10 тыс. л.н. [Frumkin, Bar-Yosef, Schwarcz, 2011]. Такой разброс значений объясняет трудности корреляции дат, полученных разными методами. Использование даже одного и того же метода часто не дает равнозначных результатов. Многие исследователи придерживаются точки зрения, что люди современного анатомического вида проникли из Африки в Левант ок. 120 тыс. л.н. [Stringer, 2012; Shea, 2007; и др.].
В Эфиопии было обнаружено некоторое количество палеоантропологических о станков, и, хотя в Восточной Сахаре и на Аравийском полуострове, как отмечают О. Бар-Йозеф и его соавторы, такие материалы не выявлены, присутствие здесь гомининов можно вычислить по наличию каменных индустрий вдоль предполагаемого пути их следования [Frumkin, Bar-Yosef, Schwarcz, 2011, p. 448]. По нашему мнению, археологические свидетельства миграции людей современного антропологического вида в Левант в это время пока не найдены.
Могло быть два маршрута проникновения человека в Левант из Африки: через Левантийский коридор и при понижении уровня океана по суше и шельфу Баб-эль-Мандебского пролива. На северо-востоке Африки развивались две индустрии – атерийская и левал-луа-нубийская. Выше мы уже рассматривали возможность связи между индустриями среднего палеолита Леванта и северо-востока Африки и пришли к выводу, что это были различные технико-типологические комплексы. Популяции анатомически современных людей – создатели нубийско-леваллуазской индустрии – действительно пришли из Африки в Аравию в период МИС 5е и сформировали афро-аравийский нубийский технокомплекс [Usik et al., 2013; и др.]. В это время в Аравии были наиболее благоприятные условия для обитания, произошло «озеленение» этой территории, а в Сахаре, как и в целом в Северной Африке, позднее 115 тыс. л.н. происходила сильная ари-дизация [Drake, Breeze, Parker, 2013].
Нубийский леваллуазский технокомплекс мог оказать только опосредованное влияние на средний палеолит Леванта. Индустрия среднего палеолита Леванта типа Табун С истоками была связана с технокомплексом раннего периода среднего палеолита типа Табун D и в своем развитии не претерпела коренных изменений, что должно было произойти при аккультурации с приходом популяции людей современного анатомического вида и тем более при замещении автохтонного населения пришлым.
Синхронная миграция создателей леваллуа-ну-бийского индустриального комплекса и популяции людей современного анатомического вида с другой индустрией из Африки в Левант, с нашей точки зрения, маловероятна. Никаких археологических свидетельств такого процесса нет.
В связи с находками в пещере Мислия в Леванте предложена еще одна гипотеза. Пещера Мислия дислоцируется на западных склонах горы Кармель. При ее раскопках были выявлены культуросодержащие горизонты финала нижнего – раннего этапа среднего палеолита [Zaidner, Weinstein-Evron, 2012]. Из среднепалеолитических горизонтов с площади 20 м2 было извлечено большое количе ство каменных артефактов. Каменная индустрия характеризуется пластинчатым расщеплением, в т.ч. леваллуаз-ским. Технику леваллуа представляют в основном однонаправленные подтреугольные в плане нуклеусы, с которых скалывали преимущественно подтреугольные острия и отщепы. Орудийный набор составляют острия и ретушированные пластины. Индустрия в этой пещере была близка к индустрии, обнаруженной в пещере Хайоним.
Среднепалеолитический горизонт содержал антропологические материалы: часть верхней челюсти, четыре отдельных зуба, фалангу и коленную чашеч- ку. Эти находки относятся, вероятно, к людям современного анатомического вида [Hershkovitz, Zaidner, Weinstein-Evron, 2013]. Для среднепалеолитического слоя мощностью 2,5–3,0 м термолюмине сцентным методом определен большой диапазон дат. Исследователи солидарны во мнении, что даты для находок из пещеры Мислия и материалов раннего периода среднего палеолита из пещер Табун и Хайоним укладываются в интервал от 250 тыс. и до приблизительно 165 тыс. л.н. [Valladas et al., 2013]. Финал среднего палеолита пещеры Мислия соответствует началу среднего палеолита типа Табун С – 165 ± 16 тыс. л.н. [Mercier, Valladas, 2003].
С учетом некоторых различий индустрий финального этапа раннего палеолита и раннего этапа среднего палеолита из пещеры Мислия специалисты сделали вывод о приходе ок. 250 тыс. л.н. в Левант новой популяции. Она могла быть связана либо с неандертальцами из Европы, либо с людьми современного анатомического типа из Африки [Valladas et al., 2013].
Для такого заключения, с нашей точки зрения, нет достаточных оснований. В первой части данной статьи рассматривалась позднеашельская пластинчатая индустрия периода ок. 280 тыс. л.н., выявленная в формации Каптурин. Индустрия отличается от более ранней пластинчатой индустрии возрастом свыше 500 тыс. лет, которая залегала в более древних отложениях этой же формации вместе с останками H. rhodesiensis и не имеет никаких аналогий с ашело-ябрудийской индустрией Леванта. Средний каменный век (MSA I) также совершенно отличается от среднего палеолита Леванта. Среднепалеолитические индустрии северо-востока Африки не имели ничего общего с синхронными комплексами Леванта. Следовательно, нет оснований считать возможным проникновение ок. 250 тыс. л.н. в Левант из Африки людей современного антропологического вида и связывать среднепалеолитическую индустрию из пещеры Мис-лия с африканскими. Нам не известны мустьерские индустрии в Европе, которые могли послужить основой для формирования комплексов раннего этапа среднего палеолита Леванта. Поэтому гипотезу о возможной миграции людей современного анатомического вида из Африки или неандертальцев из Европы 250 тыс. л.н. в Левант, куда они могли принести индустрию среднего палеолита, мы, учитывая имеющийся археологический и антропологический материал, считаем недостаточно обоснованной. Гораздо больше свидетельств того, что истоком среднепалеолитического технокомплекса Леванта являлась ашело-ябру-дийская индустрия.
Преемственность в развитии среднего палеолита Леванта позволяет выдвинуть гипотезу о заселении этой территории в среднем и первой половине верхнего плейстоцена популяциями, которые эволюциони- ровали в сторону сапиентации, в результате чего здесь сформировались два таксона, представленные людьми современного анатомического вида и палестинскими, или переднеазиатскими, неандертальцами.
Около 0,9–0,8 млн л.н. в Африке, по мнению ряда антропологов, на основе Homo erectus sensu lato происходил процесс видообразования: H. erectus дал начало новому виду, который получил разные названия – H. heidelbergensis, H. rhodesiensis , архаичный H. sapiens [Rightmire, 1996, 1998; Bräuer, 2008, 2010, 2012; Hublin, 2001, 2009; и др.]. Рассмотрим схематично судьбу нового таксона H. heidelbergensis/rho-desiensis в Африке и Европе, которого многие ученые связывают с происхождением людей современного анатомического вида*. Антропологические находки из Африки и Евразии среднего и первой половины верхнего плейстоцена характеризуются большой мозаичностью таксономических признаков и вариативностью. Поэтому многие краниальные и посткраниальные материалы совершенно по-разному интерпретируются исследователями, и рассмотреть точку зрения каждого антрополога совершенно невозможно.
Единого сценария эволюции от H. heidelbergensis к людям современного анатомического вида и палестинским неандертальцам не существует. Антропологи зачастую по-разному оценивают видовую принадлежность одних и тех же находок. Это естественный и объяснимый исследовательский процесс. Однако трудно понять, почему останки гомининов из одного местонахождения, сравнительно близких по времени и использовавших одну индустрию, относят к разным видам? Многообразие мнений обусловлено большой мозаичностью в морфологии среднеплейстоценовых гомининов и неразработанностью критериев оценки важности тех или иных морфологических признаков черепов и посткраниальных скелетов для внутривидовой дефиниции. Например, Дж. Шварц и А. Таттер-салл считают, что в серии антропологических находок Кафзех 1, 2, 9 и 11 являются представителями H. sapiens, но остальные определенно таковыми не являются [Schwartz, Tattersall, 2005, p. 600].
С точки зрения археологии, трудно допустить возможность одновременного проживания на одной стоянке двух разных видов (подвидов?) с одной индустрией, поскольку каждому таксону соответствует своя индустрия. Наличие на одном местонахождении антропологических находок разной «таксономической» принадлежности логично объяснить морфологическим полиморфизмом в популяции.
Кратко изложим гипотезу эволюционного развития H. heidelbergensis/rhodesiensis в Африке и Европе. В Африке эволюция этого вида прослеживается по антропологическим находкам Бодо, Каб- ве 1, 2, Салданха, Ндуту, Эяси 1, 2, Сале, Салданья, Эландсфонтейн и др., которые относятся к интервалу 600–200 тыс. л.н. В этом материале нашла отражение мозаика эректоидных и сапиентных особенностей. Антропологи по-разному таксономически оценивают данные находки и их роль в формировании родословной человека: выделение H. sapiens sensu lato; деление полиморфного вида H. sapiens на несколько отдельных видов; выделение трех различных сообществ или групп и т.д. [Bräuer, 2010, 2012]. С нашей точки зрения, разумеется весьма спорной, H. heidel-bergensis и H. rhodesiensis представляют один политипический вид, сыгравший большую роль в эволюции человека: в Европе от него произошел H. neandertha-lensis, в Африке – H. sapiens, на Ближнем Востоке – H. sapiens и морфологически близкий к нему палестинский неандерталец.
Антропологические о станки ранних архаичных сапиенсов обнаружены в основном в Восточной Африке, они известны также в Северной и Южной Африке. Переход от ранних архаичных к анатомически современным H. sapiens на этой территории проходил в виде непрерывной анагенетической эволюции без событий видообразования [Bräuer, 2008, 2012; Mbua, Bräuer, 2012].
У антропологов нет солидарного мнения по вопросу о формировании человека современного анатомического вида. Г. Бройер связывает находки, относящиеся к периоду 300–200 тыс. л.н., с поздней переходной архаической группой сапиенсов. С этой группой он ассоциирует череп KNM-ER 3884 со стоянки Иллерет (270 тыс. л.н.), Летоли 18 (250 тыс. л.н.), Элие Спрингс (дата не определена), Флорисбад (260 тыс. л.н.), Дже-бель Ирхуд 1, 2 (190–170 тыс. л.н.). О возможной преемственности между ранними и поздними архаичными людьми свидетельствует, по его мнению, находка в Рабате (250 тыс. л.н.), а о переходе от архаичного к раннему H. sapiens анатомически современного вида – Омо 1 и Омо 2, Херто, Синга и др. [Bräuer, 2008, 2012; Mbua, Bräuer, 2012]. Г.Ф. Райтмайер считает, что ок. 800 тыс. л.н. после возникновения вида H. heidelbergensis эволюционное развитие этого таксона происходило в двух направлениях – неандерта-лоидном и сапиентном. В конце среднего плейстоцена на основе гейдельбергского человека сформировались H. neanderthalensis и H. sapiens . В качестве подтверждения гипотезы о появлении в Африке первых людей современного анатомического вида исследователь указывает находки Флорисбад, Летоли, Джебель Ир-худ. В начале верхнего плейстоцена в процессе видообразования появились люди современного вида (находки на р. Класиес, Схул, Кафзех) [Rightmire, 2001, 2009; и др.].
В Европе ашельская индустрия появляется ок. 600 тыс. л.н. вместе с H. heidelbergensis. Видимо, с этого времени происходит эволюционное развитие данного таксона в сторону формирования морфологии неандертальца. Данный процесс датирован ориентировочно 450 тыс. л.н. или несколько более ранним временем [Hublin, 1998]. В результате секвенирования митохондриальной ДНК было установлено, что го-минины местонахождения Сима де лос Уэсос, жившие ок. 430 тыс. л.н. [Arsuaga et al., 2014] (по другим данным, 530 тыс. л.н.), связаны общим предком с денисовцами, а не с неандертальцами, хотя морфологически они имели много сходных черт с последними* [Meyer et al., 2014]. В дальнейшем выявление последовательности ядерной ДНК из двух образцов позволило предположить, что обитатели Сима де лос Уэсос, скорее всего, были связаны с неандертальцами, а не с денисовцами [Meyer et al., 2016]. Последовательности ядерной ДНК, извлеченной из бедра АТ-5431 и резца обитателя Сима де лос Уэсос, показали, что популяции этого таксона относятся к ранним неандертальцам или группе, тесно связанной с предками неандертальцев периода после расхождения от общего их предка с денисовцами. Как предполагают исследователи, генофонд митохондриальной ДНК неандертальцев обновился после начального этапа их истории. Полногеномное секвенирование показало, что неандертальцы и денисовцы отделились от общей предковой популяции между 381 и 473 тыс. л.н.
Результаты секвенирования ДНК позволяют сделать два о сторожных вывода. Первый: в генофонде таксона, который пришел в Западную Европу с Ближнего Востока с ашельской индустрией ( H. hei-delbergensis ) ок. 600 тыс. л.н., спустя какое-то время митохондриальная ДНК была более связана с дени-совцами, а ядерная ДНК – с неандертальцами. Второй: таксон, представленный в Сима де лос Уэсос, на основании секвенирования ядерного генома можно отнести к неандертальскому хроновиду, в генофонде которого могли сохраняться гены денисовца.
В 1993 г. около г. Альтамура в Южной Италии были обнаружены останки индивидуума, покрытые слоем кальцита [Lari et al., 2015]. Секвенирование митохондриальной ДНК этой особи показало ее полное соответствие мтДНК неандертальцев. Для особи из Альтамура Th/U-методом получены даты: 130 ± 20 и 172 ± 15 тыс. л.н. Следовательно, к этому времени у нее уже не было мтДНК денисовца. Около 270–250 тыс. л.н. в Западной Европе появилась ле-валлуазская стратегия первичного расщепления. С нашей точки зрения, это было связано с миграцией популяции людей с Ближнего Востока в финале нижнего или на раннем этапе среднего палеолита. Левал- луазская система расщепления в Европе также могла появиться в результате кратковременных контактов или эстафетной передачи инновационной технологии. Поэтому не исключено, что мустьерская индустрия Западной Европы развивалась под влиянием ашело-ябрудийской индустрии финального или раннего этапа среднего палеолита Леванта.
Иначе проходил процесс эволюции H. heidelber-gensis в Леванте. Здесь обнаружено не очень много антропологических материалов, в основном в Израиле. Наиболее ранними на территории Леванта являются останки, открытые в Убейдии. На этой раннепалеолитической стоянке в Израиле возрастом ок. 1,4 млн лет были выявлены двусторонне обработанные орудия – древнейшие в Евразии свидетельства первой волны мигрантов с бифасиальной индустрией. При раскопках Убейдии найдены также несколько фрагментов черепа (UВ 1703, 1704, 1705, 1706), резец (UB 1700) и коренной зуб (UB 1701). Р. Тобиас отнес их к роду Homo [Tobias, 1966], а Е. Чернов – к подвиду H. cf. erectus [Tchernov, 1987]. Позднее среди фаунистических материалов удалось обнаружить изношенный правый боковой нижний резец (UB 335), который специалисты предварительно связали с H. ergaster [Bel-maker et al., 2002]. По нашему мнению, археологические материалы позволяют заключить, что стоянка принадлежала H. erectus.
Друго е местонахождение в Израиле, где прослежена уникальная стратиграфическая последовательность мощностью более 34 м, формировавшаяся не менее 50 тыс. лет, – Гешер Бенот Яаков. Его исследованиям посвящена обширная литература (см.: [Деревянко, 2016а]). Ранний этап формирования культуросодержащих горизонтов датируется временем ок. 0,78 млн л.н., а в целом стоянка относится к МИС 20–18 [Feibel, 2004]. На этом местонахождении обнаружен многочисленный и разнообразный инвентарь. Исследователи выделяют орудия четырех основных разновидностей: бифасы (ручные топоры), кливеры, отщепы и орудия на отщепах, нуклеусы и орудия на нуклеусах. С нашей точки зрения, стоянка Гешер Бенот Яаков по происхождению, возможно, связана со стоянкой Убейдия, хотя их отделяет друг от друга большой промежуток времени. Одна из о сновных исследователей стоянки Гешер Бенот Яаков Н. Горен-Инбар считает, что индустрию стоянки нельзя причислить к африканским или азиатским комплексам. Это феномен с палеолитическими характеристиками и широким спектром особенностей, многие из которых обусловлены местным происхождением и лишь отдельные могут быть результатом влияния извне [Goren-Inbar, 1992, p. 67].
Местонахождение Гешер Бенот Яаков, как нам представляется, принадлежало H. heidelbergensis. Около 800 тыс. л.н. он вышел из Африки и начал рас- селяться в Евразии. H. rhodesiensis продолжал на территории Африки эволюционное развитие и на этой основе 180–150 тыс. л.н. сформировал H. sapiens. Homo heidelbergensis мигрировал из Африки в Левант и мог быть наиболее удаленным предком трех дочерних филогенетически близких, но явно различимых алло-таксонов: H. sapiens, H. neanderthalensis и денисовец [Stringer, 2012].
Сформировавшиеся в Африке популяции, представлявшие вид H. heidelbergensis , мигрировав на территорию Леванта, встретили там автохтонное эректо-идное население. В дальнейшем произошел процесс аккультурации, в результате которого пришлые группы восприняли многие технико-типологические элементы индустрии автохтонного населения. В результате индустрия Гешер Бенот Яаков приобрела много черт, отличающих ее от ашельской африканской индустрии. Антропологических материалов в Леванте обнаружено немного, и наша гипотеза дальнейшей эволюции гейдельбергского человека на Ближнем Востоке нуждается, безусловно, в подтверждении археологическими, антропологическими и генетическими исследованиями.
Разнообразие и мозаичность в эволюционной трансформации плейстоценовых гомининов в Африке и Евразии рассматриваются в многочисленных исследованиях. Центральным является вопрос о том, как развивались эти гоминины в сторону сапиента-ции – в рамках одного хроновида H. sapiens sensu lato с дальнейшим разделением на подвиды, палеопопуляции и т.д. или, распавшись на два или несколько видов: H. heidelbergensis, H. helmei, H. sapiens [Bräuer, 2012].
В Израиле обнаружены три среднеплейстоценовых местонахождения с палеоантропологическими материалами. Еще в 1925 г. в пещере Мугхарат-эль-Эмирех были найдены лобная, правая скуловая и частично сохранившаяся клиновидная ко сти. Эти палеоантропологические находки вошли в литературу как останки гоминина Зуттиех. Ученые по-разному определяли их видовую принадлежность.
Б. Вандермеерш относил Зуттиех к архаичным H. sapiens . Г.Ф. Райтмайер считал, что лобная кость Зуттиех связывает его как с ранними неандертальцами, так и с прямыми предками людей из Схул и Каф-зех. Наличие в пещере Мугхарат-эль-Эмирех артефактов ашело-ябрудийского комплекса (350–300 тыс. л.н.) позволяет отнести Зуттиех к архаичной популяции, населявшей Африку, т.е. к таксону, которому принадлежат находки Бодо, Эландсфонтейн, Броукен-Хилл, Эяси, Ндуту [Rightmire, 2009]. Г. Бройер ассоциировал Зуттиех с ранней архаичной группой H. sapiens [Bräuer, 2008].
С.Е. Фрейдлин c соавторами с учетом всех мнений исследователей о морфологии ко стных остатков
Зуттиех разработали четыре гипотезы эволюции го-мининов [Freidline et al., 2012, р. 237–238]. По времени останки Зуттиех совпадают с амудийской индустрией.
Первая гипотеза: Зуттиех являлся локальным представителем среднеплейстоценового вида с широким диапазоном распространения в Африке и Европе. Этот вид – H. heidelbergensis/rhodesiensis – вероятно, был предком неандертальцев и людей современного вида.
Вторая гипотеза: в соответствии с аккреционной моделью длительной эволюции неандертальцев в Западной Европе Зуттиех был связан с юго-западными представителями данной группы, которые определялись как H. neanderthalensis или H. heidelbergen-sis senso stricto, предшествовавшие неандертальцам хроновиды.
Третья гипотеза: был регулярный генообмен между популяциями Африки и Западной Азии в среднем – верхнем плейстоцене. При этом Зуттиех являлся таксоном, предшествовавшим сапиенсу в Африке.
Четвертая гипотеза: Зуттиех и западно-азиатские гоминины (Схул, Кафзех и неандертальцы) либо представляли региональную эволюционную линию H. sapiens, либо вместе с африканскими средне-и позднеплейстоценовыми людьми составляли линию H. sapiens «с глубокими корнями». Согласно этой гипотезе, Зуттиех должен характеризоваться признаками, указывающими на родство с гомининами Юго-Западной Азии [Ibid., p. 238].
Исследователи приходят к выводу о морфологическом сходстве Зуттиех и ближневосточных неандертальцев (Шанидар V), среднеплейстоценовых гомининов (Араго XXI) и ближневосточных ранних людей современного типа (Схул V). Как отмечают С.Е. Фрейдлин с соавторами, их результаты не позволяют дать четкого таксономического определения останков Зуттиех, но морфология Зуттиех типична для популяции, являвшейся предковой для неандертальцев и людей современного типа или же популяции, существовавшей сразу после расхождения этих двух видов [Ibid.].
В пещере Табун в слое Е удалось обнаружить бедренный диафиз и изношенный нижний моляр, которые были отнесены Э. Тринкаусом к архаичным людям [Trinkaus, 1995].
Более информативные палеоантропологические материалы были найдены в пещере Кесем [Hersh-kovitz et al., 2011]. При раскопках в ней обнаружили большое количество каменных изделий, относящихся к амудийской индустрии, по мнению исследователей, местного происхождения, не связанных с комплексами Африки и Европы [Barkai, Gopher, Shimelmitz, 2005; Gopher et al., 2005]. Были найдены как верхне-, так и нижнечелюстные зубы. И. Хершковитц с соав- торами предложили три гипотезы, объясняющие морфологию зубов из пещеры Кесем.
Первая гипотеза: обитатели пещеры относятся к местной архаичной популяции Ното, жившей в Юго-Западной Азии 400–200 тыс. л.н.; зубы, несмотря на некоторую плезиоморфность, указывают на бóльшую степень их родства с популяциями Сху-ла и Кафзеха, нежели с неандертальцами [Hershkov-itz et al., 2011]. В пользу этой гипотезы, по мнению ее авторов, свидетельствуют археологические материалы: леваллуазские комплексы с большим количеством заготовок в виде пластин и орудий, оформленных на пластинах, подтверждающие местные истоки амудийской индустрии.
Вторая гипотеза: эволюция H. neanderthalensis в Юго-Западной Азии была длительной, как и в Европе, где неандертальская эволюционная линия восходит к среднему плейстоцену. Этому противоречит, по мнению авторов, тот факт, что останки современных архаичных людей Схула и Кафзеха датируются более поздним временем, чем находки из пещеры Ке-сем, но они старше большинства неандертальских образцов в Леванте.
Третья гипотеза: по сравнению с верхнечелюстными нижнечелюстные зубы находились в более нижних горизонтах, были меньше по размерам, они не обладали плезиоморфными чертами, характерными для более поздних верхнечелюстных. Как хронологические, так и морфологические различия между зубами могут отражать межпопуляционные различия на уровне видов и свидетельствовать о смене популяций в данном регионе.
В пещере Мислия с орудийным набором раннего среднего палеолита (250–165 тыс. л.н.) обнаружены часть верхней челюсти с неповрежденными I2–M2, четыре отдельных зуба, фаланга и коленная чашечка, принадлежавшие ранним людям современного анатомического вида или неандертальцам [Valladas et al., 2013].
Таким образом, немногочисленные антропологические материалы из Леванта, относящиеся ориентировочно к периоду 350–150 тыс. л.н., не дают четкой информации об их принадлежности какому-то определенному виду; в них сочетаются апоморфные и плезиоморфные признаки. Не исключено, что эти находки представляют следующий этап эволюции H. heidelbergensis и этот таксон сочетал в себе признаки как ранних H. sapiens , так и H. neanderthalensis .
Рассматривая версию возможного расселения H. heidelbergensis в Леванте, мы допускаем, что у популяций, представлявших линию дальнейшего развития этого таксона, как и у H. heidelbergensis из Сима де лос Уэсос, была ДНК денисовцев. В пользу такого предположения свидетельствуют данные о миграции ок. 350–300 тыс. л.н. части левантийской по- пуляции на восток и ее появлении ок. 280 тыс. л.н. на Алтае [Деревянко, 2001]. В антропологическом материале из слоя 22 Денисовой пещеры выделена ДНК денисовца. Следы его присутствия в пещере имеются во всей палеолитической последовательности до слоя 9.
Большое значение, с нашей точки зрения, имеют результаты секвенирования ДНК гомининов из Сима де лос Уэсос [Meyer et al., 2014]. Поскольку в их генофонде выявлены гены неандертальцев и денисов-цев, можно предположить, что H. heidelbergensis , вышедший из Африки ок. 800 тыс. л.н. и мигрировавший в Левант, участвовал в процессах гибридизации с местными популяциями и аккультурации. В результате дальнейшей эволюции на основе гейдельбергцев сформировалось три близких таксона: H. sapiens , неандертальцы и денисовцы. В геноме денисовцев выявлены гены от неизвестного гоминина, который отделился от общего генетического ствола ок. 1 млн л.н. [Prüfer et al., 2014]. Возможно, этот неизвестный гоми-нин был представителем популяций с ашельской индустрией, которые мигрировали из Африки в Левант ок. 1,4 млн л.н. Свидетельством их расселения является местонахождение Убейдия. В результате генного дрейфа от этих гомининов гейдельбергцы получили гены, которые были выявлены у денисовцев.
Относительно палеоантропологических материалов из Леванта, принадлежащих более позднему времени – хронологическому интервалу МИС 5 и 4, существуют две точки зрения. Одни исследователи считают, что все находки представляют единую популяцию, близкую к анатомически современным людям [Kramer, Сrummеtt, Wolpoff, 2001; Arensburg, Belfer-Cohen, 1998; и др.], другие относят скелетные остатки из Табуна, Амуда и Кебары к неандертальцам, а из Схула и Кафзеха – к ранним H. sapiens [Tchernov, 1992; Jelinek, 1992; Vandermeersch, 1992, 1997; Stringer, 1992, 1998; и др.].
Дискуссионными являются вопросы, связанные с определением стратиграфического положения, дат и таксономической принадлежности палеоантропологических находок, особенно из пещеры Табун. Находки из слоя С пещеры включают неполный женский скелет (Табун I), полную нижнюю челюсть (Табун II), основную часть бедра (Табун III), кости запястья и пальцев (Табун IV–VI). Женский скелет отнесен к верхней части слоя С, хотя он находился на 85 см выше нижней челюсти, и Д. Гаррод не исключает, что он мог быть переотложен из слоя В [The Stone Age…, 1937]. Этого мнения придерживаются и другие исследователи [Bar-Yosef, Callander, 1999; и др.].
Неполный скелет Табун I и нижнюю челюсть Табун II одни исследователи связывают с неандертальцами [Stefan, Trinkaus, 1998; Trinkaus, 1987; и др.], а дру- гие сближают с гомининами из пещер Схул и Кафзех и относят к анатомически современным людям [Quam, Smith, 1998; Rak, 1998]. Эти расхождения в позициях ученых обусловлены тем, что до конца нерешенным в эволюционной антропологии остается вопрос о выборе таксономических паттернов, отсутствуют единые критерии определения вида, в т.ч. H. sapiens.
Различия в таксономической оценке особенно ярко проявляются при интерпретации исследователями палеоантропологических находок из Леванта, относящихся к последнему межледниковью и первой половине последнего похолодания. Отчасти это можно объяснить тем, что за последние 50–70 лет многое изменилось в трактовке антропогенеза, что связано с расширением корпуса археологических и антропологических находок, удревнением сапиенса и включением в решение проблем антропогенеза результатов палеогенетического анализа.
До середины прошлого века господствовала гипотеза линейной эволюции человека: австралопитек – архантроп ( Homo ergaster, habilis, erectus) – палеоантроп ( Homo neanderthalensis ) – неоантроп ( Homo sapiens ). Многие ученые считали всех гомининов возрастом более 150 тыс. лет, останки которых были найдены в Африке и Евразии, палеоантропами. Во второй половине XX в. в Европе были выделены довюрмские (атипичные), «классические» вюрмские и отчасти палестинские неандертальцы. Ученые отказались от отнесения поздне-, средне- и ранневерхнеплейстоценовых гомининов к неандертальцам, хотя их индустрию, представленную в Северной Африке, продолжали называть мустьерской.
В конце ХХ в. при секвенировании ДНК неандертальца и современного человека в геноме последнего не было выявлено неандертальских последовательностей, неандертальцы оказались вычеркнутыми из родословной современного H. sapiens . Некоторые ученые даже предложили исключить из антропогенеза H. erectus . Возник хиатус между австралопитеками и H. sapiens .
Были разработаны две основные гипотезы антропогенеза. Первая гипотеза – моноцентрическая – предполагает происхождение современного человека в Африке и его расселение 80 (70)–50 тыс. л.н. в Евразии с замещением автохтонных популяций или с некоторой гибридизацией в отдельных регионах. Вторая гипотеза – мультирегиональной эволюции – подкрепляется результатами секвенирования ДНК неандертальца и выявлением нового сестринского ему таксона – денисовца. Они позволяют сделать вывод о том, что в позднем плейстоцене происходило скрещивание, хотя и в незначительной степени, между несколькими группами гомининов, которые можно считать подвидами. По мнению С. Паабо, это была «метапопуляция», или сеть популяций, включавшая неандер- тальцев, денисовцев, людей современного анатомического вида и другие группы, которые участвовали в нерегулярном, а иногда и в постоянном обмене генами [Pääbo, 2014].
Нами предлагается новая гипотеза, учитывающая данные секвенирования генома, новые открытия в области археологии и антропологии, а также мнения других ученых, работающих по проблеме антропогенеза. Около 800 тыс. л.н. на африканском континенте в процессе видообразования сформировался политипический вид Homo heidelbergensis/rhodesiensis . В среднем плейстоцене в Африке в результате эволюции и дивергенции H. rhodesiensis (о чем свидетельствуют различия между индустриями, представленными на юге, востоке и севере континента) и генного дрейфа 200–150 тыс. л.н. формируется человек современного вида. В Европе H. heidelbergensis эволюционирует в таксон H. neanderthalensis , обладающий большой вариативностью. На Ближнем Востоке, преимущественно в Леванте, на основе H. heidelbergen-sis формируются три генетически и таксономически близких таксона: люди современного анатомического вида, палестинские неандертальцы и денисовцы. Около 300 тыс. л.н. популяции с пластинчатой/леваллу-азской технологией (предки денисовцев) мигрируют из Леванта на восток Евразии. На Алтае и, судя по индустрии, в Центральной Азии мигранты (денисовцы) с Ближнего Во стока, генофонд которых содержал некоторую долю неандертальской ДНК, приняли участие в формировании H. sapiens altaiensis. В Восточной и Юго-Восточной Азии с периода первоначального заселения этой территории H. erectus происходят конвергентное технологическое развитие каменной индустрии и эволюционное развитие рода человека в сторону сапиентации. Часть потока двигавшихся с Ближнего Востока популяций проникла в Юго-Восточную и Восточную Азию, вследствие чего в геноме некоторых современных народов в разной степени проявляются денисовские и неандертальские гены, унаследованные от поздних гейдельбергских форм го-мининов, мигрировавших ок. 300 тыс. л.н. из Леванта. Согласно последним данным, формирование человека современного вида, с нашей точки зрения, происходило на основе H. sapiens africanensis (стволовая линия). Представители этой линии мигрировали в Евразию. В Европе они участвовали в гибридизации с популяциями Homo sapiens neanderthalensis , в южной части Северной и Центральной Азии – с Homo sapiens altaiensis и в Восточной и Юго-Восточной Азии – с Homo sapiens orientalensis [Деревянко, 2011]. Эти процессы сопровождались аккультурацией [Там же]. Не исключено, что в будущем в антропологическом материале в Евразии будут выделены новые подвиды сапиенса, которые также внесли вклад в генофонд ныне живущего населения планеты.
Для подтверждения этой гипотезы, конечно, необходимы новые археологические и антропологические свидетельства. Очень важно в ближайшее время попытаться секвенировать ДНК из антропологических материалов из пещер Схул, Кафзех, Амуд, Кебара, Манот и, если возможно, из более ранних антропологических находок из пещер Зуттиех, Ке-сем и Мислия.
На наш взгляд, имеется уже достаточно материалов, подтверждающих гипотезу не только о преемственности в развитии ранне- и среднепалеолитических индустрий, но и о генетической преемственности между популяциями гомининов, расселявшихся на этой территории в среднем и верхнем плейстоцене.
Несмотря на малочисленность палеоантрополо-гиче ских находок периода МИС 11–6 из Леванта, с учетом предложенных исследователями гипотез, а также данных о том, что на эту территорию не вторгались популяции с другой индустрией, можно сделать следующее предположение. Популяции с ашель-ской индустрией ( H. heidelbergensis ), мигрировавшие ок. 800 тыс. л.н. из Африки в Левант, расселялись на этой территории в течение нескольких сотен тысяч лет. В результате дивергенции, адаптации, генного дрейфа и других эволюционных процессов, а также кратковременных контактов с популяциями сопредельных территорий здесь сформировались люди современного типа, которых представляют палеоантропологические находки из пещер Схул и Кафзех, и палестинские неандертальцы, ассоциируемые с материалами из пещер Табун, Амуд и Кебара. Об этом свидетельствует и гомогенная каменная индустрия Леванта интервала 400–40 тыс. л.н.
На ашело-ябрудийском этапе на этой территории появился новый таксон, известный по находкам из пещеры Кесем. Его представители похожи на позднее население данного региона (Схул и Кафзех) [Ben-Dor et al., 2011]. Исследователи делают вывод о появлении в Леванте нового вида человека. Многочисленность останков гомининов левантийского среднего палеолита (Кафзех, Схул, Зуттиех, Табун) и то, что ашело-ябрудийский комплекс не имеет аналогов в Африке, дают основание предполагать, что развитие культуры происходило в автохтонной биологической среде [Ibid., p. 9]. Это заключение подтверждает нашу осторожную гипотезу дальнейшего эволюционного развития H. heidelbergensis на территории Леванта в период МИС 5–4.
Палеоантропологические материалы из Схул, Каф-зех, Табун, Амуд, Кебара свидетельствуют об увеличении числа апоморфных сапиентных признаков, близких к таковым современного человека, и о сокращении плезиоморфных черт. Причем в находках из Схул и Кафзех апоморфность проявляется в большей степени, чем в антропологическом материале из других пещер. Но и внутри каждой из этих групп людей анатомически современного вида и палестинских неандертальцев наблюдается большая мозаичность морфологических комплексов и их вариабиль-ность. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Сложность таксономической дифференциации, несовпадение позиций исследователей объясняются не только тем, что при оценке антропологического материала используются разные критерии, но и отсутствием четкой стратиграфической и хронологической привязки находок. Опираясь на последние обобщенные данные, Р. Грюн с соавторами приходят к выводу: имеющиеся даты позволяют отнести три местонахождения Схул, Кафзех и Табун к одному времени, диапазону 130–100 тыс. л.н. Присутствие в Леванте в период МИС 5 ранних представителей современных людей и неандертальцев затрудняет разделение этих популяций во времени и пространстве [Grün et al., 2005, p. 332]. Вместе с тем ESRAJ-методом удало сь установить возраст зубного материала из Табун С1 – 120 ± 16 тыс. лет и то, что фрагмент, скорее всего, попал из слоя В в слой С [Grün, Stringer, 2000]. Последнее подтверждается повторными исследованиями полевого журнала [Bar-Yosef, Callander, 1999].
Среди специалистов нет единства по вопросу о стратиграфическом положении антропологических находок из пещеры Табун, их возрасте и таксономической принадлежности. Исследователи относят Табун I как к неандертальцам, так и к людям современного анатомического вида. Нижняя челюсть, которая залегала на 85 см ниже Табун II и бесспорно относится к слою С, по мнению одних ученых, близка к антропологическим находкам из пещер Схул и Кафзех [Quam, Smith, 1998; Rak, 1998], а по мнению других – принадлежит неандертальцу [McCown, Keith, 1939; Trinkaus, 1987, 1993; Ronen, 2012; и др.].
К. Стрингер и его соавторы считают, что все антропологические находки из пещеры Табун происходят в основном из слоя С и относятся к неандертальцам [Schwarcz, Simpson, Stringer, 1998]. Для слоя С в пещере Табун определены TL-дата – ок. 150–190 тыс. л.н., ЭПР-дата – ок. 105–160 тыс. л.н., но наиболее правильной является дата в пределах 130 тыс. л.н. Следовательно, неандертальцы не мигрировали в Левант из Западной Европы 75 тыс. л.н., а заселили пещеру Табун несколько раньше, чем H. sapiens пещеры Схул и Кафзех. Это не означает, что неандертальцы появились в Леванте раньше людей современного анатомического вида, просто их останки оказались в более ранних горизонтах. По мнению некоторых специалистов, люди современного вида, скелеты которых обнаружены в Схул и Кафзех, и неандерталец Табун I принадлежат одному периоду [Grün et al., 2005; Ronen, Gisis, Tchernikov, 2011].
Бесспорные, как считают многие исследователи, костные материалы людей современного антропологического вида обнаружены в пещерах Схул и Кафзех. В пещере Схул находились останки десяти человек разного возраста – восьми мужчин и двух женщин.
При раскопках в пещере Схул было выделено три культуросодержащих слоя. Слой А включал смешанные натуфийские, ориньякские и позднесреднепалеолитические индустрии. Из слоя В, разделенного на верхний подгоризонт В1 и нижний В2, были извлечены все антропологические материалы и среднепалеолитические изделия. В слое С найдено небольшое количество артефактов [McCown, 1934]. По мнению исследователей, если исходить из предположения о том, что отложения с останками сформировались в течение относительно непродолжительного времени, то их наиболее точная дата – интервал 135–100 тыс. л.н. [Grün et al., 2005].
Краниальная и посткраниальная морфология людей из Схул мозаична. Поэтому неслучайно, что до недавнего времени их останки связывали с неандертальцами, которые могли мигрировать в Левант из Европы [Vandermeersch, 1981] или Африки [Andrews, 1984].
Исследователи с учетом различий в стратиграфической позиции останков предлагали разделить го-мининов, представленных в пещере Схул, по хронологическому признаку на две группы: более ранняя группа (III и VI–X) и более поздняя (I, IV, V) [McCown, Keith, 1939]. Эту точку зрения поддерживал и А. Ронен [Ronen, 1976]. По мнению Д. Кауфмана, выделение двух таких групп не обязательно подразумевает, что между ними был большой промежуток времени [Кауфман, 2002].
В характеристике антропологического типа обитателей пещеры Схул прослеживаются признаки Homo sapiens : высокий рост (173–179 см), очень низкие орбиты, большая ширина лица [Зубов, 2004]. Вместе с тем имеется немало особенностей, сближающих людей из пещеры с неандертальцами.
Наиболее хорошо сохранился скелет Схул V. Это был мужчина 30–40 лет, высокого роста, грацильно-го телосложения. Объем его головного мозга составлял 1 518 см3, череп отличался большой высотой свода, малой высотой орбит, довольно высоким лицом при большой ширине*. Надорбитная область Схул V по ряду описательных и измерительных характеристик сходна с таковыми Младич V и Брюни I и имеет неандерталоидно-сапиентную морфологию. Скуловая область характеризуется сапиентностью, угол между лобным и височным отростками скуловой кости, равный 115º, также является маркером совре- менного человека. Форма лобного отростка сближает Схул V с особями Оберкассель 1 и Броукен-Хилл. Сравнительный анализ по формообразующим углам мозговой коробки выявил близость Схул V к экземплярам Амуд, Броукен-Хилл и Нгадонг XI. По ряду параметров нижняя челюсть Схул V сходна с таковой Амуд, Ле Мустье 1 и 2, Оберкассель 1 и 2 и других представителей неандертальской группы.
В краниальном и посткраниальном скелете Схул V сохраняло сь немало неандертальских признаков. Причем у разных особей сочетание эволюционно трансформированных и предковых черт выражалось по-разному в лицевом, мозговом отделах черепа и посткраниальном скелете. Как отмечает С.В. Васильев, результаты статистического анализа подтверждают вывод о том, что в антропогене формирование признаков лицевого скелета происходило быстрее, чем мозговой коробки. В филогенезе метрические признаки изменялись интенсивнее, чем структурные (описательные) [2006, с. 163].
В пещере Кафзех обнаружен более крупный некрополь, чем в пещере Схул: там находились погребения 15 людей современного вида [Ronen, 2012]. Для них имеется дата, установленная TL-методом по обожженному кремнию, 92 ± 5 тыс. л.н. Прямое датирование по зубам ЭПР-методом дало более надежные определения: 100 ± 10 и 120 ± 8 тыс. л.н. [Grün, Stringer, 1991].
Наиболее хорошо сохранились останки Каф-зех IX – женщины возрастом ок. 20 лет. Рядом с ней погребен ребенок. Видимо, это было парное захоронение. Женщину характеризуют высокий свод черепа, небольшой наклон лобной кости, относительно слабо выраженный рельеф надглазничной области, сильно выступающий, отчетливо выраженный подбородок, округлый без шиньона и перегиба затылок, современное строение скуловой области, клыковая ямка, тонкие стенки черепа, объем которого 1 554 см3 [Зубов, 2004, с. 348]. У хорошо сохранившегося черепа Кафзех VI также четко выражены признаки, соответствующие современному человеку. У погребенных в пещере Кафзех по сравнению с особями из пещеры Схул больше сапиентных признаков.
При раскопках пещеры Рас-эль-Кельб, расположенной в одноименном горном массиве, обнаружена индустрия, типичная для среднего палеолита типа Табун С, с отщепами, сколотыми с дисковидных нуклеусов, скреблами различных модификаций, зубчато-выемчатыми изделиями, небольшим количеством леваллуазских острий и пластин [Copeland, 1978]. В слое, где залегали эти изделия, найдены три зуба человека. Один, принадлежавший молодому человеку 16–20 лет, определен как крупный премоляр с сапиентными и неандертальскими признаками [Val-lois, 1962]. Два других зуба – верхний второй моляр человека возрастом ок. 23 лет и верхний второй молочный зуб ребенка – отличались более современными, чем у неандертальцев, признаками.
Наряду с сапиентной в Леванте развивалась линия палестинских неандертальцев. Западно-европейские неандертальцы периода 120–40 тыс. л.н. полиморфны по чертам строения черепа и посткраниального скелета. Неандертальцы Леванта отличались от них большим количеством апоморфных признаков и са-пиентностью. В Леванте погребения неандертальцев найдены в пещерах Табун, Амуд, Кебара (Израиль), Шанидар (Ирак), Дедерьех (Сирия).
Выше мы останавливались на характеристике женской особи из пещеры Табун. Рост женщины Табун I составлял 154 см, объем эндокрана 1 271 см2, череп низкий, наклон чешуи лобной кости значительный, сильно развит надбровный валик, почти не выражен подбородочный выступ. Восходящая ветвь нижней челюсти широкая и массивная, с высоким и широким венечным отростком и неглубокой выемкой. Эти и другие признаки позволяют считать череп Табун I наиболее неандерталоидным среди всех антропологических находок на горе Кармель. С неандертальцами ассоциируются и другие фрагментарные антропологические материалы из пещеры Табун.
В пещере Амуд обнаружены останки нескольких особей, среди которых выделяется скелет молодого мужчины Амуд I, захороненного по обряду. Сравнить другие находки из этой пещеры по морфологическим признакам невозможно ввиду их фрагментарности.
Амуд I описывался многими антропологами. Они выделяли как плезиоморфные, так и апоморфные признаки, сравнивая таксономический статус этой особи и других находок из Африки и Европы. У Амуд I ростом ок. 180 см был грацильный скелет, объем головного мозга составлял 1 740–1 800 см3. По описательным характеристикам его надорбитная область обладает неандерталоидными чертами (приспущенная область глабеллы и практическое отсутствие в зоне офриона надорбитального желобка) [Васильев, 2006, с. 150–151]. По ряду метрических параметров Амуд I обнаруживает сходство с находками Шани-дар I, Схул IV, Араго XXI, Табун I. У Амуд I имеется скуловая вырезка, не характерная для неандертальцев, а также отсутствует вздутие в области основания лобного отростка верхней челюсти. По метрическим параметрам и индексам зигомаксиллярной области находка близка к Оберкассель 1, Сунгирь 1, Фиш Хук и Схул V. По тригонометрии лицевого скелета она имеет сходство с Схул V, Флорисбад, Сунгирь 1, Гибралтар 1. Нижняя челюсть по ряду параметров са-пиентна (даже намечается подбородочный выступ). С.В. Васильев отмечает еще ряд других признаков, которые сближают Амуд I как с неандертальцами, так и с сапиенсами. По шкале Г. Бройера эта находка мо- жет занять место среди «поздних архаичных сапиен-сов» [Bräuer, 1984].
С учетом описаний Амуд I, которые приводятся другими антропологами, можно сделать вывод о том, что в его краниуме и посткраниальном скелете сочетаются особенности, присущие классическим западноевропейским неандертальцам, а также ранним людям современного анатомического вида Африки, Израиля и Восточной Европы. Такую мозаичность невозможно объяснить гибридизацией или метисацией. С нашей точки зрения, это отражение эволюционных процессов, обусловленных адаптацией и дивергенцией одного полиморфного вида ( H. heidelbergensis ) в Африке и Европе.
Особь Амуд I была найдена в верхней части стратиграфической последовательности, которая относится к 70–53 тыс. л.н. [The Amud Man…, 1970]. Вероятный ее возраст – немногим более 50 тыс. лет.
Наиболее острую дискуссию среди ученых вызывает особь Кебара 2. Останки принадлежали взрослому человеку 25–35 лет, который был захоронен в неглубокой яме на спине, со сложенными на груди руками. Череп отсутствовал, но найдены нижняя челюсть и хорошо сохранившийся посткраниальный скелет. Это был высокий для неандертальцев мужчина (более 170 см), с более массивным скелетом, чем у Амуд I. У особи Кебара 2 сохранилась подъязычная кость, не отличающаяся от таковой современного человека, что предполагает способность индивидуума говорить. Подбородочный выступ находился в зачаточном состоянии. Большая часть посткраниального скелета имела современное строение. Возраст Ке-бара 2 ок. 60 тыс. лет.
В пещере Шанидар были найдены пять черепов вместе с фрагментами посткраниального скелета различной степени сохранности. Наиболее хорошо сохранившийся череп Шанидар I, как и другие скелетные остатки в Шанидаре, имеет много морфологических признаков неандерталоидного типа. Индивидуумы из Шанидара занимают, с нашей точки зрения, промежуточное положение между палестинскими и западно-европейскими неандертальцами.
В пещере Дедерьех найдены останки 15 особей, некоторые находились в интрузивных слоях. Два скелета из погр. 1 и 2 представляют детей ок. 2 лет. Помимо них, более половины останков также принадлежали детям юного возраста [Akazawa et al., 1999]. В детских погребениях 1 и 2 наиболее хорошо сохранились скелеты: они демонстрируют сочетание неандертальских и сапиентных признаков, а также некоторые различия между собой. У Дедерьех 2 в отличие от Дедерьех 1 в строении черепа и зубной системы более выражены особенности, характерные для западноевропейских неандертальцев, полностью отсутствует подбородочный выступ. В зубной системе Дедерьех 1
обнаружены лопатообразность и бугорок Карабелли. Дедерьех 1 по сравнению с Дедерьех 2 имеет более грацильное строение посткраниального скелета. Останки из Шанидар и Дедерьех, как и из пещер на территории Израиля, характеризуются сочетанием неандертальских и сапиентных признаков.
На основе краткого обзора антропологического материала Леванта, относящегося к среднему и первой половине верхнего плейстоцена, можно сделать несколько выводов.
-
1. В настоящее время археологические данные не позволяют уверенно говорить о формировании в Леванте на основе H. heidelbergensis двух линий: людей современного анатомического вида и неандертальцев, но такой сценарий не исключен, если учитывать непрерывность развития ашельских и среднепалеолитических индустрий.
-
2. Останки гомининов возрастом 0,3–0,2 тыс. лет (Зуттиех, Кесем, Мислия) обнаруживают развитие апоморфных признаков сапиенса и сокращение пле-зиоморфных предковых.
-
3. На рубеже 130–120 тыс. л.н. в Леванте уже можно выделить сапиентную линию развития (Схул, Каф-зех) и неандертальскую (Табун, Амуд, Кебара); представители обоих направлений эволюции имеют ряд общих апоморфных признаков, которые отличают левантийских неандертальцев от западно-европейских.
-
4. В ашело-ябрудийской и среднепалеолитической индустриях Леванта на всем протяжении их развития не прослеживаются признаки миграций в регион популяции людей с другой индустрией из Африки или Европы. На территории Леванта проживали одновременно два таксона, представлявшие две линии эволюции и имевшие по основным технико-типологическим показателям близкую индустрию. Это, конечно, не исключало их кратковременных контактов с популяциями сопредельных территорий и генетического дрейфа между ними.
-
5. Люди современного вида, как и неандертальцы, сформировались на территории Леванта. Может быть, в этот процесс были включены и другие территории Ближнего Востока. Морфологически и в социально-культурном плане палестинские неандертальцы были более близки к людям современного анатоми-че ского вида Леванта, чем к западно-европейским неандертальцам. Об этом свидетельствуют не только каменная индустрия, но и захоронения с элементами обрядности, а также другие проявления социальных отношений (погребение однорукого человека в Ша-нидаре).
-
6. У популяций Леванта, представляющих две линии развития, прослеживается бóльшая мозаичность и вариабильность, чем у неандертальцев Европы.
Сложным является вопрос о судьбе людей современного анатомического вида и левантийских неандертальцев после 50 тыс. л.н. Можно согласиться с выводами Б. Аренсбурга и А. Бельфер-Коэна, сделанными на основе сравнения результатов анализа среднепалеолитических останков в Израиле: у «неандертальцев» отсутствовали специфические неандертальские черты, а у анатомически современных людей были неандертальские признаки. В группе ранних людей, как и в группе «неандертальцев», можно проследить широкий спектр морфологических вариантов. Материалы свидетельствуют о том, что «неандертальцы» и люди анатомически современного вида жили на одной территории и иногда в одних и тех же пещерах [Arensburg, Belfer-Cohen, 1998, p. 320]. Поэтому трудно согласиться с гипотезой о том, что люди современного анатомического вида встретили в Леванте свою смерть от неандертальцев или, наоборот, истребили неандертальцев [Shea, 2001, 2007, 2008; и др.].
Антропологические останки людей современного антропологического типа относятся ориентировочно к периоду 130–75 тыс. л.н., а самые древние неандертальские материалы (Табун I, II и др.) – ко времени ок. 130 (125) тыс. л.н., т.е. в самом начале верхнего плейстоцена в Леванте проживали два близких таксона. Все исследователи отмечают высокую вариативность и большую мозаичность по многим морфологическим признакам, что подтверждает нашу гипотезу о возможности формирования в среднем плейстоцене на территории Леванта двух близких таксонов. Они проявляли сходство не только по антропологическим характеристикам, но и по технико-типологическим показателям каменного инвентаря, наличию погребального обряда.
На территории Леванта не найдено массовых о станков людей современного вида периода по сле 75 тыс. л.н., как и останков палестинских неандертальцев, относящихся ко времени существования Табун I, Кебары и Амуда. Но в регионе открыты палеолитические местонахождения, свидетельствующие о том, что более раннее автохтонное население не покидало его на протяжении всего верхнего плейстоцена и, судя по гомогенности индустрий среднего и позднего палеолита, на данную территорию не проникали мигранты из Африки и Европы. Нельзя утверждать, что в Леванте уже открыты и полностью исследованы все пещерные и открытого типа местонахождения. В будущем обязательно будут обнаружены новые антропологические материалы, которые позволят заполнить информационный пробел. С нашей точки зрения, верхнепалеолитический технокомплекс на территории Леванта формировался преимущественно на основе автохтонной индустрии, возможно, с участием людей современного анатомического вида – создателей позднего варианта нубийского технико-типологического комплекса [Деревянко, 2011].
Надежду на новые антропологические открытия дает обнаружение частично сохранившегося черепа в пещере Манот, которая исследовалась в 2010–2014 гг. [Hershkovitz, 2015]. В позднем среднепалеолитическом горизонте пещеры удалось найти череп человека современного анатомического вида, датированный 54,7 ± 5,5 тыс. л.н. И. Хершковиц с соавторами, учитывая морфологические различия между данной находкой и большинством останков из пещер Схул и Кафзех, считают, что обитатель пещеры Манот вряд ли мог быть прямым потомком последних. Вместе с тем ученые отмечают большое разнообразие внутри- и межгрупповых вариаций в этих популяциях, что делает все выводы, основанные на морфологических признаках, условными. Хронологические различия между находками из пещер Схул, Кафзех и Манот, на которые ссылаются исследователи, также условны, поскольку в дальнейшем могут быть найдены и другие останки потомков обитателей пещеры Схул, живших на территории Леванта после 75 тыс. л.н. Предположение исследователей о приходе в Левант из Африки популяции типа Манот I не находит подтверждения в археологических материалах. В Леванте не фиксируется появление какой-то новой африканской индустрии в интервале 70–50 тыс. л.н.
Антропологическая находка из пещеры Манот, возможно, является результатом дальнейшего процесса гибридизации, когда на территорию Леванта из Аравии пришли люди современного вида – создатели позднего варианта нубийского леваллуазско-го комплекса. Чтобы проверить это предположение, необходимо провести секвенирование ДНК останков ранних людей современного вида, палестинских неандертальцев, обитателей пещеры Манот и верхнепалеолитического человека из Кзар-Акил.
Заключение
-
1. В раннем среднем плейстоцене ок. 800 тыс. л.н. на территории Африки сформировался новый вид Homo heidelbergensis/rhodesiensis. H. rhodesiensis остался на этом континенте и явился основой для формирования 200–150 тыс. л.н. раннего человека современного анатомического вида.
-
2. Первая волна мигрировавших из Африки H. hei-delbergensis достигла Леванта ок. 800 тыс. л.н. На этой территории в ходе гибридизации пришлых популяций с автохтонным населением произошла аккультурация, свидетельством которой являются материалы местонахождения Гешер Бенот Яаков.
-
3. Вторая волна мигрировавших H. heidelber-gensis с ашельской индустрией достигла Европы ок. 600 тыс. л.н., и на основе этого вида там сформировался западно-европейский неандерталец.
-
4. У H. heidelbergensis из местонахождения Сима де лос Уэсос были выявлены гены мкДНК денисовцев и ядерной ДНК неандертальцев. Генофонд денисов-цев содержал также гены, восходящие к неизвестному гоминину, отделившемуся от общего генетического ствола ок. 1 млн л.н. [Prüfer et al., 2014]. Они были переданы денисовцу через H. heidelbergensis. Последний получил эти гены, когда мигрировал из Африки в Левант при гибридизации с автохтонным населением на этой территории ок. 800 тыс. л.н.
-
5. На протяжении всего среднего плейстоцена в Леванте на основе метисного таксона ( H. heidel-bergensis + автохтонные популяции) происходило формирование двух эволюционных линий: раннего человека современного анатомического вида и палестинских неандертальцев, обладающих большой мозаичностью в морфологии и многими общими признаками в краниальном и посткраниальном скелете. Около 300 тыс. л.н. часть популяций Леванта мигрировала на восток Азии. Около 280 тыс. л.н. эта волна мигрантов достигла Алтая, о чем свидетельствуют находки из самого нижнего культуросодержащего слоя 22 Денисовой пещеры [Деревянко и др., 2003]. На основании секвенирования ДНК из антропологических материалов, обнаруженных в слоях 22, 12 и 11 Денисовой пещеры была экстрагирована ДНК, по результатам секвенирования которой выделен новый таксон человека современного анатомического вида – денисовец, проживавший на Алтае в среднем и верхнем плейстоцене. Миграционная волна из Леванта достигла не только Алтая, но и части районов Восточной и Юго-Восточной Азии. В результате генного дрейфа между мигрантами и эректоидным коренным населением этих территорий в генофонд их потомков попал небольшой процент генов денисовцев и неандертальцев.
-
6. В Леванте в среднем палеолите развивалась индустрия, отличающаяся по многим показателям от африканской и европейской. Она принадлежала людям современного анатомического вида и палестинским неандертальцам, культуры которых невозможно четко разграничить по технико-типологическим показателям.
-
7. В среднем и верхнем плейстоцене в Леванте не произошло формирование нового вида Homo . Эволюция раннего человека современного анатомического вида и палестинского неандертальца от H. hei-delbergensis не была связана с видообразованием. Мы согласны с Г. Бройером: в среднем плейстоцене в Африке и Евразии имел место один процесс видообразования ( H. heidelbergensis ) [Bräuer, 2008, 2010; и др.], а не с Г.Ф. Райтмайером, выделившим в среднем и верхнем плейстоцене две эволюционные линии H. heidelbergensis и H. sapiens [Rightmire, 2001, 2009]. С нашей точки зрения, формирование H. sa-
piens , точнее его подвидов, произошло в результате дивергенции, генного дрейфа, адаптации к экологии места расселения в четырех крупных регионах – Африке ( H. sapiens africanensis ), Европе ( H. sapiens nean-derthalensis ), Северной и Центральной Азии ( H. sapiens altaiensis ), а также в Восточной и Юго-Восточной Азии ( H. sapiens orientalensis ) [Деревянко, 2011].
-
8. Человек современного вида, останки которого обнаружены в пещере Манот, сформировался в результате гибридизации автохтонного населения Леванта и популяции современных людей – создателей позднего варианта нубийского леваллуазского технико-типологического комплекса.
Мы понимаем, что предложенные гипотезы нуждаются в подтверждении новыми археологическими, антропологическими и генетическими исследованиями. Ответы на ряд поставленных вопросов может дать секвенирование ДНК антропологических находок из Зуттиех, Кесем, Табун, Схул, Амуд, Кебара, Манот и др. Статья, конечно, дискуссионная и, возможно, вызовет острую критику и неприятие, но это результат наших долгих размышлений над имеющимися материалами, не всегда полными, и они имеют право быть опубликованными.
Список литературы Средний палеолит Леванта
- Васильев С. В. Неандертальцы и неандерталоидность//Доисторический человек. Биологические и социальные аспекты. -М.: Оргсервис, 2006. -С. 121-170.
- Деревянко А.П. Переход от среднего к верхнему палеолиту на Алтае//Археология, этнография и антропология Евразии. -2001. -№ 3. -С. 70-103 (на рус. и англ. яз.).
- Деревянко А.П. Верхний палеолит в Африке и Евразии и формирование человека современного анатомического типа. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -559 с.
- Деревянко А.П. Пластинчатая и микропластинчатая индустрии в Северной, Восточной и Центральной Азии . Возникновение пластинчатой индустрии в Африке и распространение ее на Ближний Восток//Археология, этнография и антропология Евразии. -2015. -Т. 43, № 2. -С. 3-22 (на рус. и англ. яз.).
- Деревянко А.П. Пластинчатые индустрии Леванта в среднем плейстоцене//Археология, этнография и антропология Евразии. -2016а. -Т. 44, № 1. -С. 3-26 (на рус. и англ. яз.).