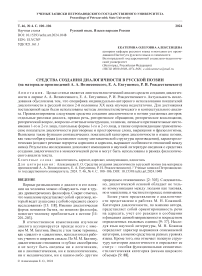Средства создания диалогичности в русской поэзии (на материале произведений А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского)
Автор: Алексенцева Е.О.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 4 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является лингвостилистический анализ средств создания диалогичности в лирике А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского. Актуальность исследования обусловлена тем, что специфика индивидуально-авторского использования показателей диалогичности в русской поэзии 2-й половины XX века изучена недостаточно. Для достижения поставленной цели были использованы методы лингвостилистического и контекстуального анализа. Проанализированы следующие средства создания диалогичности в поэзии указанных авторов: отдельные реплики диалога, прямая речь, риторическое обращение, риторическое восклицание, риторический вопрос, вопросно-ответные конструкции, эллипсис, личные и притяжательные местоимения 1-го и 2-го лица, глагольные формы 1-го и 2-го лица, а также сопровождающие грамматические показатели диалогичности разговорные и просторечные слова, выражения и фразеологизмы. Выявлены такие функции синтаксических показателей категории диалогичности в языке поэзии, как текстообразующая (составляют основу синтаксической структуры произведения), характерологическая (создают речевые портреты адресанта и адресата, выражают особенности отношений между ними). Результаты исследования дополняют имеющиеся в научной литературе сведения о средствах создания диалогичности в монологической речи и могут быть использованы в рамках филологического анализа текста.
Диалогичность, адресат, адресант, коммуникация, идиостиль
Короткий адрес: https://sciup.org/147243789
IDR: 147243789 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.104
Текст научной статьи Средства создания диалогичности в русской поэзии (на материале произведений А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского)
Первые размышления о диалоге и его влиянии на человека можно обнаружить еще в трудах древнегреческих философов. Сократ отмечал, что мышление представляет собой «разговор, который ведет душа сама с собой о предмете своего исследования» [13: 118]. Именно диалогическая форма познания бытия, по мнению философа, помогает человеку приблизиться к истине [14: 201–203].
В отечественном языкознании изучение диалога ассоциируется прежде всего с именем М. М. Бахтина. Вместе с тем такие термины, как «диалог» и «диалогизм», используются в работах ученого в широком смысле. По М. М. Бахтину, диалогические отношения «глубоко своеобразны и не могут быть сведены ни к логическим, ни к лингвистическим, ни к психологическим, ни к механическим, ни к каким-либо другим
природным отношениям» [2: 303]. Следовательно, диалогической основой обладает не только коммуникация между людьми как таковая, но и мышление, в частности процесс понимания.
Более узкое представление о диалогичности представлено в работах М. Н. Кожиной. Категория диалогичности, по мнению автора, представляет собой ориентированность речи на адресата, учет его реакции в сообщении и фиксация данной направленности посредством определенных языковых единиц [9: 37]. Исследуя язык научной литературы, М. Н. Кожина определяет характер выражения описываемой категории, а именно средства на разных уровнях языка. Кроме того, она отмечает полевую структуру категории диалогичности и определяет ее статус – «особая функциональная семантикостилистическая категория (весьма широкого объема)» [9: 88].
В современной лингвистической науке исследования диалога и диалогичности продолжаются, о чем свидетельствуют работы С. А. Чубай [18], [19], Т. В. Бердниковой1, Е. Н. Вотриной [6], С. Д. Зливко [8], Н. Э. Фотиной [17], Т. Н. Колокольцевой [10], [11], [12], О. А. Прохватиловой [16], Н. С. Болотновой [3], О. И. Просянниковой, К. В. Скорик, Ш. Ю. Кужугет [15], Е. Н. Басовской, Т. А. Воронцовой [1] и др.
Л. Р. Дускаева в структуре функционального семантико-стилистического поля диалогичности выделяет четыре микрополя: 1) адресации; 2) авторизации; 3) оппонента (третьих лиц); 4) оценки [7: 185]. По мнению ученого, именно указанные микрополя формируют описываемую категорию.
Н. С. Болотнова, вслед за В. В. Виноградовым, Т. Г. Винокур, М. Н. Кожиной, отмечает, что «глобальная категория диалогичности реализуется в категориях субъектности и адресованности, связанных с образами автора и адресата» [4: 237]. Для данного исследования важной представляется мысль о влиянии фактора адресата на автора: «Образ адресата присутствует в сознании автора на разных этапах порождения текста, определяя коммуникативную стратегию произведения и проецируя коммуникативный эффект» [4: 237].
***
Природа языка поэзии, безусловно, во многом монологична. Признание и исповедь поэта, его созерцание и размышления, обращение и призыв материализуются, как правило, именно в монологе. Вместе с тем любой лирический текст обладает скрытой (потенциальной) диалогичностью, поскольку представляет собой диалог с читателем.
Так, Р. И. Рождественский нередко использует реплики диалога в стихотворных произведениях. Среди 160 проанализированных стихотворений, вошедших в сборники 1962–1968 годов «Необитаемые острова», «Ровеснику», «На самом дальнем западе», «Сын Веры», 19 содержат от одной до девяти диалогических реплик2. Рассмотрим некоторые примеры.
Примечательно, что поэтические тексты, посвященные быстротечности времени (стихотворения «Часы» и «Ремонт часов»), начинаются именно с реплик диалога:
«- Идут часы...
- Подумаешь, - открытье!
Исправны, значит.
Приобрел - носи.
- Я не о том!
На улицу смотрите: по утренней земле идут часы!» (Рождественский: 82).
«Сколько времени?
- Не знаю.
Что с часами?
- Непонятно.
То спешат они, показывая скорость не свою.
То, споткнувшись, останавливаются.
Только обоняньем я примерно-приблизительное время узнаю.» (Рождественский: 226).
В первом примере ответная реплика создает образ собеседника лирического героя («- Подумаешь, - / открытие! / Исправны, значит. / Приобрел - /носи.»). Затем происходит определенная трансформация диалога, и лирический герой вступает в философскую беседу с часами недлинной жизни человека, на это указывает риторическое обращение3 во второй строфе произведения («Часы недлинной жизни человека, / увидите, - / я вас перехитрю!» ) (Рождественский: 82). Далее диалог с вымышленным собеседником также видоизменяется. Лирический герой оказывается на площади, и читатель становится свидетелем разговора с часовщиком. Здесь Р. И. Рождественский использует риторическое обращение, чтобы показать смену адресата («Гражданин часовщик, / почините мне время») (Рождественский: 226). Кроме того, в этих произведениях диалогичность реализуется благодаря глагольным словоформам 1-го (вбегу, закрою, отворю; не знаю, узнаю, подойду, выну ) и 2-го лица ( закроешься, не впустишь, испортишь, забудешь; почините, не бережете ) (Рождественский: 82–83, 226–227).
Отдельного внимания заслуживает стихотворение Р. И. Рождественского «Засуха». В данном примере представлены сразу девять реплик диалога. Вместе с тем следует признать поверхностный характер разговора. Один из участников пытается отвлечься от грустных мыслей о засухе и обращается с просьбой к собеседнику:
«- Развесели, хоть чем-нибудь развесели.» (Рождественский: 128).
К сожалению, адресат неправильно декодирует сообщение, поэтому беспрестанно говорит об отсутствии дождя, жаре и высохшей на палящем солнце земле:
« - Сумасшедшая жарынь!
Такой горячей, медленной речи кудлатые не помнят старики.
-
- Развесели!
Развесели хоть чем-нибудь!..
-
- Сухую землю
трактора скребут.
Так светит солнце, что в глазах темно.
Жестокое, свирепое, оно вбивает в пашню жестокие лучи…» (Рождественский: 129).
Средствами выражения категории диалогичности здесь становятся не только реплики диалога, но и глагольные формы 2-го лица ( развесели, смотри, придумай, молчи ), определенно-личные предложения побудительного характера, адресованные собеседнику ( «Придумай сказку с радостным концом! // Развесели!» ), риторическое обращение ( друг ), эллипсис ( «Да не о том ты! Вовсе не о том!» ) (Рождественский: 128–129). Кроме того, важно обратить внимание на тексто образующую функцию показателей диалогичности, которая достаточно ярко реализуется в данном примере (каждая строфа является репликой диалога). Указанные средства становятся важным элементом композиции стихотворения, глубоко проникая в структуру всего текста.
Среди произведений А. А. Вознесенского, написанных в 60-е годы XX века, можно найти только два («Оза» и «Диалог»), в которых автор использует реплики диалога4. Текст стихотворения «Диалог», практически целиком состоящий из реплик, представляет особый интерес для исследования, так как произведения с подобной синтаксической структурой являются редкостью для поэтического искусства (Вознесенский, Т. 1: 254–256). Название готовит читателя к тому, что он станет свидетелем разговора. С первых реплик становится ясно, что беседа будет отнюдь не бытовой:
«– Итак, в прошедшем поэт, в настоящем просящий суда, свидетель себя и мира в 60-е года?
– Да!
– Клянетесь ответствовать правду в ответ?
– Да» (Вознесенский, Т. 1: 254).
Несмотря на то что автор называет все происходящее исповедью ( «Обрыдла мне исповедь, Вы – сумасшедший, лжеидол, балда, паразит!» ), подобное речевое взаимодействие больше напоминает допрос: в первой реплике уточняется социальный статус лирического героя, затем практически каждый вопрос несет обвинительный характер (Вознесенский, Т. 1: 256). Ответы, в свою очередь, зачастую односложны ( да или нет ), хотя вопросы иногда требуют развернутого ответа:
« – Вы жизнь ей вручили. Где женщина та?
– Нет» (Вознесенский, Т. 1: 255).
Категория диалогичности в данном примере представлена:
-
1) на синтаксическом уровне через реплики диалога, вопросно-ответные конструкции и риторические восклицания
(«– Итак, продолжаете эксперимент? Айда! // Обрыдла мне исповедь, // Вы – сумасшедший, лжеидол, балда, паразит! // Идете витийствовать? зло пора -зить? иль простить? // Так в чем же есть истина? В “да” или в “нет”?»), обращения (мой отличник, глухарь стихотворный); следует обратить внимание на характерологическую функцию обращений, которые не только подчеркивают личностное отношение к адресату речи, но и транслируют дополнительные сведения об адресанте (Вознесенский, Т. 1: 254–256);
-
2) на морфологическом уровне через глагольные формы 2-го лица ( клянетесь, верите, поёшь, вернёшься, продолжаете ) и повторяющееся местоимение 2-го лица Вы (местоимение Вы и его формы ( вам, вас ) повторяются 14 раз на протяжении всего произведения) (Вознесенский, Т. 1: 254–256). Следует сказать, что грамматические показатели диалогичности поддерживаются на лексическом уровне за счет разговорной ( бред, белиберда, напяливший джинсы ) и просторечной лексики5 ( паразит, айда ) (Вознесенский, Т. 1: 254–256). Среди поэтических произведений А. А. Вознесенского, написанных позднее (70-е годы XX века), можно встретить стихотворения, которые также полностью состоят из реплик диалога, например «– А еще я скажу апропо…» (1975), «Гангстеры» (1976), «После последней войны» (1977) (Вознесенский, Т. 2: 47, 74–75, 149).
В нашей выборке из поэтических текстов Е. А. Евтушенко собственно реплицирование не обнаружено (напомним, что для анализа были взяты произведения, написанные в период 1960– 1969 годов). Для создания микрополей адресата и адресанта автор использует главным образом пространные фрагменты прямой речи. В этом смысле особый интерес представляет вторая часть стихотворения «Ритмы Рима»6. Две реплики прямой речи, принадлежащие простым уличным зевакам, в начале второй части стихотворения погружают читателей в ситуацию пожара:
«“Пожар!
Пожар!
Горит синьора Сильвия!”
“Да нет, дурак, квартира – не она!”» (Евтушенко, Т. 5: 173–174).
Далее мы становимся свидетелями диалога между синьорой Сильвией, хозяйкой квартиры, и ее мужем. Общение оказывается весьма эмоциональным. Женщина говорит, какие вещи необходимо спасать первыми. Трагичная ситуация становится в определенной мере комичной, потому что хозяйка в равной степени просит спасти белье носильное, дуршлаг, диван, крышку унитаза, вазу, семейный альбом, телевизор - вещи, не имеющие никакой нравственной ценности, однако забывает о святой Мадонне , которая заботится о несчастных в любой ситуации (Евтушенко, Т. 5: 173–174). В этом фрагменте категория диалогичности получает достаточно яркое воплощение на разных языковых уровнях:
-
1) на синтаксическом уровне - прямое цитирование, с помощью которого Е. А. Евтушенко воссоздает живое общение между людьми; кроме того, невозможно не заметить обилие риторических вопросов («Постой, / болван, / а где же наша ваза? / А где / альбом, / семейный наш альбом?» и др.) и восклицаний («В шкафу / пошарь - / там есть белье носильное, / и тот / дуршлаг - / скорее из окна! / Кидай / диван / и крышку унитаза! / ...А все - / горбом, / ну хоть о стенку лбом!» и др. ), эллипсис («В шкафу / пошарь - / там есть белье носильное, / и тот / дуршлаг - /скорее из окна! // ...А все - /горбом, / ну хоть о стенку лбом! // Веревку / на, / спускай-ка телевизор!» ), обращения (болван, жена), междометие ( ха! ) (Евтушенко, Т. 5: 173-174); вто -рая часть «Ритмов Рима» еще раз доказывает, что показатели диалогичности не только помогают автору создать бытовой диалог в письменной форме, но и выполняют характерологическую и текстообразующую функции, пронизывая на протяжении всего отрывка текстовую ткань стихотворения;
-
2) на морфологическом уровне автор использует преимущественно глагольные словоформы 2-го лица повелительного наклонения ( пошарь, кидай, постой, заткнись, спускай-ка, не плачь, очнись, смотри, отстань, не лезь ), что полностью соответствует речевой ситуации, в которой находятся герои (Евтушенко, Т. 5: 173–174); грамматические показатели поддерживаются на лексическом уровне за счет разговорной лексики ( пошарь, отстань, не лезь ) (Евтушенко, Т. 5: 173–174).
Очевидно, что все названные примеры создают речевые портреты участников происходящего, иными словами, лексические средства выражения категории диалогичности здесь выполняют еще и важную характерологическую функцию.
В стихотворении А. А. Вознесенского «Нас много. Нас может быть четверо…» ведущим средством выражения категории диалогичности является риторическое обращение (Вознесенский, Т. 1: 209–210). Это произведение адресовано Белле Ахмадулиной, находящейся за рулем автомобиля, в котором едут лирический герой и еще несколько пассажиров («Нас много. Нас может быть четверо. / Несемся в машине как черти. / Оранжеволоса шоферша. / И куртка по локоть - для форса» ) (Вознесенский, Т. 1: 209). Необычные, довольно личные обращения ( Белка, Белочка, божественный кореш, лихач катастрофный ), выбранные А. А. Вознесенским, говорят о характере отношений между поэтами. Такая адресация выполняет не только номинативную, но и характерологическую функцию. Интересное значение приобретает просторечное существительное кореш в контексте этого стихотворения. Традиционно данное слово используют для наименования старого друга, приятеля мужского пола. Риторическое обращение божественный кореш акцентирует внимание на особой форме дружбы. Позднее в своих мемуарах супруга А. А. Вознесенского Зоя Богуславская назовет эти отношения «дружеской влюбленностью, продолжавшейся до самых последних дней» [5: 96]. Важно отметить, что категория диалогичности в этом примере реализуется также благодаря лексическим единицам с разговорной и просторечной стилистической окраской ( несемся, шоферша, для форса, лихач, долдонят, кореш ), фразеологизму ( не собрать костей ), личным местоимениям 1-го и 2-го лица ( мы, ты ), притяжательным местоимениям 2-го лица ( твой, твоей ), глагольным формам 1-го и 2-го лица ( несемся, люблю, коришь, скажешь , не порть, исчезнем, выжали, мчимся ), прямому цитированию
(«Люблю, когда, выжав педаль, / хрустально, как тексты в хорале, / ты скажешь: “Какая печаль! / права у меня отобрали. /Понимаешь, пришили превышение скорости /в возбужденном состоянии. /А шла я вроде нормально.”»), восклицаниям
(«Какая печаль! //Жми, Белка, божественный кореш! //Да здравствует певчая скорость, /убийственнейшая из скоростей! //Мы мчимся - а ты божество!»), риторическому вопросу
(«Что нам впереди предначертано?» ) (Вознесенский, Т. 1: 209–210).
Р. И. Рождественский в стихотворении «Память» использует риторическое обращение (память) дважды: в начале и в конце произведения (Рождественский: 147–149). Погружаясь в череду воспоминаний, лирический герой знакомит читателей с яркими событиями юных лет. Риторическое обращение здесь не только является средством выражения категории диалогичности, но и участвует в создании кольцевой композиции стихотворения. Мощный диалогический посыл этого произведения также создают личные местоимения 1-го и 2-го лица (ты, мы), глагольные формы 2-го лица (разберись, споришь, не вспомнишь), риторического восклицания («Но потом / мы “исполнителей” /ловили!»), многочисленные умолчания («Разберись в воспоминаниях нечетких... //Мы для них сирень ломали вдохновенно^ // Но это были не романы, а так. / Новеллы.») (Рождественский: 147-149), которые в данном случае транслируют нежелание адресанта продолжать мысль.
Риторическое обращение становится важным средством создания диалогичности и в стихотворении Е. А. Евтушенко «Профессор, вы очень не нравитесь мне…», повторяясь на протяжении всего текста семь раз.
«Профессор, вы очень не нравитесь мне.
А я вот понравился вашей жене и вашему сыну -угрюмому парню, который пошел, очевидно, не в папу» (Евтушенко, Т. 4: 25).
Отсутствие имени и отчества в обращении к профессору позволяет создать обобщенный характер адресации.
Невозможно не заметить ярко выраженную характерологическую функцию адресации в этом примере: риторическое обращение, с одной стороны, безусловно, определяет личностные черты адресата, с другой стороны, участвует в создании речевого портрета адресанта, кроме того, сообщает читателю особенности отношений между коммуникантами. Следует также отметить такие средства создания диалогичности, как личные местоимения 1-го и 2-го лица (я, мы, вы), притяжательные местоимения 2-го лица (ваш, ваши, вашему, вашей), риторические восклица ния («Я / слишком румяных людей / не люблю! // Оставлю жену, / но имейте в виду - /я все-таки сына от вас уведу!») (Евтушенко, Т. 4: 25-27).
Интересными представляются произведения, в которых отсутствуют риторические обращения, однако микрополе адресата в них получает достаточно яркое воплощение. Так, например, в стихотворении Е. А. Евтушенко «Как ты женщинам врешь обаятельно!..» диалогичность реализуется главным образом благодаря личным и притяжательным местоимениям 2-го лица ( ты, твоих, твоего, твоем ). Важно, что личное местоимение ты повторяется в тексте 12 раз, транслируя мощный апеллятивный заряд. Обвинительный тон сообщения адресанта подчеркивается серией оценочных высказываний, адресованных персонажу, в начале произведения («Как ты женщинам врешь обаятельно! / Сколько в жестах твоих красоты! / Как внимательно и обнимательно, / как снимательно действуешь ты!» ) и риторическими вопросами в девятой строфе («Почему же порой запираешься, / в телефонную трубку грубя, / и по-новому жить собираешься? / Значит, мучает что-то тебя?» ) (Евтушенко, Т. 4: 27–28).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ лирических произведений А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского 60-х годов XX века показал, что диалогичность получает яркое воплощение как на морфологическом, так и на синтаксическом уровне языка. Средства создания изучаемой категории могут выполнять текстообразующую функцию, представляя собой важный компонент многослойной структуры всего произведения, и характерологическую функцию, определяя личностные черты адресата, участвуя в создании речевого портрета адресанта, а также транслируя особенности взаимоотношений между участниками коммуникации. Высокая частотность использования средств создания диалогичности в лирике А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского составляет характерную особенность идиостилей изучаемых авторов.
Список литературы Средства создания диалогичности в русской поэзии (на материале произведений А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского)
- Басовская Е. НВоронцова Т. А. Современный научно-популярный радиодискурс: принцип диалогичности // Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 4. С. 431-445. Б01: 10.21638^рЬи22.2022.409
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 423 с.
- Болотнова Н. С. Категория диалогичности медиатекста как отражение идиостиля автора // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2021. Т. 20, № 2. С. 16-25. Б01: 10.15688/^0^2.2021.2.2
- Болотнова Н . С. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М.: Флинта, 2012. 384 с.
- Вирабов И. Н. Андрей Вознесенский. М.: Молодая гвардия, 2015. 703 с.
- Вотрина Е. Н. К вопросу о средствах создания внешней диалогичности в научных текстах XX века // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2011. № 1 (13). С. 219-222.
- Дускаева Л. Р. Диалогичность как функциональная семантико-стилистическая категория // Очерки научного стиля русского литературного языка ХУШ-ХХ вв. Т. 2. Стилистика научного текста (общие параметры). Ч. 2. Категории научного текста: функционально-стилистический аспект. Пермь, 1998. С. 166-186.
- Зливко С. Д. К проблеме диалогичности научного текста // В мире научных открытий. 2014. № 1 (49). С. 85-89.
- Кожина М. Н. О диалогичности письменной научной речи. Пермь: ПГУ, 1986. 91 с.
- Колокольцева Т. Н. Диалогичность в жанрах интернет-коммуникации (чат, форум, блог) // Жанры речи. 2016. № 2. С. 96-104.
- Колокольцева Т. Н . Диалогичность в лирических произведениях: на материале поэзии А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы, Р. Рождественского // Русский язык в школе. 2017. № 11. С. 38-42.
- Колокольцева Т. Н. Текстообразующий потенциал диалогичности и фигур диалогизма в лирических произведениях А. А. Вознесенского и Р. И. Рождественского // Экология языка и коммуникативная практика. 2019. № 4 (1). С. 70-82.
- Платон. Теэтет / Пер. с греч. и примеч. В. Сережникова. М.; Л.: Соцэкгиз, 1936. 191 с.
- Платон. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2 / Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи; Примеч. А. Ф. Лосева и А. А. Тахо-Годи; Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1993. 528 с.
- Просянникова О. И., Скорик К. В., Кужугет Ш. Ю. Диалогичность обрядовой поэзии: средства реализации и функционирование в тувинских благопожеланиях и алгышах // Новые исследования Тувы. 2022. № 1. С. 69-89. Б01: 10.25178/пк.2022.1.5
- Прохватилова О. А. Внутренняя диалогичность современной медиаречи // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2020. Т. 19, № 2. С. 150-158. Б01: 10.15688/ .¡уоки2.2020.2.13
- Фотина Н. Э. Средства внешней диалогичности авторского повествования в ранней прозе А. П. Чехова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2014. № 5 (24). С. 71-78. Б01: 10.15688/^0^2.2014.5.9
- Чубай С. А. Диалогичность как сущностное свойство современной политической рекламы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2008. № 1 (7). С. 40-43.
- Чубай С. А. Чужая речь как средство диалогичности в современной политической рекламе // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2007. № 6. С. 165-167.