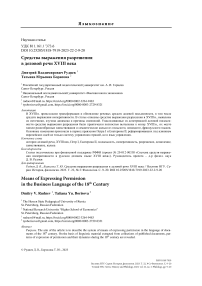Средства выражения разрешения в деловой речи XVIII века
Автор: Руднев Д.В., Борисова Т.Ю.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
В XVIII в. происходили трансформация и обновление речевых средств деловой письменности, в том числе средств выражения императивности. В статье описаны средства выражения разрешения в XVIII в., выявлены их источники, изучена динамика и причины изменений. Унаследованные из допетровской деловой письменности средства выражения разрешения были практически полностью вытеснены к концу XVIII в., их место заняли разнообразные заимствования и семантические кальки из польского, немецкого, французского языков. Основные изменения произошли в период правления Петра I и Екатерины II, реформировавших под влиянием европейских идей не только систему управления страной, но и язык управления.
История деловой речи, xviii век, петр i, екатерина ii, модальность, императивность, разрешение, дозволение, заимствование, калька
Короткий адрес: https://sciup.org/147240203
IDR: 147240203 | УДК: 811.161.1’373.6 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-2-9-20
Текст научной статьи Средства выражения разрешения в деловой речи XVIII века
Деловой речи присуща «стилевая окраска долженствования… в силу необходимости реализовывать основные регулировочные функции права» [Дускаева, Протопопова, 2016, с. 274]. Императивность (долженствующе-предписывающая окраска) деловых текстов не однородна, ее формируют три основных пласта лексики – с семантикой обязывания, разрешения и запрета, соответствующих трем способам правового регулирования, традиционно выделяемым юристами, – положительному обязыванию (предписанию), дозволению и запрету. Их соотношение между собой обычно обозначают следующим образом: «обязательно то, от чего не разрешено воздерживаться; обязательно всё, что запрещено не делать; разрешено то, от выполнения чего не обязательно воздерживаться; разрешено всё, что не запрещено; запрещено то, от чего обязательно воздерживаться; запрещено всё, что не является разрешенным» [Ивин, Никифоров, 1997, с. 81].
Под дозволением понимается «способ правового регулирования, заключающийся в предоставлении субъекту в очерченных законом рамках свободы выбора варианта поведения... <…> Будучи правовым явлением, оно имманентно включает в себя элемент императивности, т. е. уже содержит в себе некоторые ограничения. Дозволение очерчивает рамки свободы, внутри которых субъект волен поступать по своему разумению при условии, что он не посягает на свободу иных субъектов» [Игнатенкова, 2006, с. 9]. В современной юриспруденции активно изучается использование дозволения в разных отраслях права, однако вопросы языкового оформления дозволения юристами обычно не рассматриваются (см., однако, работу [Эйсман, 1972]).
Вопросы языкового воплощения дозволения затрагиваются лингвистами, изучающими выражение модальности в деловых документах (например, [Орлова, 2014; Ширинкина, 2018]). Кроме того, ряд важных наблюдений содержится в работах, посвященных изучению высказываний со значением разрешения, а также лексике со значением разрешения [Бирюлин, 1989; Шмелева, 1990; Хоанг Ань, 1993; Изотов, 1998; Шатуновский, 2000; Апресян, 2003; Гаврилова, 2006].
История становления средств выражения разрешения в русском деловом языке еще ждет своего исследователя. В отличие от средств выражения обязывания и запрета, которые изу- чались, например, в работах [Соколова, 1952; Пичхадзе, 2010], они не становились темой специальных исследований. Предлагаемая статья в некоторой мере восполняет эту лакуну. Материалом для наблюдений послужили разнообразные документы XVIII в. (отчасти и предшествующего периода), извлеченные из опубликованных сборников документов.
Изложение материала разделено на три части: в первой части рассмотрены средства выражения разрешения, унаследованные из древнерусского и старорусского языка и их дальнейшая судьба, во второй и третьей частях – новации эпохи правления Петра I и Екатерины II.
1. Средства выражения разрешения в допетровской деловой речи
Разрешение, в отличие от запрета и обязывания, долгое время не имело устойчивых способов выражения в русском деловом языке и в целом выражалось в документах редко, чаще всего при помощи слова воля , используемого в качестве главного члена номинативного предложения:
…аже ли [купец] пропиеться или пробиеться, а в безумьи чюжь товаръ испортить, то како любо темъ, чии то товаръ, ждуть ли ему, а своя имъ воля , продадять ли, а своя имъ воля (Русская правда);
Ибо бъ потому жъ имъ [послам] ходити воля , куды кому надобе, чтобъ хрестьянству на обе стороны просторъ былъ (Швед. д., 53. 1557 г.) (СРЯ XI–XVII, вып. 3, с. 19).
Этот способ выражения разрешения был утрачен к XVIII в.
В допетровский период слово воля для выражения разрешения использовалось также в составе устойчивых конструкций дать волю , дать на волю :
…и чтобъ Государь его пожаловалъ, велѣлъ ему дати волю . И на той Филиповой сказкѣ помѣта думного діака Григорья Львова, написано: 153 года Ноября въ 7 день указалъ Государь дати ему волю (1644– 1645 гг.) (АИ, т. 3, с. 497);
…а похотятъ [торговые люди] тѣ товары послѣ ярмонки сложить у города Архангелского въ анбары, и похотятъ тѣми товары торговать у города послѣ ярмонки и корабелного отъ города походу, и то дать имъ на волю … (1679 г.) (АИ, т. 5, с. 69).
Употребление конструкций дать волю и – чаще – дать на волю продолжается на протяжении первой половины XVIII в.:
Всякую дворовую городьбу делать забором, и решедкою, и тыном, кроме колья и плетней, кто как хочет, в том дать на волю , а за Земляным городом дать во всякой городьбе волю , хотя кольем и плетнем (1728 г.) (Указы Екатерины I и Петра II, 1743, с. 344).
С начала XVIII в. эти конструкции стали употребляться и в пассивной форме воля дается , на волю дается . Не исключено влияние на их распространение иноязычных моделей типа frei gelassen sein . Например:
А о протчих товарах [кроме помянутых], также и о легкой юфти, которая за море не идет, дается на волю , кто куды похочет, туды повезет (1714 г.) (Указы Петра I, 1777, с. 14);
Ежели кто сам пожелает с деревень рекрут поставить в Санкт-Петербурге, и в том дается воля … (1741 г.) (ПСЗРИ, т. 11, с. 511).
Кроме того, отмечается употребление конструкции оставляться на волю :
…а достальные товары, опричь юфти ж, оставляется на волю , кому куда к российским портам способно, туда и отпускать, и о том во губернии указы посланы (1716 г.) (Указы Петра I, 1777, с. 66).
Употребление конструкции дается (вар. отдается ) на волю изредка отмечается на протяжении всего XVIII в. и сохраняется в XIX в.:
При приеме мастера в управу отдается на волю ремесленным, имеет ли тот мастер внести и сколько денег в ремесленную казну… (1785 г.) (ПСЗРИ, т. 22, с. 375);
Ежели должникова имущества будет недостаточно для удовлетворения требований по хозяйственному инвентарию, то помещику дается на волю 1 требовать удовлетворения от конкурса (1816 г.) (ПСЗРИ, т. 33, с. 833).
В петровское время также отмечено употребление слова воля в составе оборота да будет в воле , который вскоре после смерти Петра I уходит из употребления:
…а ныне [родители] похотят по сему указу переделить, и то да будет в их воле (1714 г.) (Указы Пет ра I, 1777, с. 10).
Еще один способ выражения разрешения, унаследованный документами XVIII в. от предшествующей эпохи, – использование предикативного наречия вольно . Такой способ выражения разрешения встречается с конца XIV в., однако широкое употребление предикатива вольно начинается со второй половины XVI в., возможно, под влиянием польского языка:
…a волно ей [царице Александре] та своя вотчина, какъ по еѣ душу Богъ пошлетъ, отдати въ монастырь, по своей душѣ, въ которой она похочетъ (1587 г.) (АИ, т. 1, с. 414);
…и имъ тое рыбу и рыбные запасы продавать волно же… (1653 г.) (АИ, т. 4, с. 183).
С конца XVI в. наряду с предикативом вольно начинает употребляться приставочный дериват повольно в том же значении разрешения:
…и опасная грамота къ тому часовнику съ нимъ послана, что пріѣхать ему и назадъ отъѣхать со всѣми животы поволно безо всякого задержанья (1600 г.) (АИ, т. 2, с. 33).
Предикативные наречия вольно и повольно продолжали ограниченно использоваться в документах первой трети XVIII в.:
Ежели кадет поидет в службу воинскую и получит себе службою денги, на которые себе захочет купить деревни, дворы, или лавки, то ему вольно купить, однако ж по седьми лет службы его (1714 г.) (Указы Петра I, 1777, с. 11);
Третие, на оное пороховое дело селитру, серу и прочие материалы покупать им, пороховым уговорщикам, самим повольно , где они приищут… (1725 г.) (Указы Екатерины I и Петра II, 1743, с. 130).
С петровского времени в деловом языке распространяется краткое прилагательное волен для выражения разрешения. Его использование в значении ‘обладающий властью, правом поступать по собственной воле’ известно уже в древнерусском языке – в начале в сочетании с предложно-падежной формой существительного «в + Пр. п.», позже также с инфинитивом:
…а вы вольни в князѣхъ (Новг. I лет., 197);
А волна ана ту свою вотчину продать и по души дать (Арх. Стр. I, 177. 1524 г.) (СРЯ XI–XVII, вып. 3, с. 17).
В петровское время употребление краткого прилагательного волен значительно расширяется:
Ежели которая девица возраста своего по осмнатцати летех у брата своего жить не похочет, то оная, взяв долю имения своего, отойти от него вольна при свидетелех же (1714 г.) (Указы Петра I, 1777, с. 7);
…однако ж кто похочет таких векселей у себя дале не держать, тот волен их изодрать или почернить, чтоб никакого впред соблазна к подлогам не было (1729 г.) (Указы Екатерины I и Петра II, 1743, с. 465).
Краткое прилагательное волен продолжало употребляться в деловых текстах на протяжении всего XVIII в., хотя этот способ выражения разрешения не относился к числу частотных:
…и конкурс волен оное [имение банкрота] продать или на аренду отдать для получения доходов по своему благоизобретению… (1800 г.) (ПСЗРИ, т. 26, с. 452).
2. Обновление средств выражения разрешения в петровскую эпоху
С петровского времени в качестве средств выражения разрешения известны глаголы дозволить, позволить, допущать, возвратные глаголы позволяться, дозволяться, допущать- ся, краткие страдательные причастия дозволено, позволено, допущено. Глаголы дозволять (ся), позволять(ся), допущать(ся), вероятнее всего, являются полонизмами (dozwolic, pozwolic, dopuszczac).
Глаголы дозволять , позволять в качестве средств выражения разрешения использовались либо в качестве независимого или зависимого инфинитива, либо в составе формулы «его императорское величество (регламент и пр.) дозволяет / позволяет», либо в составе перформативного высказывания:
А после публикования сего указу у кого вышеписанные товары в привозе явятся, и оные им позволить назад отпускать в те ж места, откуда оные привезены будут сентября до 1 числа сего 1721 году (1721 г.) (Указы Петра I, 1777, с. 334);
И позволяет его царское величество коллегиям самим угодные способы о том... в доношение учинить (1720 г.) (ПСЗРИ, т. 6, с. 155).
Наблюдается отчетливая тенденция к употреблению этих глаголов в составе пассивных структур ( позволяться , дозволяться , дозволено , позволено ):
Того ради снизходя сему, позволяется делать на продажу позументы и ленты с золотом и серебром, только в Санктпетербурге, а нигде инде. (1718 г.) (Указы Петра I, 1777, с. 78);
..буде же о том судейском свойстве от истца или ответчика спору не будет, тогда дозволено оному судье то дело вершить по надлежащим указам без помешательства (1720 г.) (Указы Петра I, 1777, с. 213214).
Видимо, под влиянием моделей дать волю , дать на волю , дается воля , дается на волю , а также, возможно, под влиянием немецкой модели, о которой говорилось выше, в петровское время возникают модели с глагольно-именным предикатом дать позволение , дается позволение :
..а ежели кто пожелает и более часа по полудни для отправления быть, и оным дать позволение... (1725 г.) (Указы Екатерины I и Петра II, 1743, с. 131);
.и в таком случае дается тем сторожам позволение неявленные товары брать себе безденежно, то-чию объявлять и платить пошлину в таможне... (1729 г.) (Указы Екатерины I и Петра II, 1743, с. 444).
Наконец, разрешение могло выражаться при помощи сочетаний не запрещается , не запрещено :
А самому его императорскому величеству под лишением чина и имения и под жестоким наказанием бить челом и подавать челобитныя запрещено (1725 г.) (Указы Екатерины I и Петра II, 1743, с. 125);
...ежели впредь которые люди духовныя писать будут в домах своих, в том им не запрещается … (1726 г.) (Указы Екатерины I и Петра II, 1743, с. 207).
Этот способ выражения разрешения отсутствовал в допетровских документах, но с петровской эпохи закрепляется в русском деловом языке. Возможность такого выражения разрешения связана с «оппозицией смыслов ‘можно’ - ‘нельзя’ (= ‘не можно’), лежащей в основе противопоставления разрешений и запретов», однако сочетание не запрещать соответствует «не очень определенному разрешению» [Апресян, 2003, с. 930]. Стоит добавить, что такой способ выражения разрешения, вследствие своей апофатической формы, лишен энергичности побуждения других способов выражения разрешения и лишь извещает адресата об отсутствии санкций за возможное действие.
Глаголы дозволяться и позволяться использовались на протяжении всего XVIII в., а затем и в XIX в. Для первой половины XVIII в. характерно преобладание глагола позволяться , наоборот, глагол дозволяться встречается в документах петровского времени очень редко и исключительно в форме дозволено . Не исключено, что отсутствие возвратного глагола дозволяться было обусловлено тем, что в его семантике, по сравнению с глаголом позволять , в большей степени была актуализирована агентивная сема, указывавшая на волю монарха, предоставлявшего разрешение на совершение действия. Между тем возвратная форма способствует «утрате представления о субъекте действия» [Там же, с. 931].
В 1750-е гг. употребление глагола дозволяется заметно расширилось:
…да и по определению Правительствующаго Сената дозволено тем народам в их жилищах торговать безпошлинно… (1752 г.) (ПСЗРИ, т. 13, с. 689).
В екатерининскую эпоху глагол дозволяться доминирует в деловых текстах, вытесняя из употребления глагол позволяться :
…Буде обширность наместничества того требует, то дозволяется учредить в наместничестве более одного верьхняго суда (1775 г.) (ПСЗРИ, т. 20, с. 243);
Буде кто не доволен решением городоваго сиротскаго суда, тому дозволяется перенос из городоваго сиротскаго суда в губернский магистрат… (1775 г.) (ПСЗРИ, т. 20, с. 262).
Глагол позволяться редок в текстах 1760–1770-х гг., но в 1780-е гг. его употребление расширяется:
Но как жителям тех городов необходимо нужны будут товары, служащие к пище и одежде, то позволяется в них иностранные товары выгружать без платежа пошлин… (1776 г.) (ПСЗРИ, т. 20, с. 386).
К концу XVIII в. его употребление заметно активизируется:
За отпускаемые же из государства нашего товары позволяется брать пошлину всякими российскими ходячими деньгами или банковыми ассигнациями… (1796 г.) (ПСЗРИ, т. 23, с. 937).
В современном деловом языке одним из основных способов выражения разрешения является глагол мочь . В петровскую эпоху он с этой целью используется редко:
Кто же похощет другаго часть взять, оный без всякаго размышления от товарища своего может убит быть 2 (1716 г.) (ПСЗРИ, т. 5, с. 350–351).
Значение разрешения в глаголе мочь было нечетко отделено от значения внутренней возможности, ср.:
…а имянно: три дни идти, а четвертой иметь расттаг, или отдыхание, в которой день может каждой попорченой мундир починить, платье перемыть и обсушиться… (1719 г.) (Указы Петра I, 1777, с. 154).
По-видимому, этот способ разрешения не был типичен для допетровского делового языка. Так, употребление глагола мочь с разрешительной семантикой не фиксируется в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» (СРЯ XI–XVII, вып. 9, с. 282). Не исключено, что такое использование в XVIII в. стало результатом семантического калькирования нем. können , который может употребляться в значении ‘dürfen’ (‘быть вправе’).
Расширение употребления глагола мочь для выражения разрешения происходит в екатерининскую эпоху:
Всяк услужения или работы ищущий безопасно прийти может к маклеру ради записания своего имени и желания (1782 г.) (ПСЗРИ, т. 21, с. 477).
К концу века этот способ выражения разрешения является уже вполне сформированным:
B дождливую погоду часовые могут держать ружье от дождя, а караул может повесить ружья под навес или внесть в караульню (1796 г.) (ПСЗРИ, т. 24, с. 69).
3. Обогащение средств выражения разрешения в екатерининскую эпоху
В екатерининскую эпоху система средств выражения разрешения обогащается за счет европейских калек иметь право (нем. Recht haben ; фр. avoir le droit ), иметь власть (нем. Ge-walt / Macht haben ; фр. avoir le pouvoir ), властен (нем. berechtet , befugt , bevollmächtigt ; фр. autorisé ):
…Тогда земский исправник имеет право поступать, как о неисправных плательщиках в уставе казенной палаты написано (1775 г.) (ПСЗРИ, т. 20, с. 242);
…Дворянская опека власть имеет избирать опекунов к имению и к особе малолетняго… (1775 г.) (ПСЗРИ, т. 20, с. 247).
Оба способа выражения разрешения закрепляются в русском деловом языке XVIII– XIX вв. Особенно широко распространилось сочетание иметь право , причем слово право могло употребляться в составе других глагольно-именных оборотов – терять право , теряется право , дать право , дается право , предоставляется право , пресекается право , приобретать право и т. д. (частично, видимо, калькированных; ср.: donner / garder / obtenir / perdre / reserver etc. le droit , das Recht gewähren / behalten / verlieren ):
…и истец, и ответчик теряют право возобновлять впредь о том просьбу во всяком судебном месте… (1775 г.) (ПСЗРИ, т. 20, с. 279);
…городам именным указом мaия 3 дня 1783 года предоставлено право продажи вина в пользу городов… (1790 г.) (ПСЗРИ, т. 23, с. 123);
…таковому [болевшему] дается право , по получении выздоровления, просить о вступлении по-прежнему в службу, в которую, по разсмотрении представленных доказательств, и принимаемы быть могут (1794 г.) (ПСЗРИ, т. 23, с. 493).
В числе новых средств в документах екатерининского времени следует отметить модальный оператор властен :
Городничий властен подтвердить единожды о прилежнейшем смотрении каждому хозяину, чтоб крайняя везде осторожность наблюдаема была в домах от огня и пожара (1775 г.) (ПСЗРИ, т. 20, с. 259).
Вероятнее всего, властен – калька с нем. befugt , berechtiget и / или фр. autorisé (см. (Rodde, 1784, S. 76, 458; Родде, 1784, с. 21)). Модальный оператор властен с самого начала обладал торжественной окраской и не имел широкого распространения в деловых текстах. Он использовался до середины XIX в., а далее теряет продуктивность. В двуязычных документах XVIII–XIX вв. (например, в международных договорах) он соответствовал фр. être en droit , avoir le pouvoir , нем. befugt / ermächtigt sein , Recht haben .
Появление при Екатерине новых средств выражения разрешения следует рассматривать не только в контексте русских заимствований из европейского права, но и как развитие дозволения как способа правового регулирования.
При Екатерине II в целом увеличивается частотность употребления средств выражения разрешения в связи с усилением в европейском праве представления о дозволении как важном средстве, способном гармонизировать частные и публичные интересы, воспитать общество и его членов, заинтересовать и побудить членов общества занять активную позицию [Игнатенкова, 2006, с. 15–17].
Заключение
В течение XVIII в. в ходе масштабных государственных преобразований формируется современная система языковых средств выражения разрешения. Часть средств оказалась относительно недолговечной и довольно быстро ушла из употребления ( имеет власть , властен ). За пределами рассматриваемого периода, уже в первой трети XIX в., формируются модальные слова разрешается , вправе (последнее является французской калькой être en droit ) .
В петровское время происходит, с одной стороны, активизация средств выражения разрешения, унаследованных из предшествующей эпохи, – моделей на основе существительного воля и производных от него предикатива вольно и прилагательного волен . Наиболее долговечными из этих средств оказались те, которые использовались в двусоставном предложении в качестве вспомогательной части составного глагольного сказуемого ( дается воля , дается на волю , волен ). Те модели, которые оформляли разрешение в рамках односоставного предложения ( дать волю , вольно , повольно ), достаточно быстро уходят из употребления.
С другой стороны, в петровское время появляются три новые модели выражения разрешения – глаголы дозволяться, позволяться, сочетание не запрещаться. Первые два глагола являлись заимствованиями из польского языка. Их использование в XVIII в. имело продук- тивный характер, причем глаголы дозволяться и позволяться конкурировали на протяжении этого периода. С петровской эпохи начинается использование глагола мочь (возможно, семантической кальки können), однако его более или менее широкое употребление начинается во второй половине XVIII в.
Во второй половине XVIII в., во время царствования Екатерины II, наступает новый период обогащения средств выражения разрешения. В языке появляются европейские (вероятнее всего, немецкие) кальки типа иметь право , иметь власть , властен , из которых особенно продуктивным оказался оборот иметь право .
Пестрота и полиномия средств выражения разрешения в русском деловом языке XVIII в. была обусловлена разными обстоятельствами. Во-первых, язык не имел устойчивой системы средств выражения разрешения в документах в связи с редкостью выражения этого значения. Во-вторых, происходило серьезное воздействие иноязычных моделей выражения разрешения в языке XVIII в. – сначала польских, позже немецких, французских. Языковые модели, влиявшие на русский деловой язык, указывают на каналы поступления идей Просвещения, которые менялись при разных императорах. В-третьих, наконец, разные модели по-разному представляли идею разрешения: одни из них содержат указание на источник власти и исходящее от него дозволение (Х дозволяет / позволяет , к этой модели восходят пассивные по происхождению формы дозволяется / позволяется ), другие – на отсутствие запрета ( не запрещается ), третьи – на наличие у адресата волеизъявления полномочий для самостоятельного действия ( имеет право / власть , волен , властен , может ). С течением времени последняя модель становится основной, оттесняя две другие модели на периферию.
На протяжении XVIII в. шел процесс постепенного вытеснения в деловых текстах односоставных моделей предложения двусоставными, что отчасти было обусловлено влиянием иноязычных моделей, а отчасти – становлением нового представления о государстве как безличной машине. В двусоставных императивных предложениях позицию грамматического субъекта занимает адресат волеизъявления (Х может сделать = Y дает Х-у возможность / свободу / право / полномочия сделать), т. е. адресат императивного действия представлен как его источник, что хорошо соответствует модели государства-механизма, где человек представлен в качестве ее детали. Такая модель была главенствующей в представлении властных отношений в государствах просвещенного абсолютизма (см., например, [Stollberg-Rilinger, 1986]).
В XVIII в. выражение разрешения в документальных текстах представлено гораздо шире, чем в допетровскую эпоху. Во-первых, это связано с тем, что сфера документирования с Петра I становится гораздо шире. Во-вторых, появляется целый пласт документов (регламенты, уставы, инструкции и пр.), в которых приходилось указывать не только на обязанности, но и на права участников деловой коммуникации. В-третьих, с екатерининской эпохи ощущается отчетливое стремление властей расширить сферу применения диспозитивных способов правового регулирования, к числу которых относилось дозволение. Таким образом, участники «регулируемых государством» отношений в целом ряде случаев могли восприниматься как соучастники верховной власти в деле управления страной, несущие ответственность за принятые ими решения в рамках дозволенных полномочий.
Список литературы Средства выражения разрешения в деловой речи XVIII века
- Апресян Ю. Д. Словарная статья глагола разрешать // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. Ю. Д. Апресяна. М.: ЯСК, 2003. С. 930-935.
- Бирюлин Л. А. Разрешение в системе прескриптивных значений // Взаимосвязь лексики и грамматики: Сб. науч. тр. Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1989. С. 31-39.
- Гаврилова Е. А. Прототип как стимул воздействия на семантические типы речевого жанра «Разрешение» // Вестник Чуваш. ун-та. 2006. № 4. С 471-475.
- Дускаева Л. Р., Протопопова О. В. Официально-деловой стиль // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М. Н. Кожиной. 3-е изд., стереотип. М.: Флинта: Наука, 2016. С. 273-277.
- Ивин А. А., Никифоров А. Л. Словарь по логике. М.: ВЛАДОС, 1997. 384 с.
- Игнатенкова К. Е. Дозволение как способ правового регулирования: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. 26 с.
- Изотов А. И. Разрешение как побудительный речевой акт // Язык, сознание, коммуникация / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М.: Диалог-МГУ, 1998. С. 97-100.
- Орлова Н. В. Модальность и тональность современных документов с предписывающей функцией // Вестник Ом. ун-та. 2014. № 4. С. 188-193.
- Пичхадзе А. А. Средства выражения императивной и оптативной семантики в древнерусских и старорусских прескриптивных памятниках // Вопросы языкознания. 2010. № 5. С. 14-24.
- Соколова М. А. Выражение волеизъявления в русских бытовых и деловых памятниках XVI века // Учен. зап. ЛГУ. 1952. № 161. С. 52-79.
- Хоанг Ань. Высказывания со значением разрешения и запрещения в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1993. 22 с.
- Шатуновский И. Б. Речевые акты разрешения и запрещения в русском языке // Логический анализ языка: Языки этики. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 319-324.
- Ширинкина М. А. Регламентирующие документы исполнительной власти в аспекте тональности (сопоставительно с директивными) // Политическая лингвистика. 2018. № 1 (67). С. 120-130.
- Шмелева Е. А. Разрешение и запрещение как побудительные речевые акты // Функционально-типологические аспекты императива. Ч. 2. Семантика и прагматика повелительных предложений. М.; Л.: Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания, 1990. С. 66-71.
- Эйсман А. А. Вопросы структуры и языка уголовно-процессуального закона // Вопросы борьбы с преступностью. 1972. Вып. 15. С. 71-99.
- Stollberg-Rilinger B. Der Staat als Maschine. Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürsten-staats. Berlin, Duncker & Humblot, 1986, 308 S.