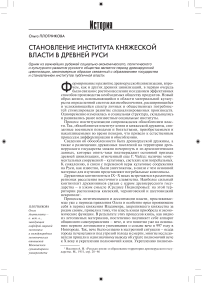Становление института княжеской власти в Древней Руси
Автор: Плотникова Ольга Анатольевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2008 года.
Бесплатный доступ
Одним из важнейших рубежей социально-экономического, политического и культурного развития русского общества является период древнерусской цивилизации, закономерным образом связанный с образованием государства и становлением институтов публичной власти.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164419
IDR: 170164419
Текст научной статьи Становление института княжеской власти в Древней Руси
становление института княжеской власти в дРевней Руси
Одним из важнейших рубежей социально-экономического, политического и культурного развития русского общества является период древнерусской цивилизации, закономерным образом связанный с образованием государства и становлением институтов публичной власти.
Ф ормирование и развитие древнерусской цивилизации, впрочем, как и других древних цивилизаций, в первую очередь было связано с ростом населения и созданием эффективных способов производства необходимых обществу продуктов. Новый образ жизни, основывающийся в области материальной культуры на определенной системе жизнеобеспечения, расширяющийся и усложняющийся спектр личных и общественных потребностей стимулировали развитие специализированных производств. Одновременно изменялась и социальная структура, складывались и развивались ранее неизвестные социальные институты.
Процесс институализации сопровождался обособлением власти. Так, обособляются институт князя и княжеской дружины, связанные военными походами и богатствами, приобретаемыми и накапливаемыми во время походов, что привело к естественным процессам дифференциации и обособлению.
Сведения об обособленности быта древнерусской дружины, а также о размещении дружинных поселений на территории древнерусского государства можно почерпнуть и из археологических данных, которые опять-таки подтверждают основной признак древней цивилизации, отмеченный еще Г. Ч-айлд: наличие монументальных сооружений – культовых, светских или погребальных. К сожалению, в связи с переменой веры культовые сооружения на Р-уси, как известно, были уничтожены, в связи с чем основной материал для изучения представляют погребальные комплексы.
Дружинные контингенты в IX–X веках встречаются в различных регионах расселения восточного славянства. Наиболее сильный контингент дружинников связан с ядром древнерусского государства – в узком смысле (Среднее Поднепровье): на этой территории расположены киевский, черниговский и шестовицкий некрополи1.
ПЛОТНИКОВА Ольга
Анатольевна – к. ист. н., заведующая кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Московского гуманитарного университета
Процессы легитимизации и дессигнации власти, прослеживаемые уже с периода правления Олега и особенно ярко проявившие себя в период княжения Владимира, закрепившего княжества за родом своим, привели к тому, что власть князя приобрела и экономические функции. В результате этих процессов князь, как видно из летописных материалов, постепенно подчиняет себе аппарат общинного самоуправления – вече, и это понятно уже на основании первого летописного упоминания о созыве вече в 997 году в Новгороде. Так, вече было созвано в экстренной ситуации – осада города печенегами и под угрозой голода и смерти, многие исследователи пришли к однозначному выводу об утрате полномочий вече к X веку и укреплении полномочий князя. Укреплению полномо- чий первоначально способствовали натуральные подношения, которые князь получал от племени, и часть судебных пошлин, что становилось определенным видом материального обеспечения в мирное время.
В праславянский период такой форме материального обеспечения соответствовало, вероятно, понятие «darb», которое продолжало древнейшую индоевропейскую традицию отношений, содержащихся в понятии дар – давать, брать. В позднем племенном обществе такой дар становился также формой признания рядовыми членами племени особого почетного положения князя1. В древнерусский период эти виды общественных отношений в виде добровольных внут-риплеменных натуральных подношений князю были продолжены и развиты в особых государственных податях. На последней стадии племенного строя добровольные натуральные подношения рядовых членов племени князю и его дружине становились началом постоянного внутриплеменного податного обложения для их содержания. Об этом свидетельствует также эволюция праславянского понятия «darb» от обозначения добровольного дара к названию государственной подати.
Внешний облик древнерусской цивилизации ярко характеризуется предметным миром культуры, изучаемым, особенно на формативной стадии, в значительной мере по материалам памятников древнерусской литературы и археологическим данным.
Древнерусская архитектура и письменность как составляющие цивилизации были сосредоточены в крупнейших древнерусских городах, о чем находим сведения в летописных материалах. Храмы и монастыри, вероятно, и представляли собой ядро древнерусской цивилизации как культурного комплекса. Немаловажное значение в развитии древнерусской цивилизации играли города как центры экономического развития и политической власти.
Исключительное значение имело появление на Р-уси письменности. Находящаяся в Повести временных лет статья о выборе веры Владимиром только подчеркивает значение письменности для древнерусского общества, в данном случае письменность являлась проводником Новой веры, что имело огромное культурное и политическое значение. Е-е создание отнюдь было не результатом отвлеченных умозрительных комбинаций, а насущной потребностью общества, вступающего в новую фазу своего развития. Христианизация уже сама по себе являлась результатом возросшего государственного самосознания господствующей верхушки, конфронтация же его с идеей империи становилась фактором, который стимулировал дальнейшую кристаллизацию представления о государственном суверенитете.
Появление письменности на Р-уси привело к возникновению новой профессии писцов, обучение которых в специальных школах давало также и зачатки положительных знаний. При этом необходимо учитывать, что писцы в первую очередь являлись служителями Церкви или, что характерно для Р-уси, монастырей. Монастыри в свою очередь подчинялись князьям и соответственно история, фиксируемая летописцами, во многом была подчинена ветхозаветной истории, византийской традиции, откуда и пришла письменность, и конечно, политической идеологеме правящего рода.
Р-ассматривая восприятие древнерусским обществом институтов власти, в первую очередь института княжеской власти, обратимся к доводам А-. П. Толочко. Так, исследователь весьма правомерно считал, что для представлений древнерусского общества с его мифологическим мышлением нехарактерно, а точнее, невозможно осознание княжеской власти как политического института, «не овеществленного» в обряде или культе отношения господства и подчинения, отношения между человеком и государством. Княжеская власть мыслилась как сакральное качество (но не общественное отношение) и при том не отдельного человека, а княжеского рода как единого целого2.
Можно согласиться с мнением историка и в том, что символика власти русских князей имеет иностранное происхожде ние. Напри мер, названия Золотых ворот,
Софийскогособора, Б-огоматерь–Оранта, мозаика с изображением которой украшает центральную апсиду Софийского собора в Киеве, северный придел того же собора, посвященный св. Георгию, который воспринимался в Византии как покровитель царей, позиционирование Владимира I как «нового Константина» и еще целый ряд важных символов заимствованы киевскими князьями из Византии1. А-. В. Назаренко предполагает, что Р-усь могла использовать византийские символы для конструирования собственных политических концепций, весьма далеких как от идеи вселенской супрематии византийского императора, так и от идеи империи вообще2.
После принятия христианства возвышению престижа князя немало способствовала православная проповедь «богоус-тановленности власти». В древнерусское летописание прочно вошли и часто цитировались слова Писания о божественном характере светской власти. Власть князя стала освященной Писанием. Идея концепции «власти от Б-ога», которая прослеживается в ПВЛ, также могла быть заимствована из византийской традиции. Так, под 1015 год, после рассказа об убийстве Б-ориса и Глеба читаем осуждение Святополка за «высокоумие», так как он «не ведый, яко богъ даетъ ему власть, ему же хощеть; поставляет бо цесаря и князя вышний, ему же хощеть, дасть. А-ще коя бо земля управится перед Б-огомъ, поставляет ей цесаря праведна, любяща суд и правду, и властеля устраяеть, и судью, правящего судъ. А-ще бо князи правьдиви бывают в земли, то многа отдаются согрешения земли, аще злы бывают и лукави, то болшее зло наводить Б-огъ на землю»3.
Заслуживает внимания позиция Л. С. Васильева, который считает, что княжеская власть в XI веке в родовом сознании не принадлежала конкретному носителю, а воспринималась в рамках целого рода. Клановый характер власти ранних вож-деств, отмечает исследователь, – явление универсальное. Как показывают срав- нительно-исторические исследования, в процессе институциализации сложных «чифдом», организованных на основе иерархии соподчинения входящих в него частей, власть концентрируется в руках наиболее знатного, влиятельного и удачливого общинного лидера, возвышающегося в верховного вождя.
Идеологический лейтмотив усматривает известный ученый В. Я. Петрухин в сказаниях о первых русских князьях, содержащихся в Повести временных лет. Так, считает историк, призвание варягов и Р-юрика было совершено «по ряду» (то есть на основании договора) со словена-ми, кривичами и мерей, и «установление» Олегом дани, которую те должны были платить варяжской дружине князя, также «по ряду». В этом случае основным лейтмотивом всей летописи является зависимость варягов от законной княжеской власти, без поддержки которой они не имеют права пребывать на славянских землях4.
Призвание варяжских князей в Новгород воспринимается как прецедент: право призванного княжеского рода на власть в других славянских городах, пусть и по договору–ряду с их жителями. Деяния первых русских князей Р-юрика, Олега, Игоря и Ольги вплоть до трех Ярославичей стали такими прецедентами для всего русского средневековья и в основе их сохранялось древнее предание. Мотив легитимности, по мнению В. Я. Петрухина, является основным для летописцев. Предание претворялось ими в историю, поэтому, собственно, исследование летописного понимания предания, «герменевтика» важнее, чем поиски внешних им аналогий (хотя пренебрегать ими нельзя). Это касается уже первых известий об Олеге – воеводе (НПЛ) или князе (ПВЛ)5.
Е-сли второе суждение Петрухина бесспорно, то с первым нельзя согласиться. Во-первых, в повести не идет речь о «ряде» – «земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет да поидите княжить и володети нами». Слово «наряд» здесь стоит рассматривать как порядок, к тому же употребление таких слов, как «княжить» и «володети», не оставляет сомне- ний, что речь вовсе не идет о каком-либо договоре, здесь – чудь, словене и кривичи явно выступают в роли просителей. Форма слова «избрашася» неясна и отсюда совершенно не вытекает, что князей избирали словяне, вероятно, что князья могли быть избраны для этой миссии самими варягами.
Во-вторых, летописец не преследует цель противопоставления «инородной» власти варяга Р-юрика власти местных племенных князей, он наоборот – всячески старается подчеркнуть единородность происхождения варяг Р-уси и словен, чуди, мери, призвавших их, от словен – семени Иафетова. В связи с чем отпадает необходимость в каком-либо договоре, так как само повествование в летописи о призвании именно варяг – не случайность, возможно, одной из задач летописца являлось создание картины воссоединения в глазах современников этих «некогда разбросанных по воле Б-ожией родственных племен».
В этом случае становится оправданным помещение в тексте летописи библейского сюжета о Вавилонском столпе, где говорится о размещении по земле семени Хама, Сима и Иафета и разделении языка, там же упоминается, что словене сели у озера Ильменя: «И про-зваша своимъ именамъ и сделаша градъ и нарекоша и Новгородъ… тако разидеся Словянскии языкъ темже и грамота про-звася Словеньская»1.
После смерти легендарных первых киевских князей – Кия, Щека и Хорива в Киеве закрепляется А-скольд и Дир, а затем Олег. Вслед за М. П. Погодиным и А-. Куником Х. Ловмянъский предположил, что А-скольд и Дир закрепились в Киеве благодаря договору со славянами и с киевским вечем и таким же образом, а не путем завоевания утверждается в Киеве и Олег2.
Надо отметить что принцип договорной теории, некогда предложенный Сергеевичем в отношении порядка наследования столов, очень прижился в отечественной историографии. Однако с этим предположением нельзя согласиться.
Исходя из того, что, как уже указывалось, вся история дохристианского пери- ода, изложенная в Повести временных лет, является легендой, служившей определенным, пока до конца неуясненным современными историками политическим задачам летописца, можно предположить, что вымышленные Кий, Щек и Хорив, возможно, ассоциируемые летописцем с библейскими Хамом, Симом и Иафетом (та же параллель возможна при рассмотрении легендарных Р-юрика, Синеуса и Трувора), нужны были летописцу только для того, чтобы еще раз подчеркнуть богоизбранное происхождение киевских полян от словян, произошедших в свою очередь от племени Иафетова. Б-огоизбранность полян и их города Киева подчеркивается летописцем еще и через предыдущий рассказ, в котором он вкладывает в уста А-ндрея, брата Петра, такие слова: «Видите ли горы сия яко на сихъ горах воссияеть благодать Б-ожья имать градъ великъ и церкви многи…»3
Как ясно из дальнейшего текста повести пророчество А-ндрея сбылось – Кий, Щек и Хорив возводят город на тех самых горах.
Интересно, что после небольшого рассуждения о том, кто же на самом деле был Кий – перевозчик или князь, и описания похода Кия на Царьград как бы в подтверждение обоснования княжеского титула Кия летописец без всякого пафоса, который встречаем позднее при аналогичных описаниях, сообщает о смерти Кия, Щека, Хорива и заодно и их сестры – Лыбеди (вообще не совсем ясен вымысел такого персонажа, как Лыбедь).
Складывается такое впечатление, что данные персонажи, зачем-то необходимые летописцу на начальном этапе повести, могли помешать развитию сюжетной линии в дальнейшем, в связи с чем одновременно были похоронены летописцем. Далее некоторые задачи летописца постепенно проясняются. Так, излагая легенду о «призвании варягов» Р-юрика, Синеуса и Трувора, летописец неоднократно подчеркивает, что варяги – суть Р-усь произошли от словян, то есть опять-таки проводится идея легитимизации рода: «Идаша за море к варягам к Р-уси …прозвася Р-усская земля Новгородци ти суть люди Новгородци от рода Варяжска преже бо беше Словении»1.
Таким образом, летописец, возведя киевских полян и варягов-Р-усь, приглашенных в Новгород, Б-елоозеро и Изборск от словян, приходит в своих рассуждениях к тому, что все они потомки Иафетого племени, расселившиеся по Б-ожиему умыслу. Тем самым мы получаем иносказательный ответ на один из вопросов, вынесенных летописцем в начало летописи: «Откуду есть пошла русская земля кто в Киеве нача перве княжи…»
Также вероятно и то, что летописец пытается предложить читателю летописи ассоциацию, при которой только князья рода Р-юриковичей являются истинными князьями всея Р-уси – «от тех варягъ прозвася русская земля». Призванные варяги-Р-усь в лице Р-юрика, Синеуса и Трувора суть словяне – потомки племени богоизбранного Иафета. Приглашенные чюдью, словенами, мерью и кривичами
Р-юрик, Синеус и Трувор пришли с родами своими и обосновались в Новгороде, Б-елоозере и Изборске, то есть в центрах территорий указанных племен. И от тех варяг прозвалась русская земля, а после смерти Синеуса и Трувора «приям власть Р-юрикъ и разда мужем своим грады… и теми всеми обладаше Р-юрикъ»2.
В соответствии с этой концепцией Р-юрик стал первым князем русской земли, объединившей в своем составе несколько племенных территорий с их центральными городами и в дальнейшем все потомки Р-юрика должны считаться великими князьями русскими, что подчеркивается летописцем уже в описании договоров, заключенных с греками Олегом и Игорем, где, как указано было выше, он называет этих князей так же, как и Р-юрика, великими князьями русскими.