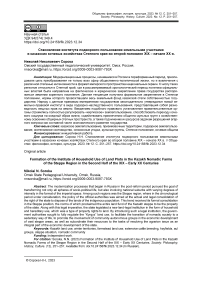Становление института подворного пользования земельными участками в казахских кочевых хозяйствах степного края во второй половине XIX - начале XX в
Автор: Сорока Н.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
Модернизационные процессы, начавшиеся в России в пореформенный период, преследовали цель преобразования не только всех сфер общественно-политической жизни, но и вовлечения с различной степенью интенсивности в формат имперского пространства национальных окраин. К числу таких регионов относился и Степной край, где в рассматриваемый хронологический период политика официальных властей была направлена на фактическое и юридическое закрепление права государства распоряжаться землями коренного населения. Данная тенденция получила формальное закрепление в Степном положении, нормы которого провозглашали весь земельный фонд казахской степи собственностью государства. Наряду с данным правовым императивом государством законодательно утверждался новый земельно-правовой институт в виде подворно-наследственного пользования, представлявший собой разновидность вещных прав на землю. Введением подобного правового установления правительственные органы стремились полностью регулировать «киргизское» землепользование, способствовать переходу кочевого социума на оседлый образ жизни, содействовать привлечению общинно-аульных групп к хозяйственному освоению обширных степных пространств, а также подчинению их ресурсов задачам разрешения агарного вопроса как составной части экономического развития государства.
Казахское землепользование, призимовочные территории, подворное землепользование, экстенсивное скотоводство, сенокосные угодья, аульные группы, степное положение, кочевая община
Короткий адрес: https://sciup.org/149144312
IDR: 149144312 | УДК: 94(574):349.4 | DOI: 10.24158/fik.2023.12.34
Текст научной статьи Становление института подворного пользования земельными участками в казахских кочевых хозяйствах степного края во второй половине XIX - начале XX в
Омский государственный педагогический университет, Омск, Россия, ,
,
Вхождение казахских жузов в состав Российского государства, упразднение традиционной системы правления, постепенное включение территории казахской (по тогдашней терминологии – киргизской) степи в общеимперское экономическое пространство, формирование новых органов управления способствовали и политико-территориальному обустройству региона, что отразилось в учреждении в 1882 г. Степного генерал-губернаторства (более распространенное наименование – Степной край). В новое военно-территориальное образование, включавшее к началу XX в. в состав Акмолинскую и Семипалатинскую области, вошла и обширная территория, занимаемая казахским населением.
Одновременно с административным строительством имперские власти приступили к разработке законодательной базы по упорядочению «киргизского» землепользования путем юридического закрепления права государства на земли коренного населения с последующим их переходом к оседлости и овладению земледельческим промыслом.
В соответствии со сложившимся в высших эшелонах власти мнением, культурно-историческая отсталость казахского общества, базирующаяся на кровнородственном начале, клановой организации, «особых условиях жизни», основой которых выступало экстенсивное скотоводство, связанное с длительными перекочевками (Головачев, 1902), может быть преодолена только путем ознакомления кочевника с совершенно новым для них видом хозяйствования – хлебопашеством. Новая агрокультура, как полагали официальные лица, позволит не только избежать массовых падежей скота – джутов, но и обеспечить его круглогодичное пропитание и тем самым само существование этносоциума в целом. Имперские власти подчеркивали, что только оседлые родовые сообщества могут быть наделены такими же правами и обязанностями, как и россияне, «сравняться с ними по сословиям, в которые они вступят», управляться «…на основании общих узаконений и учреждений»1 и полностью интегрироваться в общеимперское политико-правовое и социально-экономическое пространство.
Законотворческая деятельность правительственных органов по поземельному устройству «киргизского» населения, продолжавшаяся на протяжении всего XIX века, завершилась принятием в марте 1891 г. Положения об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областях (далее – Степное положение). В отличие от ранее принятых законодательных инициатив, направленных на урегулирование «киргизского» землепользования, – проекта Положения об управлении в казахских степях, разработанного особой комиссией, возглавляемой чиновником МВД Ф.К. Гирсом, Временного положении об управлении областями Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской 1868 г. – Степное положение содержало существенных новаций.
Во-первых, новый законодательный акт содержал правовой императив, в соответствии с которым на весь «киргизский» земельный фонд устанавливалось право государственной собственности. В качестве органа публичного управления, призванного распоряжаться землями коренного населения, выступало Министерство земледелия и государственных имуществ2. Практически это означало, что государство наделяло себя правомочием изымать «излишние» земельные участки из владения казахского населения с последующей их передачей под государственные надобности. К таковым относились создание переселенческого земельного фонда и разработка горнопромышленниками недр в целях извлечения полезных ископаемых. При этом законодатель особо подчеркивал, что недропользователь компенсировал казахам лишь стоимость сносимых у них строений, в то время как сам земельный участок передавался ему бесплатно. Кроме того, новые пользователи недр освобождались от уплаты земельной ренты.
В-вторых, разработчики данного правового акта учли и то обстоятельство, что в казахских аульно-общинных группах уже сложились формы землепользования всеми видами пастбищных угодий – весенними, летними, осенними. При этом особое значение для жизнедеятельности казаха-скотовода приобрели призимовочные территории – кстау, обладавшие для этого всеми необходимыми ресурсами: пространством, травостоем, наличием водных источников. Неслучайно, что именно данные угодья охранялись от занятия другими родами, перераспределялись внутри определенной родовой группы, передавались по наследству в виде индивидуальных участков отдельным хозяевам («подворно»), а все поземельные споры разрешались нормами обычного права.
В-третьих, официально провозглашалось, что казахи могут вступать в арендные отношения, сдавая свои призимовочные территории во владение и пользование иным лицам. В то же время декларированное правомочие носило крайне ограниченный характер, поскольку в каче- стве арендаторов могли выступать только лица русского происхождения, а арендованные земельные участки должны были использоваться для занятия земледелием либо под промышленные или иные нужды1.
Оценивая законодательное признание государством фактически сложившееся в казахских общинно-аульных группах наследственное пользование призимовочными территориями, юридически представлявшее собой разновидность института вещных прав на землю, чиновник краевой администрации Т. Кораблев отмечал, что для достижения основной цели – перехода кочевников к оседлости – необходимо принять ряд мер, которые окончательно урегулируют «киргизское» землепользование. В качестве таковых предлагалось установление «участкового землепользования» и обустройство кстау по образцу крестьянского двора. При этом, как подчеркивал чиновник, отводимые под занятие хлебопашеством земельные участки должны передаться в постоянное бессрочное пользование, их размер не должен превышать 50 дес. на каждую «киргизскую» семью из расчета в ней не менее трех душ мужского пола, порядок отвода – регулироваться правительственными циркулярами, а подворье – обладать водным источником. В случае отсутствия последнего рекомендовалось обустраивать колодцы или запруды за счет казны.
Немаловажную роль в оседании кочевого населения могла сыграть и правительственная помощь в виде льготного или бесплатного отпуска семян для посева и сельскохозяйственных орудий2.
Мнение краевой администрации относительно оседания «степных обитателей» посредством активного внедрения института подворного землепользования совпадала и с позицией мартовского совещания 1895 г. по вопросу исследования степных областей. В ходе обсуждения широкого круга проблем участники пришли к выводу, что отсталость «киргизского» кочевого хозяйства объясняется не столько состоянием культурного и нравственного развития номадного общества, сколько следствием естественно-исторических условий засушливой зоны казахской степи, из-за которых единственным способом жизнедеятельности казахского этноса было экстенсивное скотоводство. Поэтому участники совещания резюмировали, что кочевники являются полезным государству как с точки зрения традиционного хозяйствования, так и в качестве оседлого элемента, что позволит наряду с крестьянами-переселенцами рационально использовать обширные степные местности для занятия земледельческим промыслом. В противном случае данные территории могут навсегда остаться мертвыми пустынями3.
Закрепляя в Степном положении два правовых института – право государственной собственности на весь земельный фонд «киргизской» степи и ограниченное вещное право в виде наследственного (подворного) землепользования и аренды для казахского населения, имперские власти преследовали следующие цели.
Во-первых, разрешить аграрный кризис в европейской России посредством организации переселения без- и малоземельного сегмента в национальные окраины, в том числе в степные области, путем изъятия у кочевников части земель. При этом данная процедура предусматривала согласование непосредственного выдела земельных «излишков» для нужд переселенцев с казахской стороной, соблюдение ее жизненных земельных интересов и стремление к более рациональному поземельному устройству4.
Во-вторых, вовлечь кочевое население в земледельческий промысел в целях рационального использования степных территорий, создать благоприятные условия для формирования земельно-рыночных отношений путем трансформации патриархальной пастбищно-кочевой общины и приспособления ее к имперским модернизационным процессам.
Следует заметить, что недостаточно глубокий анализ содержания Степного положения, направленного в том числе на поземельное устройство казахского населения, упрощенное понимание правительственных аграрных мероприятий в «киргизской» степи, выборочность отдельных правовых инициатив и их описательность позволяют трактовать отдельным представителям казахстанского научно-исторического сообщества политику государства как грабительскую и колониальную, оказавшую негативное влияние на жизнедеятельность кочевого социума, способствующую его разрушению и торможению развития производительных сил5. В соответствии с данной парадигмой казахская степь рассматривается как объект исключительно земледельческой колонизации (История Казахстана…, 2000), а крестьянская колонизация территории Степного края служит инструментом проведения колониальной политики России в казахской степи1.
Реализация канонов Степного положения, совпавшая по времени с активизацией миграционного потока в степные области, отводом части казахских земельных угодий в переселенческий фонд, и сужение в связи с этим ареала кочевания способствовали переходу от общественного пользования земельными угодьями к подворному. Данное изменение было отмечено участниками экспедиции Ф.А. Щербины, обследовавшей в 1896–1903 гг. казахские хозяйства Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской областей в целях определения тех участков земель, которые могут быть пригодны для создания крестьянских поселений, а также земельного норматива для казахского населения, необходимого для удовлетворения его хозяйственных потребностей.
Кризис степного скотоводства, недостаток пастбищных угодий, вызванный формированием земельного фонда для переселенцев, вынуждали кочевников бережно относиться к тем территориям, которые оставались в их ведении. В первую очередь это относилось к тем равнинным местностям казахской степи, которые обладали умеренным климатом, достаточным количеством осадков и комфортной температурой для занятия земледелием и скотоводством. Именно в этих степных пространствах, богатых травостоем и поэтому наиболее пригодных для заготовки кормов, подворное землепользование получило широкое распространение. Изучая состояние казахского хозяйства Омского уезда Акмолинской области, статистики установили, что из 681 хозяйственного аула в 391 (57,5 %) из них сенокосные участки распределены подворно, в то время как в остальные осуществляют ежегодный передел покосов отдельными хозяйствами или скашивают их сообща с последующим распределением копен2.
О широком распространении подворного пользования сенокосными участками свидетельствуют данные и по другим районам «киргизской» степи. Так, например, в Кокчетавском уезде данная правовая форма активно применялась при использовании участков, расположенных вблизи зимовок, эксплуатация которых требовала наименьших затрат труда и времени. Вполне закономерно, что порядок использования этих угодий регламентировался весьма строго. Обследуя хозяйственный аул № 1 IV общества Кутуркульской волости, статистики обнаружили, что все сенокосы, расположенные на кстау, поделены между хозяевами подворно раз и навсегда. В Дже-ландинской волости наиболее ценные луговые сенокосы поделены между собственниками равными долями: «В хозяйственных аулах № 14 и 15 V общества Аиртавской волости покосы по хозяйствам разделены… а сын получает свою долю по выделу отца»3.
В Акмолинском уезде 54,5 % казахских хозяйств также перешли на подворное использование своих призимовочных территорий4. При этом определяющим фактором при выборе данной правовой формы выступали не столько поголовье скота отдельно взятого кибитковладельца и имущественная состоятельность отдельных представителей рода, сколько размер обеспечения хозяйством собственным сеном от собственных сенокосов. Как подчеркивали обследователи, именно значение сенокосов в жизнедеятельности казахского социума способствовало и усилению права личной собственности на земельный участок.
О строгом разграничении покосных участков между общинно-аульными группами свидетельствуют материалы экспедиционных обследований и по Семипалатинской области. Так, на момент исследования казахских хозяйств Павлодарского уезда в группах 1–8 и 21 IV старшинства Далбинской волости все сенокосные участки разделены не только между аулами, но и внутри них. При этом статистики подчеркивали, что доли отдельных хозяев индивидуализировались различными искусственными признаками, не только обозначавшими принадлежность их отдельным «киргизским» семьям, но и позволявшими тщательно оберегать наделы от потрав5. В Усть-Каменогорском уезде из 2 026 обследованных аулов подворное пользование сенокосами было выявлено в 1 555, или 82 % от общего их количества, с явно выраженной тенденцией к обособлению покосных угодий отдельными кибитковладельцами6.
Возрастание численности «киргизского» населения, увеличение поголовья скота, стеснение в пастбищах, сокращение ареала кочевания вследствие передачи части земель под переселенческие участки существенно повлияли на характер пользования сенокосными угодьями и у каркаралинских казахов, что выразилось в переходе от общего пользования покосами к подворно-индивидуальному. Обследуя Каркаралинский уезд, статистики установили, что в пяти западных волостях, наиболее богатых травостоем, две трети из всего числа аулов, или 66 %, используют покосы подворно, в то время как в восточных районах, не обладавших значительным травяным покровом, ситуация диаметрально противоположная: 31 % аулов используют сенокосы подворно, а 65 % – убирают сено сообща1. Распространение в уезде системы подворного пользования земельными участками способствовало и зарождению права личной собственности на отдельные их виды. По наблюдениям обследователей, в общинах № 209, 211 и 226 покос принадлежал только одному аксакалу, захватившему его на правах сильнейшего; в общинах № 214 и 237 сенокосные угодья принадлежали исключительно султану, поэтому остальные общинники вынуждены были арендовать покосы, отдавая за это до половины накошенного сена2.
Становление института подворного землепользования в разных районах Степного края носило неравномерный характер и имело ряд специфических особенностей. Обследуя Атбасарский, Петропавловский и Семипалатинский уезды, участники экспедиции Ф.А. Щербины установили, что в одних общинно-аульных группах размеры подворных участков имели четко фиксированный характер с определением границы каждого аула, в других – доли были определены, но их размеры не были постоянными, в третьих – выравнивание долей осуществлялось ежегодно перед уборкой сена.
Немаловажную роль в становлении данного правового института играли рельеф местности, возраст общинно-аульных групп, а также способы хозяйствования кочевого общества в степных областях. Так, по наблюдениям обследователей, в местностях с горным и холмистым рельефом в аульных группах, обеспеченных пастбищами с травостоем сверх нормы, подворно-наследственная форма получала более широкое распространение, чем в группах, не обладавших таким изобилием. При этом равнинный характер казахской степи с общинами, обладавшими значительными земельными просторами, наоборот, способствовал уменьшению доли общин с подворно-наследственными формами. Изъятием из данного правила выступали пойменные местности Акмолинского уезда, где подворная форма землепользования составляла практически 80 %3.
Характерной особенностью становления института подворного землепользования в «киргизской» степи являлось его доминирование в молодых хозяйствах – отау, т. е. выделившихся из отцовского надела подворий, где кибитковладелец в соответствии с канонами Степного положения наделялся правом пожизненного пользования своим участком, включая сенокосные угодья, с императивным запретом его продажи или завещания сторонним лицам. Аналогичные тенденции были отмечены статистиками в Петропавловском и Акмолинском уездах, где подворнонаследственная форма встречалась в 16 и 85 % отау соответственно4.
В то же время в ряде уездов подворная форма землепользования практически не сформировалась. Так, в частности, обследуя в 1900 г. казахские хозяйства Семипалатинского уезда, статистики констатировали крайнюю их бедность, при этом 90 % из них были отнесены к категории малоимущих5. Неслучайно основным средством существования семипалатинских казахов служили отхожие промыслы, а доля хозяйств, отпускающих своих общинников в найм, нередко достигала 4/5 от общего их количества6. Традиционную приверженность к кочевому образу жизни сохраняли лишь состоятельные хозяйства.
Подворное землепользование не получило широкого распространения и у казахов Атба-сарского уезда, жизнедеятельность которых по-прежнему основывалась на традиционной кочевой системе ведения скотоводства, чему во многом способствовали степные природно-географические условия: скудность травяного покрова, малое количество осадков, недостаточная плодородность земли. Неслучайно, что у атбасарских казахов отсутствовало закрепление за общинно-аульными группами зимовок, пользование всеми видами пастбищ носило свободный характер, а количество хозяйств, имевших посевы, и величина посева на каждое из них были весьма незначительны. Ввиду того что постоянные перекочевки не предполагали наличия стационарного жилья, заготовок запасов на зиму, включая сено, пользование сенокосными участками носило крайне разнообразный характер. По наблюдениям обследователей, в подавляющем большинстве общинно-аульных групп преобладала совместная уборка сена, раздел которого производился в зависимости от количества работников, выставленных либо аулом, либо общиной. В тех случаях, когда сенокосные угодья уже находились во владении отдельно взятого аула, осуществлялся их ежегодный передел между кочевыми единицами на равные участки; в случае неурожая сено скашивалось сообща с последующим разделом продукции в зависимости от количества лиц, участвовавших в работе. Лишь в ряде общин, перешедших к оседлости, покосы были поделены между отдельными хозяевами на подворные участки1.
Немаловажное влияние на становление подворно-наследственной формы оказывала казахская община. Констатируя данную особенность, исследователь степных областей земский статистик Л.К. Чермак, в частности, отмечал, что, несмотря на трансформацию поземельных отношений в «киргизском» землепользовании, явную тенденцию его обособления посредством создания отдельных хозяйств и закрепления за ними земельных участков в рамках права наследования, ведущая роль в регулировании земельных порядках неизменно оставалась за «обществом». Именно оно в отдельных случаях выступало инициатором «поравнения» земельных долей при использовании кочевниками наиболее ценных пастбищ и сенокосов, в то время как в других – настаивало на передаче последних отдельным хозяйствам (Чермак, 1908). Подтверждением этого суждения служат данные по Омскому уезду, где, по наблюдениям статистиков, подворные участки сенокосов далеко не всегда находились в полной собственности их владельцев, поскольку по решению «общества» зачастую передавались в общее пользование. Основанием для такого перехода выступали жалобы хозяев с незначительными покосами. Именно такой возврат был зафиксирован обследователями в группе № 36 Покровской волости2.
В отдельных аулах распоряжение сенокосными угодьями, находящимися в подворном пользовании, являлось прерогативой кочевой единицы, поэтому даже в случае смерти кибитко-владельца его правопреемник не имел права самостоятельно определять судьбу данного участка.
Обследуя казахские хозяйства степных областей, статистики обратили внимание и на многочисленные отклонения от подворно-наследственной формы использования покосных участков. Наиболее примечательным в этом плане выступал Кокчетавский уезд, где в ряде аулов раздел болотных сенокосов осуществлялся казахами подворно, в то время как на луговых участках преобладало совместное сенокошение с распределением продукции копнами. В то же время в других местностях раздел луговых сенокосов проводился равными частями по количеству «киргизских» хозяйств, а в степных – доминировало совместное сенокошение с распределением сена копнами.
Таким образом, принятие Степного положения окончательно утверждало юридическое верховенство государства над землями казахского населения с одновременным наделением «степных обитателей» правом подворного наследственного пользования, в соответствии с которым коренное население становилось лишь пользователями земельных участков, а сам порядок землепользования регламентировался нормами обычного права.
Юридически закрепляя данный правовой институт, имперские власти стремились не только упорядочить казахское землепользование в целях придания ему «цивилизованного» характера путем привития кочевникам навыков оседлого образа жизни, но и вовлечь обширный фонд степных областей в общеимперские экономические процессы.
В то же время подворное землепользование не приобрело законченные формы, являлось неустоявшимся по содержанию, его распространение в разных местностях Степного края носило крайне неравномерный характер, а на саму процедуру оказывали влияние разнообразные факторы природно-географического и социального характера. Фактически земельной единицей стало не самостоятельное казахское хозяйство, а общинно-аульная группа, выступавшая в качестве верховного регулятора земельных отношений.
Список литературы Становление института подворного пользования земельными участками в казахских кочевых хозяйствах степного края во второй половине XIX - начале XX в
- Головачев П.М. Взаимное влияние русского и инородческого населения Сибири. М., 1902. 16 с.
- История Казахстана: с древнейших времен до наших дней / отв. ред. М.К. Козыбаев: в 4 т. Т. 3. Алматы, 2000. 768 с.
- Чермак Л.К. Формы киргизского землепользования // Сибирские вопросы. 1908. № 41-42. С. 5-11.