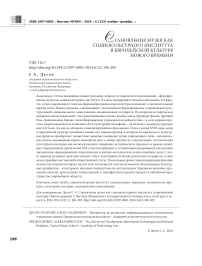Становление музея как социокультурного института в европейской культуре нового времени
Автор: Деген Г.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Музееведение
Статья в выпуске: 6 (122), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена концептуальному вопросу исторического музееведения формированию музея как социокультурного института. В статье предпринята попытка обосновать тот факт, что музеи современного типа как формообразующая идея культуры возникают в заключительный период эпохи Нового времени, совпадающий с интенсивным формированием в европейской культуре наций, национального самосознания, национальных государств. На широком историческом материале автор показывает, что существовавшие в более ранние эпохи (Древняя Греция, Древний Рим, средневековая Европа, эпоха Возрождения) учреждения музейного типа в силу мировосприятия, мировоззренческих особенностей и культурной специфики не являлись социокультурными институтами, так как не обладали социализирующими функциями. Лишь с конца XVIII века, когда в европейской культуре возникает новый тип мировоззрения, в котором историческое и культурное прошлое приобретает ценностное значение, возникают музеи современного типа национальные музеи, начинающие играть очевидную роль в общих процессах социализации. Актуализация культурного наследия как аксиологического измерения исторического прошлого в рамках музейных учреждений на протяжении XIX столетия приводит к становлению музееведения как научной дисциплины, формированию теоретических и научно методических основ музейного дела. С этого периода музейная практика находит себя в культурной политике различных государств, а сами музеи приобретают высокий общественный статус. В настоящее время социализирующая функция музеев как социокультурных институтов заключается в аксиологической объективации культурных артефактов культурного наследия посредством его актуализации (придания значения, признания смысла), артикуляции (озвучивания) и манифестации (демонстрации) в публичном пространстве современных обществ.
Музей, социокультурный институт, социализация, традиция, историческое прошлое, культурное наследие, национальное самосознание
Короткий адрес: https://sciup.org/144163270
IDR: 144163270 | УДК: 316.7 | DOI: 10.24412/1997-0803-2024-6122-196-205
Текст научной статьи Становление музея как социокультурного института в европейской культуре нового времени
Большое количество научных публикаций и защищенных диссертаций в последние десятилетия свидетельствует о повышенном интересе к вопросам, связанным с музейным делом. В настоящее время ведутся тщательные изыскания в различных направлениях музейной науки – от теоретических и исторических вопросов музееведения до выявления социальных функций и практических методов деятельности музеев в современных условиях, в том числе и с применением новейших технологий с целью дальнейшей актуализации культурного наследия нашей страны. А многие экспериментальные и новаторские моменты, вводимые в проблемное поле музееведения, еще только ждут своих исследователей в будущем. Тем не менее, не- которые из таких вопросов, посвященные теории, истории и практике музейного дела, остаются, на наш взгляд, спорными. Один из них заключается в понимании того, почему в общественных дисциплинах позволительно определять музеи как социокультурные институты, а не называть их, например, культурными институтами или просто общественными учреждениями.
Безусловно, музей – культурный институт и общественное учреждение, но слово «социокультурный» предполагает сложную смысловую коннотацию лексической связки «социум (общество) – культура» и более высокую ступень в иерархии общественных организаций на уровне семьи или, скажем, государства. Прилагательное «социокуль- турный», привязанное к существительному «институт», должно указывать на некоторое учреждение, которое выступает в качестве важного посредника, организующего двустороннюю коммуникацию между обществом и присущей ему культурой.
Общеизвестно, что социальные институты как таковые возникают в том или ином обществе только тогда, когда вызревают определенные потребности, удовлетворение которых с необходимостью увязывается с формированием общих идей, ценностей и целей. Если такие потребности оказываются оправданными в исторической перспективе (в смысле установления связей и отношений внутри социального организма), происходит их легитимация (институализация) и складывание соответствующего им специфического учреждения, которое приобретает способность устанавливать спектр социальных практик, имеющих общественное признание и ценностное обоснование. А если это так, то функционирование музея как социокультурного института с необходимостью должно протекать в русле процессов социализации, характерных для обществ современного типа.
В общественных дисциплинах под социализацией принято понимать подготовку индивида (индивидов) к освоению социальновозрастных ролей. А развитие любого общества может быть представлено как процесс последовательной смены возрастных когорт – поколения сверстников, образующих тот или иной возрастной слой населения. Но социализация этим не ограничивается: человек не только интегрируется в общество, он приобщается к культуре, овладевает ею, становится ее носителем со всеми присущими ей атрибутами – мироощущением, набором представлений и ценностей, обычаями и привычками.
По мере взросления, при переходе из одной возрастной группы в другую, окружающая человека действительность приобретает черты личного (индивидуального) с устойчивым порядком вещей мира, но этот мир всегда будет обустраиваться в соответствии с той или иной этнокультурной, национальной традицией. Дело в том, что культура и общество, в котором рождается человек, – это изначально не предмет его свободного выбора, а, как говорят социологи, предписанный фактор. Люди с необходимостью социализируются и интегрируются в существующую институциональную систему в исторически конкретных социальных условиях, и такое бытие, воспринимаемое ими как должное, продуцирует социальную онтологию, включая ценностную систему, поведенческие модели, идейные ориентиры и убеждения, то есть то, что принято называть традицией.
В самом общем приближении традицию можно определить как некий механизм передачи культурной информации (наследия) от старших поколений к более поздним возрастным группам в том или ином социальном объединении. С другой стороны, сами механизмы культурной традиции проявляются через направленные процессы социализации. То есть социализация неизбежно осуществляется в рамках отдельных традиций, воспроизводящих (продуцирующих) культуру того или иного общества в пространстве и времени. Она определяет включенность индивида в социум, предполагает переход от собственно естественного состояния к состоянию культурному. Таким образом, в любых обществах, которые, исходя из коллективно признанных ценностей и за счет действующей культурной инерции (традиции), определяют свои жизненные стратегии (цели), социокультурные институты выполняют исключительно социализирующие функции. Первоначальную социализацию индивид получает в семье, а последующие ее этапы реализуются посредством других институтов, и в этом ряду музеи играют весьма любопытную роль.
Сегодня трудно представить какое-либо цивилизованное общество без наличия музейной практики как составной части культурной политики, проводимой на государственном уровне. Переплетающаяся сеть различных музейных центров включает в себя как масштабные собрания материаль- ных ценностей в рамках государственных учреждений, так и частные коллекции произведений искусства, а также – профильные и специализированные направления музейной деятельности. Конечно, высокое значение музеев и специфика их функционирования во многом подтверждается их прямыми или опосредованными связями с академической наукой. Но не эти связи позволили состояться музеям как общественным учреждениям, достигшим уровня социокультурного института, а их заметное участие в усложняющихся и динамичных процессах социализации, в рамках которых определяются нравственные и жизненные ориентиры для будущих поколений. Сама социализация в рамках идеи музея как хранилища культурных ценностей предполагает исполнение координирующих (воспитательных, образовательных), интегративных (объединяющих) и коммуникативных (организационных) задач. И при этом следует отметить, что столь высокий социальный статус принадлежал музеям не изначально.
Поэтому, признавая музей социокультурным институтом, следует уяснить причины того, почему все, что связано с музейным делом, приобрело столь высокое общественный значение. На каком этапе исторического развития музей, как некая воплощенная в действительность формообразующая идея культуры, превращается в социокультурный институт, то есть начинает приобретать социализирующие функции, которые ранее не имел или имел в существенно ограниченном масштабе? Что произошло в массовом сознании европейцев, чтобы музеи стали необходимостью и непременным условием их культурной и общественной жизни? И если музеи связаны с исторической памятью, то какие социальные и культурно-исторические обстоятельства способствовали утверждению в европейском общественном сознании особого (ценностного) отношения к собственному прошлому? Как учесть тот факт, что в других культурах ценность прошлого могла переживаться качественно иначе?
Отвечая на эти вопросы, следует отметить, что приобретение коллекционными собраниями ценных предметов такого престижного социального статуса происходило в период складывания модернизированных обществ Нового времени, когда появление национальных музеев действительно принимает массовый характер. Именно в этот период музеи перерастают стадию обычного «зрелища» и становятся принадлежностью каждой национальной культуры. Помещения, где располагались коллекции произведений искусства, собрания редкостей (раритетов), реликвий и достопримечательностей, качественно преобразуются в некое сакральное место ( topos ), открывающее посетителю смыслы иного измерения, пробуждая у него не только любопытство, но и вызывая с его стороны чувство сопричастности. Поэтому раскрытие обстоятельств культурных изменений в истории западной культуры, которые привели к бурному развитию музейного дела в европейских государствах XVIII–XIX столетий, становится принципиальным в уяснении специфики формирования самого музееведения как научной дисциплины.
Обращаясь к истокам этого вопроса, напомним, что прообразы музеев современного типа совершенно справедливо усматриваются специалистами в греческих мусейо-нах и римских пинакотеках, но называть их социокультурными институтами того времени было бы по меньшей мере некорректно. Первые прецеденты целенаправленного коллекционирования рукописей, статуй и картин, инициаторами которых выступали эллинистические монархи (Птолемеи, Атта-лиды), в основном оценивались как «проявление политических амбиций и стремление обрести монополию на греческую культуру» в Восточном Средиземноморье, являлись «составной частью государственной политики» [9, с. 137]. В римский период произведения греческого искусства уже становятся достояниями как общественных, доступных осмотру любому желающему, так и частных собраний. На государственно-политическом уровне и в общественном сознании такие собрания свидетельствовали о величии империи, а частные коллекции создавали его обладателю репутацию ценителя и знатока искусства, служили свидетельством его высокого социально-имущественного и культурного статуса.
В Риме эпохи империи складывались определенные приемы экспонирования коллекционных предметов, апробировались способы наиболее эффективного их расположения, составлялись подробные описи наличествующих вещей, предпринимались попытки решать проблемы хранения и реставрации музейных ценностей, вводились должности специальных гидов, служителей и смотрителей со специфическими обязанностями. Помещения, в которых располагались подобные собрания произведений искусства, преимущественно предназначались для проведения созерцательного досуга, литературных и ученых занятий привилегированного характера, что способствовало развитию эстетического вкуса и расширению кругозора у любителей искусства. Тем не менее, играя такую важную общественную роль, подобные собрания материальных ценностей (преимущественно произведений искусства) не имели оснований выкристаллизоваться в полноценные социокультурные институты. Это объясняется тем, что практика коллекционирования произведений искусства тех времен с целью их публичной демонстрации рассматривалась исключительно в качестве зрелища в общих рамках развлечений или проведения досуга, свойственных греко-римскому обществу. Такой в целом зрелищный характер во многом сформировался под влиянием представлений об окружающем универсуме, свойственных греческой, а затем и римской культуре. Греческое мироздание – застывшая, законосообразная, замкнутая и симметричная пространственная структура, которая могла быть принципиально подвержена лишь созерцанию и описанию с позиций точечного «сейчас». Статичный античный космос воспринимался не как процесс, а скорее как чистое функционирование, которое открывалось созерцательному взору древнего грека как манифестация настоящего [1, с. 36–37].
Подобное понимание универсума привело к главенству описательности ( экфрасис ) в греческой исторической литературе (Геродот, Фукидид, Плутарх) и работах римских историков (Тит Ливий, Светоний, Тацит, Полибий). В основе античной истории преимущественно лежала фиксация важных явлений и событий, достойных памяти потомков. Она не осмысливалась в качестве линейного (динамического) процесса, а воспринималась как циклическая последовательность возвышения и упадка обществ («вечного возвращения»), где прошлое было лишено такой актуальности, как оно представлено в сознании наших современников. То, что в нашем мышлении представляется подлинно «историческим», в античности было лишено значения, если, конечно, оно не имело какого-либо мифического или важного событийного прецедента. Античное осмысление исторического прошлого не способствовало тому, чтобы это прошлое в целом могло приобрести неоспоримую ценность в формировании перспектив общественного развития, хотя в общественном сознании сохранялась память о важных событиях минувших времен. Поэтому и предметы прошлого, не представлявшие собой произведения искусства, или священные, знаменательные реликвии, в античной культурной парадигме не являлись «текстами», как это присуще культурам настоящего времени, а потому принципиально «не читались» и, следовательно, не воспринимались с аксиологических позиций. Римский коллекционер никогда не поместил бы в свое собрание вещи, не прошедшие эстетической проверки или каким-либо образом не связанные с именами героев или самих богов.
Основным потребителем этого вида зрелища являлась преимущественно наиболее образованная прослойка жителей крупных городов Римского государства. Эта практика, обладающая всем набором элитарных, даже своего рода эзотерических характеристик, не охватывала максимально широкие слои населения империи, которое, как правило, в массе своей индифферентно относилась к такой социальной практике, одновременно признавая его престижность. Эзотерические черты такого зрелища проявлялись в особом духовно-эмоциональном, ценностноэстетическом переживании произведений искусства, доступном только узкому кругу избранных граждан, а потому приобщение к этой деятельности носило не столько социализирующий, сколько инициирующий характер. Такая эксклюзивная форма проявления общественной жизни не могла определять смысл, направленность и качество практических действий большинства населения империи, продолжавшего оставаться в консервативных рамках традиционного жизненного уклада. Вклад такой деятельности в общие процессы социализации был незначительным, вследствие чего привычные для нас музеи современного типа были бы принципиально неуместны в рамках зрелищной культуры древних греков и римлян.
Такая оценка вполне подтверждается рядом исторических данных, свидетельствующих о том, что быстрое свертывание художественного рынка в поздней Римской империи конца III – начала IV века вполне согласуется с процессами массового разорения сословия куриалов – городских земельных собственников, исполнявших муниципальные повинности. Именно куриалы, имевшие в условиях функционирования рабовладельческого строя привилегию свободного времяпровождения, в сложившейся социальной структуре являлись главным поставщиками образованных кадров и основными потребителями высоких культурных образцов. С упадком муниципального управления в римских городах общественные учреждения, содержание и поддержка которых входили в обязанность состоятельных куриалов, стали постепенно терять свою публичную значимость [3, с. 123–124].
Конечно, скульптурными и художественными произведениями продолжали украшаться дворцовые покои, обществен- ные места, храмы, святилища и сакральные территории, но с окончательной победой христианства престиж такой деятельности был подорван. В период классического средневековья подобные собрания произведений искусства перестают быть востребованными уже в силу господства иных ценностных ориентиров. А поскольку принципы спасения в рамках средневекового мышления были четко сформулированы, то не существовало и особой необходимости в возвеличивании государства или повышении социального статуса отдельного индивида средствами искусства. Легитимность политической власти определялась в той мере, в какой она, как «град земной», способствовала богобоязненной жизни и посмертному спасению человеческой души в «Граде Божием».
Средневековые собрания религиозного искусства и христианских реликвий, имевшие место в хранилищах монастырей и храмов, разумеется, также выполняли зрелищные функции своих античных предшественников, но имели целью не столько развитие эстетических чувств, а скорее – укрепление веры прихожан. Именно это обстоятельство дает нам право говорить о формировании частичной социализирующей роли христианского искусства в средневековых обществах, так как росписи и фрески выступали в качестве универсальных «текстов», повествующих о праведной жизни Христа и сонма святых. Образцы же светского искусства находились на второстепенных позициях, украшая преимущественно замки и дворцы правителей и крупных феодалов.
Модернизация всего массива традиционного христианского мышления и эмансипация светского искусства начинаются с устранения священно-мистического основания истории в последующие эпохи Возрождения и Просвещения. В это время расширяется круг потребителей: заказчиками произведений искусства помимо церкви и крупных феодалов становятся цеховые объединения ремесленников, купеческие гильдии, городские власти и частные лица в лице знати и бюргерства. С XVI столетия возникают реальные условия для возобновления организации музеев как общественных учреждений по образцу античных аналогов, однако социализирующая роль таких собраний материальных ценностей в европейских обществах в целом также была невелика. Однако в позднем Просвещении ситуация начинает постепенно меняться, что отразилось на том факте, что музейные собрания, кроме произведений искусства, начинают широко включать в свои фонды вещи, которые стали рассматриваться как первоисточники науки или предметные исторические доказательства, используемые для образования и удовлетворения любознательности. «Основанный на интересе человека к собиранию раритетов, древностей, шедевров, через закрытые коллекции, доступные только избранным, музей шагнул в век Просвещения с великой целью служить обществу, способствуя его совершенствованию» [5, с. 47].
Эпоха Просвещения, определившая разум в качестве объективного источника всякого познания, олицетворяла собой стремительное наступление рационализма в естественных и общественных науках. Новое мировоззрение, потрясло существующие институты, в том числе и изменило взгляд на смысл истории, ее характер и направленность. Историко-культурная оптика европейцев подверглась серьезной коррекции, породив острую рефлексию в умах тогдашних интеллектуалов по отношению к своему далекому и недавнему прошлому. Сущностью и основой истории становится идея прогресса природы человека и человеческого разума, а сама она из объединения отдельных и даже случайных фактов, более или менее связанных казуальными отношениями, была, наконец, представлена как единый процесс общественного развития, смысл которого заключается в нем самом.
Подобный взгляд на историю в XIX столетии начинает господствовать в массовом мышлении европейцев отчасти благодаря позитивным изменениям в образователь- ной сфере и широкому распространению грамотности. Свойственный просветителям социально-исторический скептицизм, придавший важность практике критического анализа источников, приводит к возникновению научного источниковедения. Критика исторических источников как метода получения объективных исторических знаний придает научный статус историческому исследованию. Позитивистское понимание истории в качестве текста (исторического источника) стало началом так называемого «лингвистического поворота» в исторической науке, выявив своеобразную способность письменности являть нам прошлое в настоящем. Всплеск интереса европейских народов к собственному историческому прошлому приводит к тому, что история преподается с кафедр университетов уже как академическая наука. Важнейшим модернизирующим явлением этого времени стали гегелевская и марксистская системы философии истории.
Такое ценностное переживание прошлого, при котором могло пониматься настоящее и выстраиваться будущее, превратилось в социальный фактор с мощным культуротворческим зарядом. Его утверждению способствовал бурный рост национального самосознания в Европе, вызванный к жизни наполеоновскими войнами, а позднее – процессами индустриализации и модернизации, которые привели к складыванию классического массового общества со всеми присущими ему атрибутами. Стремление создать национальное государство с целью использования его в качестве инструмента дальнейшего поступательного (прогрессивного) развития модернизированных обществ требовало своего идеологического обоснования в виде эпического нарратива. Иными словами, для выработки собственного самосознания нации остро нуждались в собственной истории, потому что «нация без прошлого – это логическая несообразность, ибо нацию делает нацией именно прошлое, именно оно оправдывает ее существование, а историки – те, кто его создают» [8, с. 332].
Формирующимся национальным объединениям была необходима новая система приоритетов, однако, увязанная с предшествующими ценностями традиционного порядка – общностью культуры и истории. И в таких модернизированных обществах в качестве объективированного проявления традиций, тесно связанного с исторической памятью (прошлым) и представленного в различных модусах ритуализма, выступило национальное самосознание (идентичность). Этот «духовно-практический феномен, включающий в себя совокупность присущих обществу и человеку взглядов, идей, представлений о своем прошлом, а также сохранении и осмыслении исторического опыта своей жизнедеятельности» [6, с. 89–90], становится составной частью собственного «Я» индивида, направляет и заметно корректирует мышление и поведение своего носителя.
Основой национального сознания, как правило, выступает так называемая «национальная идея» – набор метафор или мифологем с размытыми границами и неопределенным объемом, являющих собой комплекс оптимистических представлений в отношении конкретного общества и его позитивных перспектив. Обладая реальной интегративной функцией, национальная идея, с одной стороны, объективируется в практике социального управления, а с другой, – становясь элементом культуры, усваиваемой в процессе социализации, влияет на формирование перцепций и установок у тех, кто определяет и осуществляет управленческие функции (элита). Таким образом, история сама становится составной частью идеологических построений, а ее изучение и, в особенности, преподавание ставится под государственный контроль.
Безусловно, оценка старого как почтенного и авторитетного может существовать постольку, поскольку та или иная современность нуждается в обосновании и оправдании собственных тенденций развития, поэтому историческое (культурное) наследие становится существенным аргументом в полити- ческих противоборствах. В национальных обществах XIX столетия возникает своеобразный общественно-политический «заказ» на исторические исследования, а исторический роман становится наиболее популярным жанром художественной литературы. Побуждаемая властными структурами к выработке исторической действительности, направленной на защиту настоящих политических (национальных) интересов, целая плеяда выдающихся европейских историков в это время создает фундаментальные труды, по праву признанные классическими. В таком мировоззренческом (идеологическом) климате подобные культурные требования стали распространяться на все значимые общественные институты, способствующие утверждению, воспроизводству и распространению национального самосознания, и в такие учреждения превращаются национальные музеи, роль которых в процессах социализации становится очевидной.
Старейшим таким учреждением явился Британский музей, открывшийся в 1759 году и инициирующий создание сети провинциальных музеев в стране, которые объединяются в 1889 году в Британскую ассоциацию музеев [7, с. 142]. Во Франции, начиная с революционного периода, также создается региональная музейная сеть, что привело в 1895 году к созданию Объединения национальных музеев страны [4, с. 10–11]. Аналогичные процессы охватывают Испанию, Нидерланды, Бельгию, Германию, Швейцарию, Россию. На волне пробуждения национального самосознания у народов, входивших в состав многонациональных империй и отстаивавших свои права на национальную культуру, учреждаются национальные музеи в Италии, Венгрии, Чехии, Сербии, Хорватии, Болгарии, Албании и других странах. Такая деятельность по актуализации культурного наследия привела к концу XIX века к становлению музееведения как научной дисциплины: создаются теоретические и научно-методические основы музейного дела, музейная политика рассматривается уже на государственном уровне, а сами музеи приобретают высокий общественный статус.
История музейного дела доказывает, что формирование музеев как социокультурных институтов приходится на поздний период Нового времени. Эта эпоха определялась складыванием таких обстоятельств существования крупных человеческих объединений (этнос, нация), когда общественное признание получает так называемое культурное наследие – широкий спектр материального и нематериального измерения собственного прошлого с аксиологических позиций. Ценностное измерение артефактов исторического прошлого, явившееся следствием глубокого убеждения в общественном сознании его неумолимой связи с настоящим и прогнозируемым будущим, становится непременным условием самоидентификации любого социального объединения, каждого человека, их ориентации в мире, сохранения и обеспечения своей жизнеспособности в контексте культурной или национальной идентичности. Оно образует идеологический фундамент национальных идей, способствует формированию соответствующих им социальных институтов, а через них – и набору социальных практик, которые общества, это сознание культивирующие, считают действенными и оправданными. И поэтому вполне объяснимо, что в контексте таких мировоззренческих установок сам музей стал рассматриваться как символ качества общества и подлинности присущей ему культуры. Ценностное значение превращает музейные экспонаты в своеобразный «текст» наподобие древних рукописей, который можно «прочитывать», получать сведения о событиях минувших времен, переживать личный момент присутствия во всеобщем историческом движении.
Социальные обстоятельства складывания наций и формирования национального самосознания требовали таких институтов, которые были бы призваны актуализировать прошлое (в виде культурного наследия) как ценность и поддерживать эту актуализацию с государственно-идеологических позиций либо в свете конкретной национальной идеи. Значимость культурных артефактов исторического прошлого стала определяться тем, что они помогают отдельно взятой личности понять самого себя, свой народ, осмыслить его достижения, успехи, неудачи, устремления и цели будущего, то есть начинают активно участвовать в процессах социализации. Неудивительно, что в условиях повсеместного всплеска национального самосознания музейные центры стали открываться, помимо Европы, в Северной и Южной Америке, английских доминионах и колониальных центрах других западных держав, а немного позже – в странах Азии и Африки. А в настоящее время необходимость в продуктивном управлении культурным наследием привела к созданию сетей музейных учреждений и серьезным изменениям в практике музейного дела.
Итак, музей представляет собой особый социокультурный институт – культурный, потому что он способен сохранять и накапливать культурные артефакты; социальный, потому что выполняет в обществе не всегда заметные, но крайне важные функции, участвуя в общих процессах его жизнедеятельности. Так, по точному выражению немецкого философа Н. Гартмана, прошлое «вторгается в настоящее» [2, с. 639–641]. Предметы, хранящиеся в музейных фондах, – реальные свидетели минувших эпох – определяют критерии достоверности знания об этом прошлом, всесторонний анализ которого, как совершенно справедливо считается, способен дать адекватные ответы на вызовы современности. Но сам музей не создает ценности, а объективирует их, то есть открывает их присутствие в предметах прошлого, артикулирует (проговаривает) и манифестирует (демонстрирует) их посредством культурных артефактов – культурного наследия. Такой статус музея в современных условиях резко контрастирует с тем положением, которое аналогичные учреждения занимали в более отдаленные от нас эпохи.
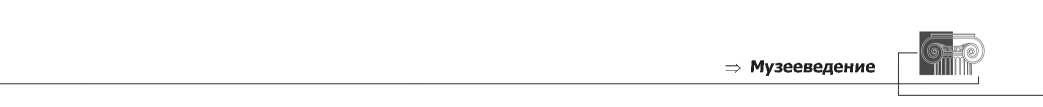
Список литературы Становление музея как социокультурного института в европейской культуре нового времени
- Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции: монография. Москва: Школа "Языки русской культуры", 1996. 448 с. EDN: VNNEPX
- Гартман Н. Проблема духовного бытия. Исследования к обоснованию философии истории и наук о духе // Культурология. ХХ век: Антология. Москва: Юрист, 1995. С. 608-648.
- История Византии: монография в трех томах. Т. 1. Москва: Наука, 1967. 525 с.
- Куклинова И. А. Национальные музеи Франции в регионах // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2011. № 3 (8). Сентябрь. С. 10-14.
- Мастеница Е. Н. Музей в начале третьего тысячелетия: ведущие тенденции развития // Общество. Среда. Развитие. 2020. № 3. С. 46-54. EDN: YWCFPE
- Пичугин В. Г. Историческое сознание общества: основные подходы к определению методологического статуса // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2022. Т. 11. № 3А. С. 86-93. EDN: DMEXDC
- Сатубалдин А. К. Особенности музейной системы в странах Западной Европы (на примере Франции, Великобритании и Швейцарии) // Известия АлтГ У. Исторические науки и археология. 2018. № 5 (103). С. 140-144.
- Хобсбаум Э. Дж. Принцип этнической принадлежности и национализм в современной Европе // Нации и национализм: Сборник статей. Москва: Праксис, 2002. С. 332-346.
- Юренева Т. Ю. Коллекции и коллекционеры античного мира // Вопросы истории. 2002. № 9. С. 136-148.