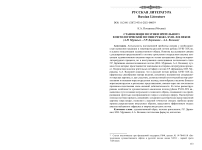Становление поэтики зрительного в онтологической поэзии рубежа XVIII-XIX веков (А.Н. Муравьев -Г.Р. Державин - А.А. Волкова)
Автор: Поташова Ксения Алексеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
Актуальность поставленной проблемы связана с необходимостью выявления традиции и новаторства русской поэзии рубежа XVIII-XIX вв. в аспекте визуализации художественного образа. Новизна исследования связана с расширением представлений о поэтике зрительного посредством анализа концепции художественного видения мира не только центральных фигур историколитературного процесса, но и выступающих наследниками поэтического стиля Г.Р. Державина малоисследованных поэтов (М.Н. Муравьев, А.А. Волкова), лучшие стихи которых представляются значимыми в историко-литературном процессе. Посредством анализа зрительных метафор в поэзии Г.Р. Державина, М.Н. Муравьева, А.А. Волковой доказано, что в русской поэзии рубежа XVIII-XIX вв. оформилась своеобразная манера видения, связанная с восприятием созерцаемого мира как картины, и, как следствие, сложился новый эстетический вектор самопознания и познания мира посредством взгляда, многообразие и величие Божьего мира акцентируется в зрительных представлениях, именно через них постигается причинно-следственная связь явлений действительности. В статье реконструированы особенности художественного мышления поэтов рубежа XVIII-XIX вв., выявлены пути создания визуального словесного образа, основанного на преобразовании зрительно воспринимаемого мира в словесную форму. Рассмотрение генезиса поэтики зримого, связанной с созданием аллегорически представленной картины мира вокруг, позволяет с высокой точностью описать наиболее яркие приемы репрезентации визуальных образов, представить эффективную модель анализа пейзажного экфрасиса в творчестве русских поэтов.
Художественный образ, поэтика зрительного, г.р. державин, м.н. муравьев, а.а. волкова, поэтическая формула, онтология
Короткий адрес: https://sciup.org/149136575
IDR: 149136575 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00039
Текст научной статьи Становление поэтики зрительного в онтологической поэзии рубежа XVIII-XIX веков (А.Н. Муравьев -Г.Р. Державин - А.А. Волкова)
Противостояние философской доктрины XVIII в. рационализму XVII в., когда на смену культу отвлеченного разума пришло внимание к естественному восприятию мира посредством чувств, обусловило интерес к осмыслению функции зрения при познании мира. Д. Дидро в «Письме о слепых, предназначенном зрячим» (1749) развивает идею о том, что источником знаний являются ощущения, возникающие в процессе взаимодействия человека с пространством вокруг. О человеке, лишенном возможности видеть, Д. Дидро заключает: «Для слепого красота, если она отделена от пользы, всего лишь слово; а так как у него одним органом чувств меньше, то польза скольких вещей от него ускользает» [Дидро 1986, 55].
Трактовка зрения не только в познавательно-мыслительном, но и «в более глубоком духовно-душевном контексте» [Топоров 2003, 545] предложена М.Н. Муравьевым в стихотворение «Зрение» (1785). Само назва-
** The article was prepared with the financial support of the Russian Academy of Sciences, project No. 19-78-00118 “Visualization of the artistic image in Russian poetry of the late 18th-first third of the 19th century”.

ние стихотворения является своеобразной программой, реализующейся в нескольких лирических отрывках, содержащих размышления поэта о различных аспектах зрения, как то собственно устроение глаза, связь глаза с внутренним миром человека, отсутствие зрения, чудо прозрения. Поэт восхищается человеческим глазом: «Все может нежный глаз, сияющий слезами: / И радость, и печаль, любовь, и гнев, и страх / Изображает глаз мгновенья на крылах» [Муравьев 1967, 160]. Однако было бы недостаточным рассматривать настоящее стихотворение только как описание физического механизма зрения или его функций. Размышление М.Н. Муравьева о зрении представляет собой эмоциональное авторское переживание, суть которого сводится к утверждению идеи безграничной возможности человеческого ока, заключающейся в преодолении пути от незнания к познанию. Глаз, или, как называет его поэт, «превосходное души орудье» [Муравьев 1967, 160], выполняет функцию инструмента познания не только в физическом, но и в метафизическом смысле, главное назначение глаза - это познание чудес Творца, зрение рассматривается как путь постижения могущества Создателя Вселенной, глаза делают истину зримой и исполненной жизнью.
Именно с утверждения гносеологической функции зрения и начинается стихотворение М.Н. Муравьева. Поэт постепенно разворачивает картину мироздания - глазу оказывается доступным пространство неба («Ты возносишься высоко / Над тучи, коими одеты небеса» [Муравьев 1967, 160]), затем пространство земли («Ты холмов и долин объемлешь окруженье» [Муравьев 1967, 160]), следом бытийное содержание картины вселенной наполняется множеством деталей, обобщенно названных поэтом «изображенья всех предметов по чреде» [Муравьев 1967, 160]. Для глаза в восприятии этой «вселенной живописи» [Муравьев 1967, 160] небесное и земное пространства лишены оппозиционности, небесное пространство носит планетарный масштаб, человеческому глазу подвластен даже «Сатурн в небесной синеве» [Муравьев 1967, 160], в то же время на земле ему видим «слабый червячок, ползущий по траве» [Муравьев 1967, 160]. Изображая в стихотворении видимое и невидимое, земное и небесное, поэт подводит читателя своими размышлениями к идее о том, что все восходит к Творцу: «Ты зришь в огромности, ты зришь природу в малом, / Равно сияющу премудрости началом» [Муравьев 1967, 160]. Различные пространства хотя и выделяются, но вкупе они составляют цельность Божественного мира.
Роль зрения заключается в возможности постижения всей грандиозности мироздания, не поддающейся научному определению, сам же глаз представляется «орудием» созерцания вселенной, «какой-то высшей инстанции человека - “духа” как субъекта зрительного акта» [Торияма 2006, 307]. Процесс познания не имеет в стихотворении самодовлеющего значения, скорее он подчинен прославлению Создателя. Главное, что доступно глазу человека - это свет. Со светом М.Н. Муравьев сравнивает само око: «Со светом сродственно отверстие зеницы, / Где перст напечатлен всесильные десницы, / Всечастно льющися пьет солнечны лучи» [Муравьев 1967,
160]. Мотив света вводится имплицитно уже с самого начала размышлений о зрении, когда поэт прославляет око, обращенное поверх туч к солнцу: «Ты возносишься высоко / Над тучи, коими одеты небеса» [Муравьев 1967, 160]. Мотив света реализуется в двух планах - реально видимом и символическом. Тучи застилают небо, сверкают молнии, льются на землю солнечные лучи - за этими прямыми описаниями пространства скрываются метафорические образы духовного мира. Сравнение ока со светом, а также созданный М.Н. Муравьевым образ видимого человеком льющегося солнечного луча есть высшая ступень познания Божественного, восприятие нематериального света, что само по себе и есть для человека свет озарения («Во свете твоем узрим свет» (Пс. 35:10) [Псалтирь 2017, 94]).
Философская поэзия XVIII в. изобилует различными выражениями, относящимися к открывшемуся для глаза свету, в связи с поиском реального выражения Божества, как то восхищение М.В. Ломоносовым северным сиянием, используемый им образ солнца - «прекрасного светила» [Ломоносов 1986, 204]. Свет трактуется поэтами как видимый признак Божества, та божественная благодать, в которой и познается Создатель. Ярким поэтическим образом, представляющим преображение телесного зрения в духовное, стал образ утра как точки отсчета Божьего Величия. В традиционной для XVIII в. аллегории победы утреннего света над мраком ночи воплотилась идея торжества Создателя. Утро рассматривается как пробуждение первозданной природы, через конкретно-чувственное восприятие которой происходит постижение божественного мира в его полноте, возможность единение с Богом. В утреннем обращении к Богу фиксируется сам процесс познания: «Творец! покрытому мне тьмою / Простри премудрости лучи / И что угодно пред Тобою / Всегда творити научи, / И, на Твою взирая тварь, / Хвалить Тебя, бессмертный Царь» [Ломоносов 1986, 205].
Идея постижения мироустройства через обозрение, то есть посредством глаза, в высшей степени развита в «утренних размышлениях» Г.Р. Державина. Обладая «картинным, выразительным и сильным языком» [Поташова 2019, 201], поэт утверждает символизм глаза, суть которого заключается в соединении души и тела, в отражении внутреннего во внешнем: «И мысленным очам моим / Не предложу я дел преступных» [Державин 1864-1871,1, 266]. Державинский поэтический образ «мысленных очей» перекликается со словами святителя Тихона Задонского, старшего современника поэта, о взгляде на мир «умными очами», то есть взглядом, исполненным духовной мудрости: «Возведи умные очи в Небесные селения и осмотри там всех жителей - ни одного не найдешь, кто бы не пришел туда путем терпения» [Ларец мудрости духовной 2008, 134]. «Мысленные очи» в представлении Г.Р. Державина есть сосредоточение высшей мудрости, единство обыденного с духовным представлением о мироустройстве. В стихотворении «Утро» (1800) мудрецу открывается картина пробуждающейся природы во всей ее необъятности: «Он видел землю вдруг, и небеса, и воды, / И блеск планет / Тонущий тихо в юный, рдяный свет. / Он зрел,
как солнцу путь заря уготовляла, / Лиловые ковры с улыбкой расстилала, / Врата востока отперла, / Крылатых коней запрягла / И звезд царя, сего венчанного возницу, / Румяною рукой взвела на колесницу» [Державин 1864-1871, II, 317]. В этой развернутой картине отражен грандиозный масштаб самой цели познания, рассматривание картины запечатлевает путь постижения мироустройства. С.С. Аверинцев, изучая феномен художественного мастерства Г.Р. Державина, справедливо подчеркнул, что поэт писал «обо всем и всегда так, словно он первый человек на свете, у которого только что отверзлись глаза» [Аверинцев 2000, 768]. Образ «отверзнутых глаз» стал знаковым для творчества Г.Р. Державина, большая часть шедевров, определивших его поэтический космос, представляет идеальный мир, совершенное творение. Взирая на мир, поэт словно открывает его для себя и для читателя.
Описание утра в стихотворении «Евгению. Жизнь Званская» (1807) открывается поэтической формулой «взвожу на небо скромный взор» [Державин 1864-1871, II, 634], зримо представляющей утреннее обращение к Богу - только не собственно утреннюю молитву, а «благодарный молитвенный восторг, способность к которому и говорит о человеке, как о венце Божьего творения» [Алпатова, Киселева 2010, 140]. По самому охвату зрения «взор» оказывается вовсе не «скромным», а, напротив, всеохватным. Г.Р. Державин делает доступным глазу грандиозное панорамное изображение, включающее в себя все возможные реалии и детали мироздания, вкупе слагающиеся в образ рая на земле, основанного на гармонии человека и природы. Переданная Г.Р. Державиным всеохватность зрения восходит к развитой М.В. Ломоносовым в философской оде «Утренние размышления о Божием величестве» (1743) идее доступности всей полноты мироздания только духовному зрению: «Чтоб к солнцу бренно наше око / Могло, приблизившись, воззреть, / Тогда б со всех открылся стран / Горящий вечно Океан» [Ломоносов 1986, 204]. В своих «Утренних размышлениях...» М.В. Ломоносов гиперболизирует возможность человеческого глаза - человеку виден не просто солнечный луч, а солнце, освещающее весь мир сразу. Также и «Божии дела» предстают в масштабности едва ли доступной для постижения обыденным сознанием. Развернутая картина утра - это отнюдь не простое любование природой, это созерцание мощи мироздания, дарованное человеку зримое чудо, заставляющее восхититься Создателем («Велик Зиждитель наш, Господь!» [Ломоносов 1986, 204]), познать через зримое необозримое: «Светило дневное блистает / Лишь только на поверхность тел, / Но взор твой в бездну проницает, / Не зная никаких предел» [Ломоносов 1986, 205]. В державинском «скромном взоре» с точностью передано «единство незримого и зримого» [Эткинд 1995, 242], сконцентрирована раскрытая в дальнейшем гармоничность космической устроенности мира. Глаза дают возможность буквально «считывать» открывшиеся картины как со свитка: «.. .картинные места / Смотрю моих усадеб; на свитках грады, царства, / Моря, леса, - лежит вся мира красота/ В глазах» [Державин 1864-1871, II, 635]. Достигнутая посредством ис- пользования мотива зрения визуальность образа направлена на сближение лирического героя с самим поэтом, по сути, отождествляет их, поскольку изображенное подается уже не только как сказанное, но и как увиденное.
Антиномия «зрение физическое» и «зрение духовное» стала предметом размышлений и А.А. Волковой (1781-1834), поэтическому таланту которой оказывали покровительство Г.Р. Державин и А.С. Шишков. Размышления А.А. Волковой об онтологических основаниях зрения не случайны и связаны с трагическими обстоятельствами в жизни поэтессы - с 1796 г. на протяжении десяти лет она заботилась о слепом отце. Адресуя ему свои поэтические зарисовки, А.А. Волкова «активно задействует зримые образы - созерцает картины природы, пристально вглядывается в открывающийся вид, воспринимая красоту природы» [Поташова 2016, 64], стремится сделать мир вокруг доступным для человека, лишенного физической возможности видеть. Зрительное начало проникает и в размышления поэтессы о мироустройстве, визуализация самого пути познания мира достигнута ею в стихотворении «Утро» (1807).
В первой части стихотворения (стихи 1-32) акцентируется физическая способность зрения постигать красоту мира вокруг: «Какое зрелище представилось очам! / Какая пища здесь чувствительным сердцам!» [Волкова 1807, 35]. Путем перечисления глаголов с общим контекстуальным значением восприятия зрением («удивляюсь», «восхищаюсь» [Волкова 1807, 35]) в стихотворении задана основная линия развития сюжета, который движется в зрительном плане. Позиция наблюдателя фиксируется глаголом «встаю», в данном контексте также имеющим дополнительные визуальные коннотации - «встаю», то есть пробуждаюсь ото сна, открываю глаза. Визуальный ряд «зрелища», то есть утреннего пейзажа, составляют несколько ярусов, взгляду доступно все пространство от небесного свода до росы на траве.
Зрительный путь вначале проходит по верхнему ярусу открывшегося вида, создается красочная панорама неба («Восточны облака лазурный свод пестрят, / Края их золотом блистают и горят» [Волкова 1807, 35]), дополняющая первую, открывшуюся глазу после пробуждения картину рассвета: «Румяная заря мрак нощи прогоняет / Прелестный птичек хор сон сладкий прерывает» [Волкова 1807, 35]. Утренняя картина природы разворачивается в наборе традиционных для классицистической поэзии формул и эмблем, восходящих к художественной системе Державина. «Румяная заря», прогоняющая «мрак нощи», - аллегория утра, навеянная хрестоматийными державинскими образами («По небу, по водам блистает / Румяною зарей в ночи»; «Румяная заря глядит из темных туч» [Державин 1864-1871, I, 60, 218]). Далее зрительный луч спускается ближе к земле: «Хребты высоких гор из мрака выступают, / Дубравы и леса верхи свои являют»; и далее: «Средь бархатных лугов источники катясь, / По желтому песку излучиной виясь, / Сверкают в берегах сребристыми струями» [Волкова 1807, 35]. Исполненный летнего колорита утренний пейзаж, цветовую тональность которого составляют красный, золотой, желтый, сребристый

цвета, дополняется приятными слуху звуками - пением птиц, шумом ручья. Обращает внимание и разнообразие представленного ландшафта - горы, лес, луг, вода. Смешение в одну многоцветную картину элементов различных ландшафтов, дополнение их звуковыми деталями обусловлено эстетически, все они составляют словами Державина «прекрасный пир» - восхитительное место, приятное глазу и слуху человека. Но если у Державина «доминирует восторг перед необузданной мощью» [Эпштейн 1990, 90], у него прекрасное - это великое, поражающее взор своей грандиозностью («И вниз из-под ветвей пустил свой взор / На море, на леса, на сини цепи гор / И зрел с восторгом благолепны / От сна на восстающий мир» [Державин 1864-1871, II, 318]), то в созданном А.А. Волковой утреннем пейзаже преобладает умиление, еще более улавливаемое при создании крупного плана, когда зрительный луч достигает самой земли: «Роса прохладная, носясь над муравами, / Седою влагою растения поит» [Волкова 1807, 36]. Наиболее точным выражением испытанного чувства от утренней картины стал использованный поэтессой исконно-русский глагол «удивиться»: «Великолепию природы удивляюсь» [Волкова 1807, 35]. Нерукотворная красота земного мира и есть то диво, которое доступно человеку: «Природа новыми блистает красотами / Все восхищает дух и чувства веселит, / Все торжествует здесь и счастие дарит» [Волкова 1807, 35]. Благодать, открывшаяся глазу, и есть доказательство Величия Творца. Державинскому эстетическому восприятию величия и красоты природы соответствуют скорее категории возвышенного и нового, то, что потрясает человеческий глаз раз и навсегда, тогда как в эстетической категории «умилительного», характерной уже для художественной системы предромантизма, переход к которому просматривается в стихотворении А.А. Волковой «Утро», проявилось иное восприятие мира вокруг, категория «умилительного» объединяет весь комплекс эмоций, служащих естественной реакцией человека на приятную картину природы в ее простоте.
Категория «умилительного» подчиняет себе поэтику стихотворения. У А.А. Волковой в утреннем пейзаже нет державинской величественной картинности, описание природы более лаконично и целостно, в образном рисунке отсутствует поражающие и устрашающие одновременно космические картины, интонации восхищения заменены описательными конструкциями, пронизанными нежными и теплыми чувствами к природе («С кустами резвится, с листочками играет, / И ветви древес легонько качает» [Волкова 1807, 36]), сам пейзаж представлен уже не с высоты обозрения, а с точки, доступной естественному человеческому взору. Несмотря на развернутое описание, открытая взору картина не утрачивает своей мгновенности. Посредством перечисления глаголов действия, точно характеризующих утреннее пробуждение природы («пестрят», «горят», «блистают», «выступают», «катясь», «виясь», «носясь» [Волкова 1807, 35-36]) достигается «переход реально зримой картины в художественный образ» [Киселева 2019, 271], картине присуща динамика, быстрое и одновременно пытливое зрение позволяет во всей полноте охватить всю вещественность бытия. По отношению к глазу выступают подчиненными и другие чувства человека, такие как слух, обоняние, осязание. Посредством считывания картины природы происходит смешение впечатлений, зрительной сфере деятельности человека оказывается доступно и дуновение ветра («Там легкий ветерок по зелени парит» [Волкова 1807, 36]), и благоухание цветов («На нежных крылиях духи цветов несет» [Волкова 1807, 36]). Отсюда возможность видеть трактуется не в привычном понимании физической способности человека к восприятию окружающего глазами, а как путь постижения пространства, в котором человек и мир вокруг оказываются слиты. Зрение есть доступная человеку возможность раствориться в окружающем пространстве, выйти «за пределы себя, как бы претерпевая собственное исчезновение» [Быстров 2004, 204].
Представив красоту земного мира, А.А. Волкова стремится определить место человека в этом мире. Человеческое «я», наряду с нерукотворной красотой мира, слагающейся из умеющих чувствовать образов ветра, цветов, древес, оказывается важным субъектом «Утра», через лирический субъект и познается Всевышний: «Я чувствие мое с их чувством съеди-няю / Создателя всех благ душевно прославляю, / С благоговеньем чту торжественный сей час, / В который все что зрим в восторг приводит нас» [Волкова 1807, 36]. Во второй части стихотворения (стихи 33-66) происходит смена взгляда. Если предшествующему сфокусированному пытливому взгляду доступно живописное начало природы - глаз выхватывает различные природные явления, объединенные в панораму картинных мест, то теперь повествование организует умственный взгляд, которому доступен переход от настоящего к прошлому, ко времени сотворения мира: «Я в мыслях углубясь тотчас воспоминаю, / Ив сердце и в уме то время представляю, / В которое Творец вселенну созидал» [Волкова 1807, 36]. Средством организации повествования во второй части стихотворения становится умозрение - то внутреннее зрение, с помощью которого постигается божественная сущность мира. Здесь заметна перекличка с размышлениями современника А.А. Волковой митрополита Платона (Левшина). Митрополит Платон, используя яркие визуальные образы, усматривает доказательство бытия Бога прежде всего как Творца всего сущего: «Мир сей есть наподобие театра, славу Божию нам представляющую; наподобие книги Создателя своего проповедующей; наподобие зеркала, в котором усматриваем ясные премудрости Божия изображения» [Платон (Левшин) 1780, 4]. Мир земной у А.А. Волковой есть доказательство бытия Всевышнего: «Когда велению Всевышнего внимая / И вид и бытие мгновенно принимая / Из праха бренного восстала к жизни тварь, / Которой сущность дал един природы Царь» [Волкова 1807, 36]. Теперь поэтесса представляет величественную картину мироздания уже с явными отсылками к Г.Р. Державину, проявившимися в обилии символико-аллегорических образов, которые составляют хвалу Божией премудрости и величия: Царь Небесный на троне со скипетром управляет вселенной, в Его руке - судьбы народов: «Тот, скипетр коего вселенной управляет, / Громады огненны стремит и
обращает; / Тот, коим движутся и чувствуют сердца, / И коего во век не будет дней конца» [Волкова 1807, 36]. В то же время державинская классицистическая формула самопознания «Я Царь - я раб - я червь - я Бог!», в «Утре» А.А. Волковой заменена умалительным восклицанием («Пади перед Творцом, пади, душа моя!» [Волкова 1807, 36]), более созвучным с предромантиком К.Н. Батюшковым: «Смиряюсь пред Тобой. / Тебя - тварь бренная еще не понимаю, / Но что Ты милостив, велик, - теперь то знаю!» («Бог» (1803) [Батюшков 1934, 190]). В стихотворении А.А. Волковой чувствуется отход от «согласования веры и знания» [Есаулов 2016, 58], характерного для последней трети русского XVIII в., само постижение Бога происходит не в разуме, а скорее в религиозной интуиции, которой подчинено зрение, одномоментно рождающее ассоциацию утреннего торжества природы с бытием Божием: «Сему подобие мне утро представляет: / Как благотворный Феб природу пробуждает, / Когда приятный сей питает чувства час, / Как птичек меж кустов я слышу милый глас, / Когда цветут цветы, росные капли блещут, / И быстрые ручьи в брега струями плещут» [Волкова 1807, 35]. В чуде, коим и является красота Божьих творений, усматривается доказательство Величества Творца, по существу, А.А. Волкова передает догмат читаемого утром «Символа веры»: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым» [Молитвослов 2015, 14]. В своем тексте Волкова открывает «читателям чистый источник жизни и вдохновения - преображённую одухотворённую природу» [Киселева 2011, 78].
Созерцание картин природы у Г.Р. Державина заканчивается возвышенным утверждением: «“Все дело рук Твоих!” - вскричал во умиленье / И арфу в восхищенье / Прияв, благоговенья ноли» [Державин 1864-1871, II, 321]. Постигнув Истину, мудрец в державинском «Утре» провозглашает хвалу Божьей Премудрости: «Ударил по струнам - и от холма с вершин / Как искр струн в дол быстро покатились, / далеко звуки разгласись; / Воспел он Богу гимн» [Державин 1864-1871, II, 321]. Рассматривая природу вокруг, мудрец достигает высшую цель - богопознание, обретение высшей мудрости передано поэтом в ярком зрительном образе: «Но лишь с небес, сквозь дуба свод листвяный / Проникнув, на него пал свет багряный, / Брада сребристая, чело / Зардевшись, как солнце, расцвело» [Державин 1864-1871, II, 321]. Озаренное светом лицо мудреца становится своеобразной метафорой духовного преображения, избранничества. У А.А. Волковой финал стихотворения иной. Глубоко личный характер приобретает высказанная в стихотворении мысль о богопознании через смирение. Размышляя о физической немощи - об утрате зрения, что образно представлено в метафоре «черный мрак» («По радостям одним катилась жизнь моя, / Печалей черный мрак не окружал меня» [Волкова 1807, 37]), А.А. Волкова говорит о бренности человеческого бытия, истинность знания человека ею усматривается в «постижении милости Всевышнего, его Благой Воли» [Аношкина 2011, 32]. Смещая описательный регистр от внешнего мира к миру внутреннему, поэтесса отказывается от традиционной для класси- цизма идеи утверждения человека и привносит в поэтику утреннего размышления «рефлексию, которая, будучи включенной в религиозно-философский контекст, дает возможность понимания сущего» [Киселева 2010, 96].
Осмысление гносеологической функции зрения в сопряжении с умом человека, утверждение «связи зрения с идеалами духовно-нравственного порядка» [Лазареску 2019, 313] позволяет заключить, чтоуМ.Н. Муравьева и Г.Р. Державина посредством зримого постижения природы утверждается разум Божественного происхождения как высшая человеческая ценность, тогда как у А.А. Волковой итогом размышлений становится обостренное осознание ограниченности разума, ценность же человека видится в смиренном приятии Божьей воли.
На рубеже XVIII XIX вв. в русской поэзии создается «пластический живописный образ внешнего мира» [Киселева, Поташова 2018, 41], окончательно утверждается идея соотнесенности физического зрения и зрения как явления высшего порядка, и, как следствие, на этот период приходится становление и развитие в поэзии нового вектора в осмыслении зрения. Возможность видеть рассматривается теперь как данный человеку путь постижения мира.
Список литературы Становление поэтики зрительного в онтологической поэзии рубежа XVIII-XIX веков (А.Н. Муравьев -Г.Р. Державин - А.А. Волкова)
- Аверинцев С.С. Поэзия Державина // Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII - начало XIX в.). М.: Языки русской культуры, 2000. С. 763-770.
- Алпатова Т.А., Киселева И.А. Человек - идеал - общество: проблемы аксиологии литературы // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2010. № 2. С. 136-141.
- Аношкина-Касаткина В.Н. Православные основы русской литературы XIX века. М.: Пашков дом, 2011.
- Батюшков К. Н. Сочинения: в 3 т. Т. 1. М.; Л.: Academia, 1934.
- Быстров Н.Л. Об онтологическом статусе слова в поэзии Мандельштама // Известия Уральского государственного университета. 2004. № 33. С. 201-211.
- Державин Г.Р. Сочинения: в 6 т. СПб.: Императорская академия наук, 18641871.
- Дидро Д. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1986.
- Волкова А.А. Стихотворения. СПб.: Морская типография, 1807.
- Есаулов И.А. Ода Г.Р. Державина «Богъ»: новое понимание // Проблемы исторической поэтики. 2016. № 14. С. 45-67.
- Киселева И.А. Изучение творчества М.Ю. Лермонтова как религиозно-философской системы: проблемы методологии // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2010. № 4. С. 95100.
- Киселева И. А. О смысловой цельности дефинитивного текста поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» (1839) // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 4. С. 91-106.
- Киселева И.А. Онтология стихии в художественном мире М.Ю. Лермонтова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2011. № 4. С. 74-78.
- Киселева И.А., Поташова К.А. Семантика и поэтика русского костюма в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина // Проблемы исторической поэтики. 2018. Т. 16. № 2. С. 36-48.
- Лазареску О.Г. Традиция «духовного зрения» в русской литературе XVIII в. // Литература древней Руси. Материалы Х Всероссийской конференции «древнерусская литература и ее традиции в литературе Нового времени», посвященной памяти профессора Н.И. Прокофьева. г. Москва, 6-7 декабря 2018. М.: МПГУ, 2019. С. 307-319.
- Ларец мудрости духовной: Поучения святых отцов и подвижников благочестия. Минск: Свято-Елисаветинский монастырь, 2008.
- Ломоносов М.В. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1986.
- Молитвослов на церковнославянском и русском языках. М.: Благовест, 2015.
- Муравьев М.Н. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1967.
- Платон (Левшин), митрополит. Православное учение, или сокращенное христианское богословие для употребления Его Императорского высочества, пре-светлейшего всероссийского наследника, благоверного государя, цесаревича и Великого князя Павла Петровича. М.: Синодальная типография, 1780.
- Поташова К.А. Цветовая визуализация художественного образа как особенность творческого метода Г.Р. Державина // Научный диалог. 2019. № 11. С. 199-214.
- Поташова К.А. Влияние живописи на эстетический идеал русской литературы первой трети XIX века (А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов): дис. ... к. фи-лол. н.: 10.01.01. М., 2016.
- Псалтирь на церковнославянском и русском языках. М.: Духовное преображение, 2017.
- Топоров В.Н. Из истории русской литературы. Т. 2. Кн. 2. М.: Языки славянской культуры, 2003.
- Торияма Ю. Мотив зрения у М.Н. Муравьева и А.Н. Радищева в контексте европейского просвещения // Новый филологический вестник. 2006. № 1 (2). С. 37-46.
- 25 Эпштейн М.Н. Природа, мир, тайник вселенной. Система пейзажных образов в русской поэзии. М.: Высшая школа, 1990.
- Эткинд Е. Две дилогии Державина // Gavriil Derzhavin (1743-1816) / Ed. Et-kind E., Elnitsky S Northfield; Vermont: The Russian School of Norwich University, 1995. P. 234-256.