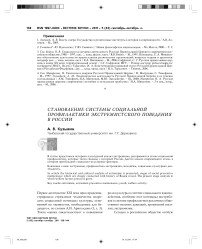Становление системы социальной профилактики экстремистского поведения в России
Автор: Кузьмин Алексей Владимирович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Социально-культурная деятельность
Статья в выпуске: 5 (43), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен историко-культурный анализ экстремизма, раскрываются этапы социальной профилактики, которые тесно связаны с историей России. Дается анализ современного этапа, в котором преобладают социально-культурные факторы.
Экстремизм, профилактика экстремизма, молодёжь, социально-культурная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/14490079
IDR: 14490079
Текст научной статьи Становление системы социальной профилактики экстремистского поведения в России
Первое десятилетие ХХI века ярко продемонстрировало стремление человечества возродить социальный потенциал культуры, основанной на «ценностях, необходимых для будущего», по словам А.И. Арнольдова (1, с. 3). Такая оценка свидетельствует о повышении роли культуры в системе социального взаимодействия, особенно этот потенциал востребован в системе профилактики различных общественно опасных девиаций, проявлений насилия, экстремизма.
Сегодня в российском обществе особую
1997-0803 ВЕСТНИК МГУКИ
5 (43)сентябрь-октябрь 2011 138-144
опасность представляют такие исторически сложившиеся черты экстремизма, как абсолютизация насильственных, неправовых методов политической борьбы, характеризующихся действиями, направленными на насильственное изменение конституционного строя, посягательство на суверенитет государства, публичные призывы к совершению противоправных действий в политических, экономических, этнических и иных целях. Понятно, что профилактика экстремистского поведения должна полно учитывать историко-культурные особенности этого явления, при этом сама она может выступать самостоятельным объектом научного исследования.
В историко-культурном контексте профилактика экстремистского поведения может быть рассмотрена как с позиции того, что культура и история народа нам даёт в качестве основы для профилактики, так и с позиции, какова история деятельности, обеспечивающей профилактику экстремистского поведения.
Важно отметить, что каждое общество обязано предоставлять своим гражданам максимально возможную защиту от агрессии и насилия. Социально-культурный анализ показывает, что в конечном счёте агрессивное поведение изменяется прежде всего на личностном уровне, но и социальные нормы и общественные мероприятия создают особое культурное поле, способное снизить масштабы агрессии, демонстрируемой отдельными индивидами или отдельными личностями.
В современной научной литературе экстремизм в его широком значении определяется как идеология, предусматривающая: принудительное распространение её принципов; нетерпимость к оппонентам, отрицание инакомыслия; попытки идеологического обоснования применения насилия по отношению к любым лицам, не разделяющим убеждения экстремистов; апелляция к каким-либо известным религиозным или идеологическим учениям с претензиями на их истинное толкование и в то же время фактическое отрицание многих положений этих толкований; доминирова- ние эмоциональных способов воздействия на сознание людей в процессе пропаганды идеологии экстремизма, обращение к чувствам людей, а не к разуму; создание харизматического образа лидера экстремистского движения, стремление представить его непогрешимым.
Все эти признаки имеют внутреннюю связь и тесно взаимодействуют друг с другом (4, с. 30–31).
Проблемы, связанные с пониманием сущности экстремизма, содержанием и особенностями противодействия этому деструктивному явлению в России и за её пределами, привлекают внимание многих отечественных и зарубежных правоведов, политологов, философов, историков.
На протяжении XIX–XX веков с разной степенью интенсивности проблема экстремизма была в поле внимания учёных. Специфику и направленность революционного экстремизма в России обстоятельно изучали такие представители отечественной правовой и философской мысли, как И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, П.И. Новгородцев, Г.В. Плеханов, К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров, М.Н. Катков и др.
Если «история – не учительница, а надзирательница, наставница жизни, она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков» (В.О. Ключевский), то необходимо понять какие уроки «не усвоило» российское общество в борьбе с экстремизмом, если в начале нового столетия проблема экстремизма вновь стала актуальной. Экстремизм как социально-политический феномен представляет собой совокупность различных крайних форм политической борьбы, и одной из таких форм является терроризм, ставший реальной угрозой для нашего общества.
В истории экстремизма в России выделяются два крупных периода: первый период связан с политическим экстремизмом и терроризмом конца XIX – начала XX века, а второй период – с национально-религиозным экстремизмом, получившим распространение в конце XX – начале XXI века.
Эти периоды хоть и разделены во време- ни (их разделяет полоса советской эпохи, которая выработала достаточно сильный социальный порядок, не допускающий экстремистских проявлений), но сущностно связаны между собой.
Первый период оставил отпечаток на социально-политических процессах Российской империи, которые и привели к революционному перевороту, и опосредованно повлиял на дальнейшую судьбу страны, во многом предопределив черты второго этапа, в котором главенствуют идеи национально-религиозного экстремизма.
При этом мы отмечаем, что первый период получил в советской историографии и общественно-политической литературе однобокое освещение, при котором выделялась прогрессивная сущность политического терроризма, его «обновляющая» роль в общественном развитии. Террор рассматривался как инструмент освободительного движения, а поэтому получал оправдание. Активные его приверженцы, как правило, окружались ореолом мучеников и страдальцев. В честь их назывались площади и улицы городов, станции метрополитена, возводились многочисленные памятники. От таких подходов наша публицистика, а иногда и серьёзные исследователи полностью не освободились и в постсоветский период.
Революционный экстремизм в России конца XIX – начала XX века сформировался как социальное явление, отразившее социально-политическую структуру, менталитет и исторические традиции.
Экстремизм получил распространение на фоне углубляющегося конфликта и противостояния между самодержавным строем и радикальными оппозиционными слоями общества.
Исторические исследования показывают, что начатый с реформ 1860-х годов процесс перехода к конституционной монархии оказался нерешительным и замедленным, провоцируя общественное недовольство. Ряд непродуманных действий, стесняющих свободу университетской жизни, вызывали вспышки сту- денческих волнений. Вместо компромиссных форм взаимодействия укоренялись жёсткие, антагонистические формы противостояния и борьбы.
В такой обстановке, не имея других механизмов влияния на судьбу страны, оппозиционные силы стали чаще прибегать к исключительным, преступным действиям, в том числе к таким, как политический террор. В программных документах многих террористических кружков и сообществ указывалось на применение террора, как ответной меры на репрессии правительства (6, с. 89).
«Условием, которое с исторической необходимостью породило и порождает революционный террор, является в нашей стране бессилие общественного мнения, закона и права», – таков обобщающий вывод П.Б. Струве (7, с. 153), который в современных условиях звучит как предостережение.
Одной из причин распространения экстремизма и терроризма в российском обществе надо считать укоренившийся и поддерживаемый среди населения, особенно среди интеллигенции, нигилистический взгляд на Россию, её социально-политический строй, исторические традиции, культуру, экономику и т.д. Эти настроения нашли отражение в литературе того периода, причём не только художественной, но и публицистической, выполнявшей функцию средств массовой информации. Анализируя идейную направленность русской литературы и её воздействие на общественное сознание, выдающиеся мыслители В.В. Розанов, М.О. Меньшиков, И.Л. Солоневич и др. пришли к заключению о том, что именно она (литература) привела Россию к революции и стала стимулом к популяризации экстремистских идей (см. напр.: Наш современник. – 2000. – №2).
Террористические настроения в условиях абсолютной самодержавной власти подогревались иллюзиями быстрого и сравнительно лёгкого («малой кровью») обновления страны с помощью физического устранения самодержца, его окружения, дестабилизации вместе с этим системы государственного управления.
Это тем более казалось привлекательным на фоне провала «хождения в народ» и развеявшейся мечты о близкой крестьянской революции. Отсюда – ориентация лишь на узкий круг заговорщиков и использование террора как детонатора к революционному возбуждению народа.
Результатом первого периода, выделяемого нами, стала смена общественно-политического строя в России, которая сопровождалась активным применением насилия к населению страны, формированием государственного аппарата, обеспечившего жёсткое репрессивное управление.
Историко-культурный анализ показывает глубокую связь и аналогию современной психологии экстремизма с паттернами революционной экстремистской деятельности, которая на протяжении всего XIX века росла и крепла в Российской империи, а затем выплеснулась в ужасающих формах революционного террора.
Второй период подъёма экстремистских настроений, который приходится на наш дни, также имеет свою специфику.
Социально-политические и социальноэкономические процессы конца XX века привели к большому имущественному расслоению населения, а это, в свою очередь, ведёт к тому, что социум перестаёт функционировать как целостный организм, объединённый общими целями, идеями, ценностями. Нарастает социальная напряжённость, появляются группы, стремящиеся изменить сложившийся порядок, в том числе насильственными методами.
Рассматривая природу и сущность экстремизма, Е.В. Герасименко верно указывает, что социальную базу экстремистских группировок составляют люди, относимые к категории социальных аутсайдеров, не сумевшие адаптироваться к новым условиям жизни (молодёжь, не имеющая образования и достойного уровня жизни, безработные, лица, уволенные по сокращению из Вооружённых сил РФ и других силовых структур) (см.: 3). Кроме этого, некоторые формы экстремизма имеют исторические корни, что, разумеется, никак не служит его оправданию.
Мы согласны с исследователем, что основными причинами экстремизма в той или иной стране являются длительные периоды социально-экономической нестабильности, сопровождающиеся, с одной стороны, социальной дифференциацией граждан, ожесточённой борьбой за власть, растущей преступностью, а с другой – низкой эффективностью работы государственного аппарата и правоохранительных органов, отсутствием надёжных механизмов правовой защиты населения. Все это ведёт к нарастанию попыток разрешения возникающих противоречий и конфликтов силовым путём, причём как со стороны существующей власти, так и оппозиционно настроенных к ней элементов.
Социальная дезорганизация граждан, по мнению многочисленных исследователей, является главной причиной возникновения и распространения экстремизма в современной России.
Рост этнического негативизма стал возрастать уже в последние годы существования СССР. В 1989 году, судя по данным ВЦИОМ, признаки открытой ксенофобии обнаруживались примерно у 20% населения СССР, агрессивной этнофобии и того меньше – около 6–12%, в зависимости от региона. Однако уже в 1990 году социологические показатели острой этнической антипатии выросли до 35–40%, а в зонах этнических конфликтов охватывали почти все население. В постсоветской России, в условиях революционного слома всей системы советских отношений отмеченные тенденции усилились, хотя кратковременные волны подъёма ксенофобии (1992– 1993 годы и 1994–1996 годы) сменялись сравнительно длительными периодами относительной стабилизации. Лишь после экономического кризиса 1998 года и особенно после серии террористических актов в городах России и начала «второй чеченской войны» рост ксенофобии стал стремительным и неудержимым. Вначале устойчивый рост проявлялся только в динамике античеченских настроений,

а после 2000 года распространился на многие другие разновидности этнических фобий. С этого времени примерно 2/3 респондентов, опрошенных социологами ВЦИОМ, демонстрировали различные формы неприязни к представителям других национальностей (данные приводятся по: 3).
Экстремизм как массовое явление начал распространяться в России в 90-х годах XX века в основном в среде молодёжи из малообеспеченных семей, которая под лозунгами борьбы за «чистоту нации», «освобождение русского народа» и т.д. объединялась (обычно по территориальному принципу) в группы, каждая из которых насчитывала от 7 до 15 человек. Чаще подобные группировки занимались избиением представителей иных национальностей, проживающих рядом с ними, а также мелким хулиганством и вандализмом.
В начале второго периода экстремизм в России носил стихийный характер, проявляющийся часто в борьбе не столько «за», сколько «против», так сказать в виде протеста, отчаяния, ненависти, утраты веры в незыблемость существующих порядков.
Постперестроечный период оказался весьма сложным этапом для молодой демократической России. Вся страна была занята проблемами гораздо более глобальными, нежели дела молодёжи. Передел сфер влияния в преступном мире, финансовые махинации, коррупция, массовая алкоголизация и наркомания, безработица, кровопролитная чеченская война – все это способствовало тому, что, пользуясь своей безнаказанностью, эти молодёжные группировки взрослели, приобретали опыт, налаживали связи, привлекали новые кадры.
Слабость и просчёты государственной власти в России явились факторами, способствующими возникновению и развитию массового террора в Чечне в 1990-е годы. В Чечне начался настоящий разгул беззакония: из республики были вытеснены части федеральной армии, боевики отбирали у солдат оружие, захватывали склады. Начали создаваться «свои» государственные структуры и воинс- кие формирования; население перестало получать социальные пособия и пенсии; школы переоборудовались под военные гарнизоны и училища; в разных городах России появились беженцы из Чечни. На Северном Кавказе сформировалась неблагоприятная социальная база, на которой экстремистская и террористическая деятельность плотно слились с национально-религиозными идеями, преимущественно фундаменталистского толка. Решение социальных, национально-конфессиональных, социально-культурных и других проблем населения Северного Кавказа является основой для снижения уровня напряжённости в регионе и, очевидно, ликвидации социальной базы экстремизма и терроризма.
Оценивая второй период мы отмечаем, что изначально роль и значение экстремизма оказались недооценёнными российским правительством, органами охраны правопорядка, местными сообществами, что во многом способствовало появлению целой серии трагических событий последнего времени, участниками и жертвами которых стали многие люди.
Таким образом, причины экстремисткой деятельности, на наш взгляд, кроются в социально-политических, социально-экономических и социально-культурных процессах, происходивших в России на протяжении нескольких столетий и с особенной силой проявившихся на рубеже XX–XXI веков.
Оценивая же историко-культурную составляющую российского экстремизма, следует остановиться на оценке причин большевистского переворота. Современные исследователи видят в этой русской трагедии разные причины.
«О причинах российской национальной катастрофы семнадцатого года, о том, почему почти без выстрела рухнула трёхсотлетняя империя Романовых, а вслед за нею, уступив место большевистской диктатуре, и новорождённая Февральская буржуазная республика, написана без преувеличения библиотека – на всех языках. Но как-то так случилось, что вся эта мировая историография вертится, как вокруг оси, около одной и той же старой схе- мы, предложенной ещё в романе Достоевского “Бесы”. Согласно ей, как помнит читатель, непосредственные исполнители разрушения России, “бесы”, заимствуют свои “красные” поджигательские идеи с Запада – через посредство “русских европейцев”, либералов-западников» (9, с. 16). Эта идея в разных вариантах входит в современное общественное сознание. Например, А.И. Солженицын в «Красном колесе» старательно подчёркивал роль «чёрного вихря с Запада» и дата начала русской катастрофы им отодвинута к февралю 1917, то есть к моменту падения монархии и торжества западников.
Сегодня предпринимаются попытки уравновесить имперско-теократическую и либеральную линию в русской истории, за счёт переосмысления масштабов и значения последней. Такого рода концепции выдвигает, в частности, А.Л. Янов (от Ивана III к конституции Михаила Салтыкова, далее к верховникам и декабристам и так далее). «Однако вялый пунктир либеральных поползновений, объяснимых сначала отголосками раннесредневекового синкрезиса, а затем влиянием той же самой Европы (ничего удивительного – с кем воюешь, у того и учишься) вряд ли может быть назван в полном смысле линией. Линии, если не лукавить, не было. И здесь даже нет необходимости затевать споры по конкретным пунктам, например, о том, что если в феномене декабристов и можно говорить о какой-либо традиции или линии, то это, скорее, традиция гвардейских дворцовых переворотов и т.д.», – пишет российский культуролог А.А. Пелипен-ко: «Достаточно задать один простой вопрос – почему в нашей истории деспотическая линия всегда побеждала либеральную? Никакими частными историческими причинами этого не объяснить, а свести это все к одной большой случайности…» (5, с. 93).
Рост экстремистский настроений в российском обществе на протяжении истории последних двух веков мы считаем ответом на усиление или, мягче, на изменение роли каждой из выделенных тенденций – имперско-теократической и либеральной.
Неоправданное «выпячивание» только внешнего влияния как проявления либеральной линии – это одна из наиболее распространённых мифологем в оценке современных экстремистских проявлений, в которых достаточно часто винят внешних агентов, эмиссаров и т.п. Не только внешнее воздействие повинно в широком распространении агрессивности в российском обществе, особенно в молодёжной среде. Исторический экскурс показывает, что причины этого явления более сложны и имеют комплексную природу.
Обострение межнациональных конфликтов, усиление тенденций проявления ксенофобии – животрепещущие проблемы современной России. Сложная социально-экономическая обстановка, геополитические изменения и значительные миграционные потоки непосредственно влияют на общественное мнение в области межэтнических отношений.
Повышенную опасность представляют такие исторически сложившиеся черты экстремизма, как абсолютизация насильственных, неправовых методов политической борьбы, характеризующихся действиями, направленными на насильственное изменение конституционного строя, посягательство на суверенитет государства, публичные призывы к совершению противоправных действий в политических, экономических, этнических и иных целях.
При этом отечественные политические элиты «все более и более убеждаются в принципиальной невозможности противодействия этим и иным экстремистским практикам в рамках классической либерально-демократической парадигмы, реализация принципов которой привела к ощутимому ослаблению институциональных субъектов антиэкстремист-ской деятельности в стране, недопустимому искажению их основных функций (правоохранительных структур, органов государственной и муниципальной власти, средств массовой информации и др.)» (2, с. 4).
Сама «природа экстремизма зиждется либо на стремлении уничтожить существующую систему государственно-правовых и об-
щественных отношений, либо, наоборот, на стремлении их сохранить в неизменном виде» (2, с. 3), но в практическом плане ясно, что чаще всего эти виды экстремизма весьма тесно переплетаются, обусловливают существование друг друга. Усиление негативного влияния массовой культуры, которое приводит к росту числа адептов экстремистского мировоззрения, – одна из наиболее опасных тенденций современности. И формирование социальнокультурной системы профилактики распространения экстремизма и терроризма – это одна из самых актуальных задач российского общества. История профилактической работы ещё только создаётся и, в отличие от самого экстремизма как социального явления, будет написана не скоро, ибо в данном случае речь идёт о формировании особого состояния культуры многонационального российского общества, которая способна дать отпор идеологии насилия и жестокости.
Создать такую культуру сегодня весьма не просто, так как «серьёзно усиливается экспансия антигуманистических явлений массовой коммерческой культуры. На смену и народной культуре, и высокой классической культуре настойчиво и агрессивно выступает “массовая культура”, подминающая под себя многие сферы духовной жизни. Культура постепенно становится распространителем банкротства высоких моральных ценностей. Коммерциализация сегодня стала основной движущей силой массовой художественной культуры. Коммерциализация общественной и духовной жизни страны, образования и культуры чревата для общества смертельной опасностью, деградацией человека, угасанием высоких духовных и моральных ценностей» (1, с. 38).
Противостоять этой деградации может только общество, основанное на гражданском согласии, способное противопоставить ценностям насилия идеологию, основанную на высоких идеалах гуманизма.