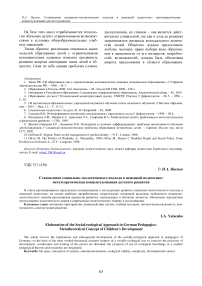Становление социально-экологического подхода в немецкой педагогике: метатеоретическая концептуализация детского развития
Автор: Яценко Инна Александровна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Теория, история и зарубежный опыт образования
Статья в выпуске: 1.1, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются предпосылки возникновения и последующее развитие социально-экологического подхода в немецкой педагогике; на основе наиболее проработанных теоретических концепций выделены особенности социальноэкологического способа рассмотрения процессов развития, социализации и обучения личности; обозначены перспективы использования экологического знания в современных педагогических теориях и исследованиях.
Жизненное пространство, взаимодействие систем, учебная ситуация, экологическая валидность, комплексность, контекстуация развития
Короткий адрес: https://sciup.org/148180594
IDR: 148180594 | УДК: 371
Текст научной статьи Становление социально-экологического подхода в немецкой педагогике: метатеоретическая концептуализация детского развития
Процесс взросления современного ребенка происходит в эпоху глобализации в обществе, характеризующемся высокой комплексностью и наличием множества измерений, культурным плюрализмом и свободой, экспонентным увеличением новых знаний и утратой абсолютных ценностей. Общественные изменения последних десятилетий носят противоречивый характер, оказывают неоднозначное влияние на развитие детей и подростков и являются вызовом для системы образования [1, с. 10] .
Социально-экологический подход, получивший интенсивное развитие в немецкой педагогике последней четверти двадцатого столетия, ориентирующийся, с одной стороны, на отдельного человека как единичное, целостное и автономное существо, а с другой стороны, на жизненные взаимосвязи, их многообразие и противоречивость, в значительной степени сообразуется с задачей педагогической поддержки ребенка в осмысленном выстраивании собственного бытия на основе имеющихся индивидуальных условий и во взаимодействии с другими людьми, окружающей его средой. Концентрируя в себе знания из разных научных областей, данный подход инициировал особое методологическое расширение в направлении контекстуации процессов развития и послужил импульсом для разработки научно-педагогических теорий, стратегий образовательного планирования, создания особых дидактических моделей, диагностических практик. Потенциал данного теоретического подхода в отечественной педагогике до настоящего времени не подвергся рефлексивному изучению. В этой связи целесообразным представляется рассмотрение источников возникновения и современного состояния социально-экологического подхода в немецкой педагогике, а также его базовых положений, значительно расширяющих границы педагогической деятельности.
Понятие «экология» (от греч. oikos – дом, logos – учение) впервые использовал зоолог Эрнст Геккель в 1866 г. для обозначения науки о взаимоотношениях между организмами: «…под экологией мы понимаем целостную науку об отношениях организма с окружающим его внешним миром, при этом мы необходимо предполагаем все условия его экзистенции. Они могут быть как органической, так и неорганической природы»1.
В формирование смысловой структуры понятия существенный вклад внес также немецкий биолог Якоб фон Эйкскулл, обративший внимание на феномен «отношения тела к окружающему его миру». В современных исследованиях экологической направленности прослеживается эксплицитно либо имплицитно сделанное им различение между окружением как одновременно объективно и субъективно существующей данностью:
– окружающей средой как результатом селекционного процесса, осуществляемого организмом, который человек может осознавать и на который он может влиять (Wirkwelt);
– окружающей средой как внутренним миром, который формируется в результате сочетания различных влияний окружающей внешней среды с последующей переработкой их в нервной системе (Merkwelt).
В 20-е гг. XX в. в результате исследований представителей чикагской социологической школы – Р. Парка, Э. Берджеса, Р. Макензи – выделились контуры новой концепции человеческой экологии. Рассматривая город как некую экологическую целостность, ученые анализировали происходящие в ходе его развития процессы социально-пространственной дифференциации, способствовавшие развитию специфической структуры населения. В результате анализа были выделены социальные пространства – части города (позднее они были обозначены как общинные типы), имеющие границы, различающиеся между собой в результате специфических форм использования данных пространств (эксплуатации, выгоды), специфических структур населения, репрезентирующих определенные формы социального поведения. Таким образом, в рамках социально-экологического рассмотрения особую значимость имеет не принадлежность к определенному социальному слою, а жизнедеятельность в социальных пространствах, определяющих развитие и закрепление норм, ценностей и способов деятельности.
Большое влияние на дальнейшее развитие экологической рефлексии в социальных науках оказали исследования германо-американского психолога К. Левина. В разработанной им психологической экологии он различил внешне за-
1 Цит. по кн.: Werning, R. Sonderpädagogik: Lernen, Ver-halten, Sprache, Bewegung und Wahrnehmung / von Rolf Wer-ning.... — München; Wien: Oldenbourg, 2002. – S. 65.
данное географическое пространство и жизненное (психологическое) пространство, обнаруживающее себя опосредованно через высказывания и поведение людей. Вначале психолог должен изучить непсихологические факты с целью установить их значение для пограничных условий жизни человека или группы. Только после того, как данные условия станут известными, можно приступать к психологическому изучению тех фактов, которые определяют поведение группы или индивида в конкретной ситуации [2, с. 206] .
К. Левин предположил, что феномены психологического порядка невозможно полностью объяснить с помощью характеристик физического пространства, и указал на необходимость рассмотрения личности не изолированно, но в окружении ее актуального жизненного или «психологического» пространства, которое автор также обозначает как психологическое поле. Для объяснения человеческого поведения в его соотнесенности с имеющимся полем необходимо определить геометрию пространства – психологические точки как координаты личности в пространстве ее отношения к цели деятельности.
Изучив особенности взаимосвязей, складывающихся между человеком и окружающей средой, К. Левин представил в разработанной им теории поля первую обширную систему правил, при помощи которой эмпирические исследования вышли за пределы лабораторий и стало возможным экологическое социальное исследование. Одновременно данная система правил стала продуктивной для формирования теорий в области психологии, социологии и педагогики. Благодаря исследованиям К. Левина понятие поля было также привнесено в педагогику и получило впоследствии широкую теоретическую интерпретацию в работах немецких ученых Ф. Виннефель-да (1957), К. Молленхауэра (1972) и др.
Последователями К. Левина выступили американские психологи среднезападной психологической школы Р. Баркер и Г. Райт. В своих исследовательских работах Р. Баркер заменяет введенное К. Левиным понятие «психологической экологии» на понятие «экологическая психология». Центральным предметом ее изучения является социализация человека во взаимосвязи с общественными условями и культурной средой.
Р. Баркер различает психологическое и экологическое пространство. Его подход нацелен на экологическое пространство – так называемый «доперцептивный контекст поведения» [3, с. 1]. При этом он оставляет без внимания «субъективный аспект», «психологическое окружение», выделенное Левиным. В экологиче- ском пространстве Р. Баркер и Г. Райт выделяют особые единицы «поведение-расположение», включающие физическую и социальную среду, а также соответствующее данной среде поведение. В последующем данные единицы они обозначают как «экстраиндивидуальные экологоповеденческие (экологобихевиоральные) единицы», или «поведенческий сеттинг»: «Поведенческий сеттинг – это конкретная единица экологического окружения, которая обуславливает определенное поведение людей» [4, с. 278].
Р. Баркер и его коллеги разработали достаточно точную и подробную базисную структуру данных объединений. Они обозначили их репродуктивную силу, выделив тенденцию гомеостаза. Вместе с тем рассматриваемый подход не позволяет в полной мере объяснить, когда и какая динамика возникает (например, в случае поведения, не соответствующего нормам сеттинга), почему в одном сеттинге поведение строго контролируется его членами, в то время как в другом подобном сеттинге его члены проявляют высокую степень толерантности. Для педагогической сферы данный дефицит явился серьезным недостатком и определил необходимость дальнейшей проработки рассматриваемого подхода. Именно в отношении данной недостаточности немецкими учеными впоследствии была инициирована критическая дискуссия. В дальнейшем программа экологической психологии, оформленная американскими учеными, в конце 70-х гг. преобразовалась в обширное и многостороннее исследовательское направление в западноевропейской психологии (К.Ф. Грауман, Г. Дресман, Г. Камински и др.).
Как отмечено выше, последующее развитие экологического подхода в гуманитарных науках связано с критическим рассмотрением его способности отражать комплексность и многомерность человеческих отношений. Так, немецкий ученый Р. Фатке указывает, что «… экологический подход ограничивается вопросом, как влияют определенные институциональные условия на поведение человека. За рамками рассмотрения остаются конкретные интеракции между людьми, которые осуществляются в рамках определенной роли и поэтому репрезентируют различный статус внутри конкретной институциональной системы. Кроме того, процессы личностного развития и поведения детерминированы, помимо факторов принадлежности к определенной части системы, репрезентации определенных статусных характеристик, также характерными для данных людей физическими диспозициями, их биографиями…» [5, с. 61].
Как методологическую ошибку автор рассматривает использование в экологически ориентированных исследованиях моделей, перенесенных из биологии и социологии, которые маскируют возможность человека к самостоятельной, осознанной деятельности, его активность и способность к рефлексии. Они предполагают одностороннюю детерминистскую интерпретацию.
Социально- и психолого-экологические подходы, не имевшие поначалу выраженного отношения к проблемам развития и становления человека, развивавшиеся дифференцированно, получили интенсивную проработку и объединение в исследованиях американского ученого У. Бронфенбреннера.
У. Бронфенбреннер подверг критике методы, при помощи которых исследовались процессы социализации, а также методы, используемые в психологии развития, характеризуя их как замкнутые на конкретном научном подходе и недостаточно релевантные для повседневных (жизненных) ситуаций: «… можно сказать, что многое в психологии развития, изучающей особое поведение детей, происходит в отчужденных, стандартных ситуациях с чужими взрослыми в максимально короткие сроки, а процессы, фиксируемые при этом исследователями, являются эквивалентными, т.е. аналогичными друг другу» [6, с. 513]. Одновременно с критикой он предпринял попытку проведения сравнительного социального исследования с более серьезным притязанием на валидность, используя при этом другие методические подходы. На этой основе он развил подвижную, предполагающую последовательное расширение систему, которую целостно представил в работе «Экология человеческого развития». Таким образом возникла концепция, характеризующаяся «экологической валидностью», в основе которой лежит учет как ключевых факторов «феноменологического уровня» и «постулата деятельности» [7].
Согласно требованиям теории деятельности исследователь должен быть включен в состав эксперимента как новый в деятельностном пространстве компонент при планировании, проведении и интерпретации результатов. В результате критики чрезмерной редукции комплексности при проведении лабораторных исследований в качестве базового образца Бронфенбреннер выбрал переплетенные единства, которые он, основываясь на деятельностных системах Т. Парсонса, определил как вложенные (раскладывающиеся) деятельностные системы.
Процессы деятельности, обучения протекают не в объективной ситуации, заданной кем- либо извне (например учебное занятие), они разворачиваются как субъективно переживаемые индивидуальные жизненно-учебные ситуации в результате специфического отражения реальности, опосредуемого жизненным опытом, а также сформированными когнитивными структурами индивида. Бронфенбреннер обозначает это как ключевое значение «феноменологического уровня».
Таким образом, психическая система рассматриваемого индивида вводится дополнительно к деятельностным системам. В результате действия процессов отражения действительности посредством ее когнитивной переработки возникает «структурированное жизненное пространство как особая психологическая среда». Данная система со своими многообразными компонентами становится полем условий, которые не только комплексно, но и дифференцированно вступают во взаимодействие с другими компонентами многослойной деятельностной системы. Она в определенном смысле является центром многосоставной системы.
Интенсивная проработка теоретических аспектов взаимосвязи человека и окружающей его природной и социальной среды, а также кризисные явления, обозначившиеся в общественном развитии – урбанизация, загрязнение окружающей среды, исчерпаемость природных ресурсов – способствовали укреплению позиций экологического подхода как ведущего способа мышления, способного гармонизировать отношения человека и природы, позволяющего человеку осмысленно выстраивать собственное бытие на основе процессов антиципации и партиципации.
В американском журнале «American Sociologist» (1978) экологический подход (environmental sociology) дискутировался как новая парадигма (в значении Т. Куна). Все появившиеся в данный период подходы экологической направленности условно были разделены на две группы – «парадигма человеческой исключительности» HEP (Human exceptionalism paradigm) и «новая парадигма окружающей среды» NEP (New environmental paradigm).
В немецкоязычных научных исследованиях вопрос о том, представляет ли экологический способ рассмотрения новую парадигму или является эклектическим, интегрированным подходом, объединившим в себе средовые, деятельностные подходы, теории развития личности, не обсуждался. Однако можно утверждать, что экологический подход однозначно явил собой новую метатеоретическую концепцию как ком- плекс требований, предъявляемых к исследованиям и теориям в социальных науках.
Актуализация эколого-ориентированных исследований и теорий непосредственно в педагогике сопровождалась интенсивными дискуссиями относительно возможности обучения человека знанию, которое он может иметь о себе и своих действиях в соотнесении с актуальными экологическими и социальными условиями. Образовательный доклад Римского клуба «Нет пределов обучению» (1979) обозначил необходимость педагогической рефлексии относительно проблемы общемирового экологического кризиса, при этом обучение через шок и обучения ex post facto в ситуации далеко идущих последствий экологической катастрофы было охарактеризовано как малоэффективное и ограниченное. Немецкий социолог У. Бек в работе «Общество риска», рассматривая последствия чернобыльской аварии, осуществляет антропологическую рефлексию: «Все пребывают в антропологическом шоке от познанной через угрозу «естественной» зависимости цивилизационных форм жизни, упраздняющей все наши понятия о «самодостаточности» и «приватной жизни», о национальности, пространстве и времени [8, с. 8].
Таким образом, центральная проблема науки о воспитании получает расширение – становление человеческого в человеке на фоне всеобщего экологического кризиса – при отсутствии вариантов ее решения. Очевидно, что педагогическая рефлексия не смогла избежать заимствования экологических подходов, развивавшихся в социальных науках и имеющих давние традиции.
Первыми результатами интеграции социально-экологического подхода в педагогику с начала 70-х гг. стали эколого-ориентированные педагогические исследования, которые можно объединить в три группы:
-
- школьные исследования: компоненты школьных построек, классных комнат; школьная среда и поведение учащихся; соотношение школьного и внешкольного жизненного пространства учащихся основной школы (Ю. Зин-некер, Г. Руттер, Р. Фатке, Р. Шмитман);
-
- исследования в пространстве детства. Тематический спектр – от «субсеттингов», развивающихся в группе детского сада, до мира повседневности и освоения окружающего мира детьми в городах;
-
- подростковые исследования, проблематикой которых стали: значение места проживания и образования для проведения свободного времени молодежи; статусное изменение при перехо-
- де из школы в систему профессионального образования у учащихся основных школ в различных районах Баварии; анализ медийной инфраструктуры и ее использования подростками в деревнях, малых и крупных городах в земле Норд-рейн-Вестфален и др. (И. Краус, Р. Типпельт, С. Хюбнер-Функ, Г.У. Мюллер, В. Гайзер, Д. Бааке, А. Сандер).
На уровне концептуального осмысления возможностей экологического подхода для решения актуализированных педагогических задач следует выделить работы немецких педагогов Т. Шульце, Э. Клебера, Д. Бааке.
Концепция экологически ориентирован ной педагогики Т . Шульце
Для того чтобы адекватно отображать комплексность и многомерность отношений между человеком и окружающей средой, экологическая педагогика, согласно Т. Шульце, должна рассматриваться как междисциплинарная [9, с.270]. С одной стороны, она опирается на психологические теории, которые пытаются осмыслить окружающий мир в перспективе самого субъекта и сконцентрированы на анализе развития когнитивных карт или жизненно-пространственных программ деятельности. С другой стороны, социологические теории предоставляют важные знания о различных зонах и системных уровнях объективных условий окружающей среды. Согласно интерпретации Т. Шульце, в педагогическом аспекте данные условия окружающей среды должны обозначаться как «социосфера» и предполагать идеальное сочетание условий окружающего мира, делающие возможным взросление. Понятие социосферы заключает в себе нормативный масштаб, позволяющий проверить состояние и свойства окружающих пространств – насколько они являются социально побуждающими и сообразными развитию взрослеющего человека, способствуют ли осмысленному и сознательному обучению.
С целью педагогизации экологического подхода автор обращается к понятию ситуации, т.к. оно привносит значимость временного аспекта в отношения человека и окружающей среды, а также позволяет учитывать деятельностный принцип. В то время как окружающая среда актуализируется в конкретной ситуации и с учетом определенной деятельности, ее формирование или упорядочение становится первоочередной педагогической задачей и включает в себя обучение и образование. Обучение по Т. Шульце в данном контексте рассматривается как процесс, в котором учащемуся предстоит преодолевать, осваивать новую окружающую среду или ситуацию. Обучение – это комплексный, многосторонний и продолжительный процесс, который направлен на освоение не изолированных учебных предметов, а широких знаниевых областей. На основе результатов, полученных ходе проведенных эколого-ориентированных исследований, Т. Шульце заключает, что воспитание сегодня в большей степени должно разворачиваться вокруг улучшения и культивирования учебной окружающей среды, нежели форсирования эффектов школьного обучения [9, с. 278].
Модель повседневного жизненного мира ребенка Д . Бааке
Д. Бааке был одним из первых ученых, начавших интенсивную тематизацию экологического подхода в педагогической науке. По мнению автора, только экологический способ рассмотрения позволяет целостно охватить всю комплексность взаимовлияний в системе «человек – окружающая среда» в их объективном и субъективном измерениях. Разрабатывая социальноэкологическую теорию для исследования проблем социализации, Д. Бааке указывает на жизненный мир ребенка как необходимый ее фундамент [10, с. 88]. Опираясь на исследования М. Мерло-Понти и А. Шюца, Бааке трансформирует социально-экологический способ рассмотрения в структуру анализа жизненного мира. Результатом стала социально-экологическая модель зонального структурирования повседневного жизненного мира ребенка. От экологического центра как непосредственного социального окружения (семья), в котором происходят интенсивные социальные контакты, данная модель расширяется в направлении к «экологическому ближайшему пространству» как окружению, в котором ребенок выстраивает первые контакты вне семьи – в определенных функциональноспецифических поведенческих сеттингах (двор, соседство, район города, деревня), далее к зоне, выделяемой по функциональному, а не территориальному признаку, – она охватывает жизненные пространства, посещаемые в определенное время и со специфическими целями (школа, плавательный бассейн, производство), и в завершение – к экологической периферии как области окружающего мира, характеризующейся случайными (или разовыми) социальными контактами (летний лагерь, торговый центр, дом родственников).
Автор отмечает, что модель не следует рассматривать статично (как например, определенные зоны становятся открытыми для ребенка в определенном возрасте) – ребенок постигает различные области жизненного мира, включаясь в них систематически. Каждая зона концентрирует в себе различные возможности для проживания ситуаций, приобретения опыта, она также заключает определенные требования (прежде всего к социальным компетенциям), которые ребенок должен преодолевать в процессе освоения ситуаций.
Сравнивая свою концентрическую модель жизненного мира с системными уровнями, выделенными У. Бронфенбреннером, Д. Бааке проводит определенные параллели и указывает на области пересечения. Вместе с тем он однозначно дистанцируется от системно-теоретического подхода как методологической основы для своих исследований и указывает на релевантность феноменологических аксиом для построения социально-экологических теорий.
«“Жизненный мир” – …наиболее точная концепция, т.к. в ней ведущим является не понятие системы или дескриптивная упорядоченность материалов, но конкретные общественные состояния в определенное время и в том виде, в котором они постигаемы для субъекта и который они впоследствии ему придадут….» [10, с. 91].
В целом следует отметить, что феноменологическое обоснование экологических подходов значительно расширяет перспективы его использования в педагогике.
Экологическая педагогика Э . Клебера
Исходной точкой обоснования с экологических позиций базовых педагогических процессов – преподавания, учения – стала тщательная проработка Э. Клебером понятия ситуации. Взаимодействие, происходящее между индивидуумом и окружающей средой, необходимо рассматривать в контексте ситуации, т.к. она объединяет внешнюю и внутреннюю перспективы. Снятие разделения между внутренним планом и внешним делает ситуацию постигаемой и изменяемой. Э. Клебер подверг критике рассмотрение процесса обучения через описание изменений в индивидуальном поведении человека, отражающих протекание скрытых психических процессов в центральной нервной системе человека. В противоположность этому постулируется ситуативный контекст обучения, позволяющий его рассматривать с педагогических позиций: «Учебная ситуация – это совокупность условий, делающих возможным обучение, побуждающих к нему и сопровождающих его» [11, с. 179].
Таким образом, при выявлении причин ус-пешного/неуспешного протекания процесса обучения учащийся становится одной из многих других исследуемых единиц. При этом эффекты обучения рассматриваются как эффекты ситуации, индивидуальные достижения интерпретируются как часть целостного единства внутри-личностных и внеличностных условий.
Варьирующие возможности влияния на совокупность условий данной учебно-обучающей ситуации позволили Э. Клеберу выделить далее внутришкольные, внешкольные и личностные условия обучения и использовать их для масштабного анализа школьной действительности в эколого-ситуативном аспекте.
С целью определить дидактическое и методическое обеспечение экологической педагогики автор анализирует требования к созданию учебного пространства, рассматривая это как значимый аспект деятельности педагога: «…в дополнение к теории обучения – к дидактике – необходима наука о процессе учения, своего рода матетика, предметом которой является создание учебных окружающих пространств, обеспечивающих осознанное учение. Под матетикой мы понимаем предоставление подготовленных дидактических материалов в широчайшем смысле. К данным дидактическим «материалам» относятся: разнообразные ситуации для приобретения опыта с включением конкретных индивидуальных ситуаций из жизни…» [12, с. 35].
Изучение проблематики научно-педагогических исследований, а также теоретических концепций и дидактических моделей, разрабатываемых в современной немецкой педагогике, едва ли обнаружит в явном виде их экологическую направленность. В ряде источников авторы указывают на определенную стагнацию, наблюдае- мую в отношении тематизации контекстов окружающей среды взросления при одновременной диверсификации самих подходов. Однако социально-экологические предпосылки – обращение к повседневности детей, акцентирование взаимовлияния между индивидом и окружающей средой, активности ребенка в освоении окружающей среды и т.д. – можно проследить в развивающихся научных подходах, познавательные усилия которых направлены на изучение шансов развития подрастающего поколения; в терминологическом аппарате педагогики закрепились понятия «перспектива ребенка», «жизненное пространство», «повседневная ситуация» и др.; в современных исследованиях детства наблюдается значительное расширение социально-пространственных показателей, характеризующих жизненную ситуацию детей; регулирование жизненной ситуации детей является целью многих социально-политических решений, принимаемых в последнее десятилетие на федеральном уровне.
Полагаем, что рассмотрение социальноэкологического подхода как исчерпавшей себя объяснительной теории является неправомерным. Трудно переоценить его значение как определенного мыслительного и деятельностного алгоритма для выстраивания и соподчинения фактов в научно-педагогическом исследовании. Данный подход заключает в себе методологическую программу для анализа окружающей среды, без которой сегодня невозможно представить профессиональное обсуждение вопросов педагогического сопровождения развития детей и подростков.