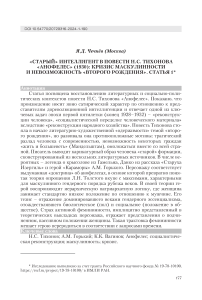«Старый» интеллигент в повести Н.С. Тихонова «Анофелес» (1930): кризис маскулинности и невозможность «второго рождения». Статья 1
Автор: Чечнв Я.Д.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена восстановлению литературных и социально-политических контекстов повести Н.С. Тихонова «Анофелес». Показано, что произведение носит явно сатирический характер по отношению к представителям дореволюционной интеллигенции и отвечает одной из ключевых задач эпохи первой пятилетки (конец 1928-1932) - «реконструкции человека», «социалистической переделке человеческого материала» вследствие «реконструкции народного хозяйства». Повесть Тихонова стояла в начале литературно-художественной «одержимости» темой «второго рождения», но развивала она противоположные мотивы: трагический разлад человека с современностью, невозможность некоторых граждан «жить и большеветь» (Мандельштам), омоложаться вместе со всей страной. Писатель выводит карикатурный образ человека «старой» формации, сконструированный из нескольких литературных источников. В числе вероятных - легенда о крысолове из Гамельна, Данко из рассказа «Старуха Изергиль» и герой «Караморы» А.М. Горького. Персонажу соответствует выдуманная «доктрина» об анофелесах, в основе которой превратно понятая теория опрощения Л.Н. Толстого вкупе с максимами, характерными для маскулинного гендерного порядка рубежа веков. В своей теории герой воспроизводит иерархическую патриархатную логику, где женщина занимает стандартно низкое положение по отношению к мужчине. Его тезис - отражение доминировавшего веками гендерного эссенциализма, отождествлявшего биологическое (пол) и социальное (положение в обществе). Страх активной фемининности, имплицитно представленный в теоретических выкладках персонажа, отражает представления о подчиненном, пассивном положении женщины. Такая трактовка фемининности мешает герою переродиться в соответствии с запросами времени.
Н.с. тихонов, а.м. горький, к.к. вагинов, анофелес, социалистическая реконструкция, маскулинность, кризис
Короткий адрес: https://sciup.org/149145245
IDR: 149145245 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-190
Текст научной статьи «Старый» интеллигент в повести Н.С. Тихонова «Анофелес» (1930): кризис маскулинности и невозможность «второго рождения». Статья 1
Повесть Николая Семеновича Тихонова «Анофелес» вышла отдельной книгой в 1930 г. в «Издательстве писателей в Ленинграде» с рисунками В. Конашевича. Произведение носило явно сатирический характер по отношению к представителям «старой», дореволюционной, интеллигенции и отвечало одной из ключевых задач эпохи первой пятилетки (конец 1928– 1932) – «реконструкции человека», «социалистической переделке человеческого материала» вследствие «реконструкции народного хозяйства». Названные концепты выразились в индустриализации, коллективизации и борьбе с так называемыми «вредителями». Слово «реконструкция» подразумевает постепенный процесс переустройства чего-либо на новых основа- ниях, но на деле в первую пятилетку происходил решительный, даже брутальный слом как политической, так и социокультурной жизни. Впоследствии, на предпоследнем году пятилетки (1931), найдется адекватный термин – перековка, пришедший, как известно, из пенитенциарной практики социальной адаптации заключенных на Беломорско-Балтийском канале.
Политические события эпохи в заретушированном виде нашли отражение в повести Тихонова, где в первую очередь обращает на себя внимание место действия, своего рода метафора урбанистического развития молодого советского государства. Писатель рисует город, возникший на пустом пространстве вокруг градообразующего предприятия – большого холодильника, отвечавшего индустриальной гигантомании страны, бросившей все силы на развитие тяжелой промышленности.
«Глаза его (инженера Поршнева. – Я.Ч.) сразу нашли большие, сизые, похожие на ряд консервных банок, стены холодильника. <…> …и хотя он знал здание наизусть, он не мог сдержать легкого волнения. Леса, охватывавшие часть постройки, казались досадным частоколом. Частокол сдерживал четырехэтажные стены, залитые свежим бетоном <…>. Пробковые листы, достигавшие толщины худощавого человека, как спасательный пояс охватили внутренние камеры. Междустенья были засыпаны вагонами гальки. Споривший с февральскими морозами аммиак должен был гулять в тоннеле по камерным трубам.
К холодильнику подходили темные, острые железнодорожные пути <…>. Воображение Поршнева наполняло холодильник мясом, яйцами, маслом» [Тихонов 1930, 6].
Сам город описан следующим образом: «Город спит. <…> Громада холодильника смотрит одним широким электрическим глазом и множеством узких, как булавочная головка, огоньков. <…> Темные постройки рабочего городка подходят совсем близко. Еще немного – и они раздавят маленькое скопление домов этой затерянной улички (где живет главный герой повести. – Я.Ч.) <…>» [Тихонов 1930, 48].
Противопоставление большой индустриальной жизни («громада холодильника») и маленькой частной, «старорежимной» (домики на затерянной «уличке») напоминает о коллизии 1920-х гг., когда идею поселения-сада вытеснил рабочий поселок [Меерович 2008]. В повести Тихонова преобразования дошли до самых глухих поселений, в том числе до условного городка, где происходит действие. Его «старые» жители проникнуты апокалиптическими настроениями. Главный герой, пожилой учитель географии Кучин, произносит такие слова своему гостю, бывшему купцу Лисицыну: «Я живу в квартале, который в ближайшее время будет беспощадно разрушен. Станция и рабочие дома раздавят наши лачуги. Нам нет спасения. Мы не можем выйти на улицу. Мы же еще не мертвецы, чтобы уйти жить на кладбище» [Тихонов 1930, 56].
Будущее пугает Кучина не потому, что он боится прогресса, а потому что тот идет беспощадно, не считаясь с требованиями старого географа. Представители «нового порядка», надвигающиеся на «старые лачуги», показаны Тихоновым как «автоматоны», поклоняющиеся технике и рациональной организации дела. Сама фамилия главного их представителя – инженера Поршнева – «говорящая»: поршень – одна из основных деталей механизма, отвечающая за ключевые процессы его работы. В глазах обитателей «лачуг» Поршнев олицетворяет демиурга, создающего собственный техномагический мир. Так характеризует его бывший купец Лисицын: «…холодильник громоздит. Холодом всех обнять хочет, чтоб не испортились. Станцию, завод, дома растит ра-бо-чие, чтобы от наших ветхих и следа не осталось. <…> Камни, говорю, он ворочает, нас камнями давит <…>» [Тихонов 1930, 61].
Такими же «технократами» предстают в повести дети, ученики Кучина. Один из них любит автомобили и гвозди, другой – крейсеры, третий – лыжи, четвертый – деньги [Тихонов 1930, 73–75]. На первый взгляд кажется, что лыжи и деньги не соответствуют индустриальной эстетике «новых людей», но если сравнить их жизнь с технологическим аппаратом, в котором они – это детали, то лыжи – своего рода символ, олицетворяющий здоровье тела, ключевого показателя нормальной работы, а деньги – для приобретения еды, «топлива» для тела, и материалов для работы аппарата. Напомним, что Поршнев мечтает о заполнении своего холодильника различными продуктами [Тихонов 1930, 6], следовательно, он строит большую «заправку» для социалистических «биомеханоидов» – сверхлюдей первой пятилетки.
В лице «новых людей», олицетворяющих будущее страны, обитатели «лачуг» столкнулись с серьезным вызовом. Тихонов выводит карикатурный образ дореволюционного интеллигента, который старается, но не может соответствовать эпохе. Отношение автора к герою однозначно негативное: Кучин нужен для показания «ошибок» человека эпохи модерна, главная из которых – трансцендирование себя, условий своего бытия, следствием чего является подвижничество (в значении преследования индивидуальной высокой цели), что идет вразрез с идеологией коллективизма. Тихонов конструирует образ в соответствии с новым качеством языка эпохи социалистической реконструкции, оказавшим значительное влияние на идиостиль многих авторов. Как показала Д.С. Московская на примере А.П. Платонова, реалиями в произведениях «оказываются не исторические имена или события, но запечатленные в слове чужие смысловые обертоны, обрывки чужих идеологем, все то, что опосредованно составило “вещный” фон платоновского текста» [Московская 2019, 240]. Словоупотребление выявляет не «вещи», а отношение писателя к ним, и позволяет продемонстрировать идейное пограничье, в которое вступила страна в реконструктивный период.
Тихоновский Кучин насквозь литературен, он состоит из обрывков чужих цитат и символов западноевропейской и российской литературной традиции, не всегда поддающихся дешифровке. Герой балансирует на грани между траверсированными Мефистофелем, Гамельнским крысоловом и горьковским Данко из рассказа «Старуха Изергиль».
Одна из мифологических основ образа Кучина – западноевропейские представления о Мефистофеле, с которым героя сближает иронически сниженная функция антипода Бога – искушение. В кооперативном ресторане персонаж Тихонова обещает счастливую жизнь под «солнышком» садовнику-немцу (!), предлагая для ее получения заключить договор о спасении, подчеркивая пустячность процедуры: «Если вы пойдете за мной, <…> – я дам вам его (солнышко. – Я.Ч.). Для этого нужна самая маленькая решимость: подписать эту короткую, как заячий хвост, бумажку…» [Тихонов 1930, 24–25] Другая мефистолианская черта – постоянный дым, обволакивающий персонажа. «– Нет, я вижу, вы не так подходите к этому, – с отчаянием сказал Кучин, пуская в волосы мальчиков дым бесконечных своих папирос…»; «Кучин прошелся по комнате, как у себя дома. Клуб дыма сопровождал его»; «– Я прошу меня слушать, – Кучин окутался новым облаком дыма…» [Тихонов 1930, 73, 87, 88] и т.д. Третий штрих к портрету Мефистофеля – амулет костяной обезьяны, подмеченный его сыном на публичном диспуте: «Незначительные детали самые показательные. Вот носит он с собой амулет, или чорт его знает, как его там называют – обезьяну костяную, в нее верит, запомните – обезьяна, подобие человека, ему дороже самого человека» [Тихонов 1930, 38]. В этой связи часто встречающаяся в трудах М. Лютера фраза «Diabolus (est) simia Dei» может быть отнесена к Кучину. Наконец, сам повествователь сравнивает героя с представителем нижнего царства: «…он был дух из ада» [Тихонов 1930, 103].
Одна из литературных основ образа Кучина – средневековая легенда о гамельнском крысолове (дудочнике из Гамельна), получившая обработку во множестве произведений западноевропейских и российских авторов («Крысолов из Гамельна» Л.И. фон Арнима и К. Брентано, «Флейтист из Гаммельна» Р. Браунинга, «Крысолов» И.В. Гёте, «Крысолов» В.Я. Брюсова, «Крысолов» М.И. Цветаевой, «Как дудочка крысолова...» С.Я. Парнок, «Я сердцеед, шутник, игрок...» В.Ф. Ходасевича и мн. др.). В повести Тихонова герой довольно часто повторяет в разговорах различные части сюжета немецкой легенды. Она играет ключевую роль в самоопределении персонажа, в той миссии, которую он себе отвел – спасение городских стариков от преследований со стороны «новых людей» (об этом ниже). «– Дети шли за флейтой через весь город, по переулкам, дальше через мост, в поле, в поле грело солнышко…»; «Есть такая легенда, как один музыкант-флейтист увел из города всех детей, они шли, очарованные его музыкой, все дальше и дальше»; «…а легенда заключается в том, что флейтист игрой на флейте увел из города детей, и они шли все дальше и дальше и вышли на луга на солнышко. Таким точно образом некий человек путем взаимного соглашения может увезти из города всех стариков» [Тихонов 1930, 24, 56, 87]. Кучин мыслит себя как музыканта, способного, подобно Орфею, силой художественного дара спасти жителей неназванного рабочего городка, опуская мрачный финал немецкой легенды. Герой, по-види-мому, не догадывается о своей мефистолианской сущности.
Другим прототипом тихоновского героя является Данко, с которым в повести связана иронически сниженная идея подвижничества. Напомним мотивировку горьковского персонажа, из-за чего он решил пожертвовать собой: «Жили на земле встарину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей <…>. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма <…>. Нужно было уйти из этого леса <…>» [Горький 1949, 353]. С подобными трудностями столкнулся в повести и Кучин. «Иные племена» – это «новые люди», решившие возвести грандиозный холодильник и стереть с лица земли ветхие лачуги.
«Когда настанет день окончательного разрушения наших берлог, когда мои старики захотят твердо распрощаться с дорогими им по воспоминаниям обломками, я встану во главе их и уведу. <…> Я уведу так стариков, конечно, тех, кто желает жить и умереть, освободясь от непонятного и смертельного давления современности, не причиняя никому вреда» [Тихонов 1930, 56]. Выбор пожилых жителей городка для спасения связан с тем, что все остальные, в том числе и дети Кучина, перешли на сторону «завоевателей». В разговоре с Поршневым герой замечает: «Дочь у меня действительно женщина очевидности, сын у меня активная личность, а со мной ни дочери, ни сына – они ведь не мои, они – ваши, они – ваши <…>, – а я одинок и не я один – нас много таких» [Тихонов 1930, 32]. Впоследствии сын публично отрекся от отца на диспуте с характерным названием «Насколько повинны дети в грехах родителей» (сакраментальный ответ на этот вопрос первой пятилетки И. Сталин дал только спустя пять лет): «Он не мой отец, товарищи. Мой отец – Октябрь 1917 года, а он мое условное наказание – вот он что, товарищи, мой показательный процесс!» [Тихонов 1930, 39] Сказанное – один из маркеров эпохи, отражающих самоопределение «поколения детей». Впоследствии, в 1933 г., на первом году второй пятилетки, аналогичную по содержанию фразу зафиксирует в романе «Гарпагониана» Конст. Вагинов в составе песни ленинградской уличной исполнительницы:
Но разве брошу я бездушного, безвольного, Я не раба, я дочь СССР,
Не надо мужа мне такого алкогольного, Но вылечит его, наверно, диспансер [Вагинов 1991, 474].
Упоминание Витькой Кучиным, сыном главного героя повести Тихонова, показательных процессов – тоже деталь эпохи. Напомним, что на первую пятилетку приходится «Шахтинское дело» (1928), «Академическое дело» (1929), суды над так называемыми «Промышленной партией» (1930) и «Союзным бюро меньшевиков» (1931), «Дело краеведов» (1931) и др.
Разлад с современностью, побудивший Кучина-старшего к решительным действиям по спасению себе подобных, происходит от неисполнимости требования эпохи, вложенного рассказчиком в уста инженера Порш-нева: «Сейчас надо жить, многое понимая и даже больше, даже больше, догадываться надо, перерождаться надо…» (курсив наш. – Я.Ч.) [Тихонов 1930, 32]. Сюжет «второго рождения», один из основных сюжетов эпохи «социалистической реконструкции», связан с темой омоложения.
«Быть молодым» к окончанию первой пятилетки требовала сама действительность: в 1932 г. страна справила свое 15-летие. Пафос обновления, омоложения сопровождал вырастающие на глазах заводы и фабрики, дома для пролетариата, культурные объекты. Этому способствовали географические и геологические открытия (точное нанесение на карту объектов Северной Земли, открытие ряда новых островов в Арктике – Ушакова, Шмидта, Визе и др., открытие хребта Ивана Черского в Якутии, системы Корякского нагорья, крупных очагов современного оледенения в горах Северо-Восточной Сибири, пика Коммунизма на Памире, хребта Академии наук; была измерена глубина Байкала и др.). А.М. Горький замечал: «Посмотрите, товарищи, как много за последнее время, за время революционное, <…> как много открыто нами ископаемых, много месторождений железной руды, различных нефтей, углей, различных полезных минералов! Это свидетельствует о том, что в страну пришел новый, молодой, энергичный хозяин и начинает хозяйствовать» [Горький 1953, 12].
«Второе рождение», которое было связано с «особым переживанием открывшейся новизны жизни и именно с таким обновленным восприятием мира» [Вигилянская 2007, 132], переживали и советские писатели, например Б.Л. Пастернак (сборник «Второе рождение») и О.Э. Мандельштам («Сегодня можно снять декалькомани…»). Новаторская повесть «Возвращенная молодость» М.М. Зощенко о борьбе человека за физическое и творческое долголетие, опубликованная в 1933 г., стала центральным событием ленинградской литературной жизни, породила ряд академических дискуссий на различных площадках города и страны [Три стенограммы… 2013, 830], вызвала многочисленные отклики современников, например, Д. Хармса [Кравчук 2022, 52]. На Первом всесоюзном съезде советских писателей (1934) Ю.К. Олеша констатировал: «Мир стал моложе. Появились молодые люди. Я стал зрелым, окрепла мысль, но краски внутри остались те же. Так произошло чудо <…>. Так ко мне вернулась молодость» [Первый Всесоюзный съезд… 1934, 236].
Повесть Тихонова стояла в начале литературно-художественной «одержимости» темой «второго рождения», но развивала она противоположные мотивы: трагический разлад человека с современностью, невозможность некоторых граждан «жить и большеветь» (Мандельштам), омоложаться вместе со всей страной. На другом материале означенный мотив найдет отражение в уже упомянутом нами романе Конст. Вагинова «Гарпагониана», написанном тремя годами позже «Анофелеса» (подробнее см.: [Чечнёв 2021]). В обоих произведениях основной причиной невозможности «второго рождения» является отсутствие либидо у персонажей. Тридцатипятилетний Локонов, герой «Гарпагонианы», страстно желает вернуть свою молодость посредством любви к девушке. Но по неопытности в амурных делах (намек на девственность персонажа), он совершает ряд ошибок, не переходит к действиям (Юленька ждала поцелуй, но не получила) и в конечном итоге отказывается от своей идеи. Кучин Тихонова, напротив, не может омолодиться по естественным причинам – он стар. Герой, однако, предпринимал попытки вернуть мужскую силу. Об этом товаркам рассказала проститутка, увидев персонажа в кооперативном ресторане во время попытки заключить сделку с немцем-садоводом:
– Этот принц и нищий, – шептала желтая девица, хохоча, – он приходил ко мне омолаживаться … (курсив наш. – Я.Ч.)
Губы девиц изобразили гримасу.
– Ну и как же? – спрашивали девицы, почти ложась грудью на стол <…>: – ну и что же?
– Мне не пришлось даже посмеяться как следует, – откровенничала девица, – он ушел, как будто я ему привила оспу, держась за руки…
– За руки? – спросили хором девицы.
– Я исщипала его со всех сторон <…> [Тихонов 1930, 29].
По содержанию разговора понятно, что хоть как-то оживить Кучина во время посещения даже щипками не удалось. «Мефистофель» рабочего городка оказался без либидо, то есть лишенным креативной функции, дара флейтиста-крысолова, на которую он в своем воображении претендовал. Отсюда предельно «беззубая» теория об анофелесах, давшая название повести Тихонова – контаминация превратно истолкованного толстовского опрощения (Л.Н. Толстой появляется как герой рассказа Кучина детям [Тихонов 1930, 72–73]) и, что довольно неожиданно, гендерной проблематики.
Анофелесы – это по латыни малярийные комары, комары, которые внедряют человеку страшную, замысловатую болезнь, долго бывшую непонятной – лихорадку, трясущую человека, грызущую его прямо до костей, но все дело в том, что кусают человека, разнося этот ужас в его крови, только самки, уподобляясь в этом некоторым женщинам, сеющим зло, а самцы-анофелесы питаются исключительно душистым цветочным соком, запомните, самцы безвредны, но страшны по названию. Ложной угрозой страшны, а питаются чистым, прекрасным соком, но так как опасность не позволяет отличить их в скорости друг от друга, то никто этого не знает, и они остаются при всей своей безвредности в полном сомнении у человечества…
-
<…> Выяснил я, что старики в современности играют роль анофелесов, самцов, разумеется, самцов, не самок… Никому они не нужны, невредны во многом, но неисправимы никак [Тихонов 1930, 54–55].
Патриархатная оптика, с которой подходит к рассмотрению взаимоотношений мужчины и женщины Кучин – еще один авторский аргумент в пользу радикального несоответствия героя задачам современности. «Борьба за новый быт» в 1920-е гг. преследовала цель перебороть носителей патриархального сознания – крестьянство, т.е. самый многочисленный класс бывшей императорской России. Они представляли наибольшую опасность для скорейшей пролетаризации общества, поскольку значительную роль в этом «классе» играли семейные отношения. Большевики стремились сломить бытовые традиции, которые угрожали затуханию революции. Для этого необходимо было по-другому подойти к трактовке семейных отношений. Советское общество должно было вместо церкви выступить гарантом законности заключаемого в ЗАГСе союза. Семья трактовалась как «первостепенной важности орудие общественного распределения» [Московская 2010, 84–97; Ильинский 1927, 149–150]. Кучина-старшего навряд ли можно назвать представителем крестьянства. Учитывая сатирических характер повести и направленность «критики», Тихонов наделяет своего героя искаженным патриархальным сознанием, где женщина является носительницей и распространительницей зла. С одной стороны – это «шпилька» в сторону крестьянства, испытавшего страшный прессинг со стороны власти в период первой пятилетки, с другой – карикатура на «межеумочное» положение дореволюционного интеллигента, каким он представляется автору: он – одновременно рупор прогрессивных идей, проводник новых начинаний, и в то же время «дикий мракобес» по своим убеждениям. Это подтверждал и Кучин-младший на публичном диспуте: «Товарищи, чем я виноват, что мой отец, как известно, старый дурак. Ни на какую самую малую дистанцию его к современности за волос не подтащишь…» [Тихонов 1930, 36].
В своей теории Кучин-старший воспроизводит иерархическую патри-архатную логику, где женщина занимает стандартно низкое положение по отношению к мужчине. Его тезис – отражение доминировавшего веками гендерного эссенциализма, отождествлявшего биологическое (пол) и социальное (положение в обществе) еще со времен Пифагора (доброе начало сотворило порядок, свет и мужчину, злое – хаос, мрак и женщин), Платона (мужчина свободен, женщина раба), Аристотеля (характер женщины следует рассматривать как страдающий от природного изъяна), Тертуллиана (женщина – врата дьявола) [Соболева 2019, 242 –243] и мн. др. Противопоставление яда (малярии), распространяемого самкой анофелеса, и «душистого цветочного сока», которым питаются самцы, показывает беспокойство Кучина перед женщиной, которая несет в себе смертельное начало. Страх активной фемининности, имплицитно представленный в теоретических выкладках героя, отражает представления маскулинного гендерного порядка рубежа веков: нормативной фемининности отводились другие роли, матери, невесты, жены, хозяйки, тогда как самка анофелеса претендовала на другую роль, связанную с одним из патриархальных архетипов, – война, несущего погибель человеку, читай – мужчине (другие архетипы – защитник, кормилец, глава семьи (рода), правитель) [Зусева-Озкан, Кузнецова 2022, 13–15].
Толстовское опрощение в теории Кучина-старшего проявляется в стремлении удалиться на природу и жить коммуной:
Я уведу их (стариков. – Я.Ч.) к пасечнику Федору. В лесу, верстах в двадцати-тридцати отсюда живет умудренный покоем старик с пчелами. Там мы и сядем на землю и будем одни с природой…
-
<…> Когда мы будем жить в природе, не путаясь под ногами молодого поколения, которому мы не нужны, мы получим огромное самоудовлетворение» [Тихонов 1930, 59].
В одном из эпизодов бывший купец Лисицын сравнивает Кучина с пророком Моисеем [Тихонов 1930, 60]. Учитывая явный протекционизм в отношении к городским старичкам и возвышение мужчины над женщиной, герой повести собрался организовать своеобразную «пустынь» у пасечника Федора. В этом заключался его «проект перевоспитания и утилизации стариков», в воровстве которого Кучин-старший обвинил своего сына на публичном диспуте [Тихонов 1930, 40–41].
«Межеумочное» положение дореволюционного интеллигента, образ которого сконструирован на основе персонажей западноевропейской и отечественной литературы, а «доктрина» «собрана» из чужих (и понятых превратно) историко-философских размышлений, имеет прототип – рассказ Горького «Карамора», название которого тоже связано с энтомологической проблематикой.
Сравнению двух рассказов будет посвящена следующая часть статьи. Предварительные выводы. Повесть Н.С. Тихонова направлена против «нео-пределившихся» интеллигентов. В ней выводится карикатурный образ представителя дореволюционной формации, сконструированный из нескольких литературных источников. В числе наиболее вероятных – легенда о крысолове из Гамельна, Данко из рассказа «Старуха Изергиль» и герой «Караморы». Персонажу, состоящему из обрывков различных идеологем, соответствует выдуманная им «доктрина», в основе которой превратно понятая теория опрощения вкупе с максимами, характерными для маскулинного гендерного порядка.
Список литературы «Старый» интеллигент в повести Н.С. Тихонова «Анофелес» (1930): кризис маскулинности и невозможность «второго рождения». Статья 1
- Вагинов К.К. Козлиная песнь: Романы / вступ. ст. Т.Л. Никольской, примеч. Т.Л. Никольской и В.И. Эрля. М.: Современник, 1991. 591 с.
- Вигилянская А. Второе рождение. Об одном философском источнике творчества Бориса Пастернака // Вопросы литературы. 2007. № 6. C. 131–146.
- Горький А.М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 26. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1953. 464 с.
- Горький А.М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 1. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1949. 512 с.
- Зусева-Озкан В.Б., Кузнецова Е.В. Введение // Женщина модерна: гендер в русской культуре 1890-1930-х годов: коллективная монография / под ред. В.Б. Зусевой-Озкан. М.: Новое литературное обозрение, 2022. С. 9–25.
- Ильинский И. Новый закон о семье и браке // Новый мир. 1927. № 2. С. 149–150.
- Кравчук И.А. Д.И. Хармс против И.И. Мечникова: об одной пародийной «теории питания» // Русская литература. 2022. № 3. С. 49–62.
- Меерович М.Г. Рождение и смерть города-сада: градостроительная политика в СССР. 1917–1926 гг. (от идеи поселения-сада к советскому рабочему поселку). Иркутск: Издательство ИрГТУ, 2008. 352 с.
- Московская Д.С. Андрей Платонов и литературные институции. К вопросу о комментировании произведений эпохи социалистической реконструкции // Studia Litterarum. 2019. Т. 4. № 4. С. 232–251.
- Московская Д.С. Биография местности в русской литературе эпохи борьбы за новый быт // В поисках новой идеологии: Социокультурные аспекты русского литературного процесса 1920–1930-х годов. М.: ИМЛИ, 2010. С. 60–154.
- Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934 / стеногр. отчет; под ред. И.К. Луппол, М.М. Розенталь, С.М. Третьякова. М.: Гослитиздат, 1934. 718 с.
- Соболева М.Е. Логика зла: Альтернативное введение в философию. СПб.: Владимир Даль, 2019. 318 с.
- Тихонов Н.С. Анофелес / рис. В. Конашевича. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1930. 142 с.
- Три стенограммы обсуждения повести М. Зощенко «Возвращенная молодость» (1934 г.) / публ. Т.М. Вахитовой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2012 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. С. 829–924.
- Чечнёв Я.Д. «Мгновенный старик» в романе Константина Вагинова «Гарпагониана» (к вопросу о «возвращенной молодости» как сюжете эпохи социалистической реконструкции) // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 109–118.