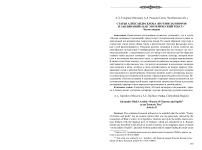Статья Александра Блока "Поэзия заговоров и заклинаний" как эзотерический текст". Статья вторая
Автор: Топорков Андрей Львович, Рычков Александр Леонидович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
Проведенное исследование позволило установить, что в статье «Поэзия заговоров и заклинаний» присутствует эзотерический подтекст, ранее не замеченный исследователями творчества Блока. По своей образной структуре и стилистике статья имеет общие черты с магическими текстами фольклора, которые в ней рассматриваются. Описание русских заговоров в статье строится как своеобразное путешествие в воображаемом пространстве или подъем «по лестнице заклинаний», а заканчивается тем, что автор и его читатель как бы обретают главную тайну русских заговоров - загадочный камень Алатырь, который является и источником мистического света, и христианским алтарем-жертвенником. В своей статье Блок показал, что магическое воздействие заговоров имеет реальный характер и обусловлено тем, что колдун вкладывает в исполнение заговоров свои желания и волю, которые в силах воздействовать на живую природу. Превращение слова в действие Блок объясняет как результат экстатического слияния воли заклинателя с волей природы. Показано влияние идей и литературы русского символизма на эзотерический подтекст фольклористической статьи Блока. Исследование «Поэзии заговоров и заклинаний» открывает новые возможности для установления ряда параллелей между лирическим творчеством Блока и русскими заговорами; примеры таких параллелей рассмотрены в данной работе.
Александр блок, поэзия заговоров и заклинаний, лирика а. блока, магия, эзотеризм, метафора, теургия, фольклор, русский символизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149139229
IDR: 149139229 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_155
Текст научной статьи Статья Александра Блока "Поэзия заговоров и заклинаний" как эзотерический текст". Статья вторая
Вверх «по лестнице заклинаний»
С точки зрения композиции в статье А. Блока «Поэзия заговоров и заклинаний» (ПЗЗ) можно выделить введение, основную часть и заключение, а в основной части три раздела: первый посвящен в основном народному мировоззрению и колдунам как носителям традиции магического слова (л. 1-19); второй включает общую характеристику заговоров и сопровождающих их ритуалов (л. 19-24) и только в третьем непосредственно рассматривается корпус заговоров с точки зрения их поэтики и функциональной направленности (л. 24-38). [Статья Блока здесь и далее цитируется по наборной рукописи (РО ИРЛИ. Ф. 654. On. 1. Ед. хр. 179) с указанием номера листа.]
В данном случае для нас наибольший интерес представляет третий раздел, который построен как совместное восхождение автора статьи и его читателя по некоей воображаемой лестнице. Этот раздел начинается словами: «Мы пойдем по лестнице заклинаний, начиная с первой ступени» (л. 24). А в одном из последних абзацев статьи говорится: «Мы достигли верхней ступени лестницы заклинаний и смотрим на пройденный путь» (л. 37). Таким образом, автор сначала как бы предлагает своему читателю пройти с ним «по лестнице заклинаний», а потом констатирует, что этот путь ими уже пройден.
Блок начинает свое описание корпуса текстов с заговоров от зубной боли, от ячменя на глазу, от кровотечения, от детского крика. Потом переходит к заговорам, связанным с хозяйственной деятельностью: «Домашнему быту уделено много места в заговорах. Это - целая история хозяйства, домашних и полевых забот землепашца, скорее - картины тихой жизни, а не молитвы и не песни о ней» (л. 27). Автор цитирует заговоры, которые произносят, чтобы не лягалась корова и чтобы удачно торговать, приговор девицы, желающей заполучить жениха, заговор от запоя, от порчи и чтобы навести порчу.
Обращаясь к заговорам, призванным подействовать на жизнь вне дома, Блок замечает: «Выходя из дому, человек свободнее дышит, смотрит на

поля и на леса, слушает голоса их» (л. 29). Далее идет речь о заговорах на кулачный бой, заговорах рыбаков и охотников.
Следующий абзац начинается словами: «Близость к хлебным полям, к туману и ветру, к дождям и грозам заставляет петь все громче» (л. 30). Приводятся закличка весны, приговор от тучи, заговор-молитва от черта, заумная песня, призванная защитить человека от русалок.
После этого Блок характеризует заговоры, связанные с чувствами человека и его семейной жизнью. Здесь Блок находит образцы высокой поэзии, для описания которых он прибегает к метафорике полета: «...истинные перлы первобытной поэзии сверкают там, где неожиданное, непривычное событие падает на голову человека, возбуждает его гневом, тоской или любовью, распирает стены избы, лишает почвы под ногами и поднимает еще выше холодное, предутреннее небо. <...> В заговоре как бы растут и расправляются какие-то крылья, от него веет широким и туманным полем, дремучим лесом и тем богатым домом, из которого ушел сын на чужую сторону» (л. 32).
Приводится обширный заговор, с помощью которого мать пытается уберечь своего сына от порчи. За этим следует патетический фрагмент, выдержанный в образно-лирической стилистике:
«Тот, кто узнал любовь, помнит о смерти. Душа его расцветает, она способна впивать в себя все цвета и звуки, дышать многообразием мира, причаститься мировому Причастию. Влюбленная душа - самая зрячая и чуткая, она как бы видит вдаль и вширь, и нет предела ее познанию мировых кудес. Это - душа кудесника, и влюбленный сам становится кудесником. Вот почему любовь, как высшая тайна, - родная стихия заклинаний; отсюда они появляются, вырастая, как цветы из бездны. Даже в тех бедных текстах заговоров, которые лежат перед нами и в которых больше не играет жизнь и не звучит влюбленный голос, мы можем услышать широкую, многострунную музыку - от нежных лирических мелодий до настоящей яростной страсти, обращающей сердце заклинателя в красный уголь» (л. 34).
Блок приводит на двух страницах разнообразные любовные заговоры и завершает «совершенно демоническим любовным заклинанием» XVIII в., в котором «слышен голос настоящего чародейства» и ощущается «высшее напряжение любовной тоски» (л. 36).
Таким образом, автор как бы проводит читателя по «лестнице заклинаний», на нижней ступени которой были краткие и простые заклинатель-ные формулы, преследующие утилитарные цели, а на верхней - обширные любовные заговоры со сложной символикой.
Если на нижней ступени заговоры призваны исцелить человека от болезней и помочь ему решить проблемы его повседневной жизни, то на верхней, наоборот, они разрушают устоявшийся быт и погружают человека в состояние «огненных мучений» или смертельной тоски.
В начале раздела речь идет о таких заговорах, которые «произносятся шепотом и скороговоркой» и звучат «по-домашнему, негромко» (л. 25).
Далее «близость к хлебным полям, к туману и ветру, к дождям и грозам заставляет петь все громче. Есть заговоры совсем как нежные лирические песни...» (л. 30). А в завершающей части речь идет о любовных заговорах, в которых «мы можем услышать широкую, многострунную музыку - от нежных лирических мелодий до настоящей яростной страсти, обращающей сердце заклинателя в красный уголь» (л. 34).
Если автор со своим читателем совершают восхождение по воображаемой «лестнице заклинаний», то субъект заговора выходит из дома и отправляется в путь среди лесов и полей, переживая телесную метаморфозу (у него вырастают крылья), а потом и взлетает к небесам под музыку мирового оркестра.
Последний абзац статьи посвящен образу загадочного камня Алатыря. Среди фольклорных свидетельств, которые приводит Блок, выделяется такое определение Алатыря, которое не сопровождается указаниями на источник и как бы исходит от самого автора: «Этот Алатырь, Латырь или Алатр - камень белый, горючий, светлый, синий, серебряный - светится в центре массы заклинаний и обладает чудотворной силой. Лежит он на море Окияне, на острове Буяне, который мифологи считали страною вечного лета» (л. 39).
Чтобы подчеркнуть особую значимость Алатыря, приводятся три варианта его названия и пять (!) эпитетов, связанных с темой света. Замечательно, что сама «масса заклинаний» при этом описывается как некий материальный объект, внутри которого помещается источник мистического света. В последнем предложении статьи со ссылкой на А.Н. Веселовского раскрывается религиозный смысл Алатыря: «Изучая западные легенды и показания русских путешественников, Веселовский сближает заповедный камень Алатырь с алтарем: народная фантазия, говорит он, нашла символический центр сказаний - алтарный камень, алтарь, на котором впервые была принесена бескровная жертва, установлено высшее таинство христианства» (л. 40).
Статья Блока завершается дословной цитатой из статьи А.Н. Веселовского «Алатырь в местных преданиях Палестины и легенды о Граале» (третья статья из цикла «Разыскания в области русского духовного стиха» (далее - «Разыскания...»)). В своей работе А.Н. Веселовский сопоставляет образы сказочного камня в русской народной поэзии (в том числе в стихе о «Голубиной книге» и в былине о Василии Буслаеве) с западными легендами о Св. Граале и со свидетельствами русских путешественников Коробейникова и Грекова о символическом параллелизме между мраморным камнем и Неопалимой Купиной в Синайском монастыре св. Екатерины [Веселовский 1881, 18]. В итоге Веселовский находит «за позднейшими наслоениями, песенными и иными, черты первичной легенды», связанной с «символикой сионского камня-алтаря, алатыря» [Веселовский 1881, 23, 33], и приходит к выводу о ключевом сакральном символизме «краеугольного» камня-алтаря в ряде христианских апокрифов и поверий (где камень-алтарь может быть также основанием креста Спасителя и обозначением места погребения Адама). При- ведем фрагмент из статьи А.Н. Веселовского, подчеркнув в нем слова, частично процитированные Блоком:
«Предание о чудесном камне, положенном Спасителем в основание Сионской церкви; о камне, снесенном с Синая и положенном на место алтаря в той же церкви, матери всех церквей; память о трапезе Христа в сионском Coenaculum, за которой Спаситель возлежал с апостолами, установил таинство Евхаристии и, наставив тому учеников, послал их в мир возвестить новое Откровение: таковы были материалы местной легенды. Стоило было поработать над ними народной фантазии, чтобы найти в них символический центр: алтарный камень, алтарь, на котором впервые была принесена бескровная жертва, установлено высшее таинство христианства . В русской народной поэзии этот алтарь, црквнослав. олъ-тарь, стал камнем алатырем ...» [Веселовский 1881, 24].
Так несколько неожиданно, но в полном соответствии с общей логикой статьи Блока и «Разысканий...» А.Н. Веселовского языческий Алатырь оказывается одновременно и христианским алтарем. Сквозная для ПЗЗ тема противостояния язычества и христианства разрешается вполне гармонически в некоем надрелигиозном синтезе. Центральный образ заговоров представляется настолько же языческим, насколько и христианским.
Таким образом, совместное путешествие автора и читателя по «лестнице заклинаний» заканчивается обретением главной тайны русских заговоров - чудесного камня Алатыря, с которым, как выясняется, связаны и мистические светлые силы природы, и «высшее таинство христианства».
Алатырь как «закрепка» эзотерической части ПЗЗ
Особый интерес представляют посвященные Алатырю заключительные предложения ПЗЗ, следующие за тезисом Блока о том, что «интереснее и красивее всего объяснение камня Алатыря, данное Веселовским» (л. 39). Многие русские заговоры заканчиваются специальными формулами, которые называются обычно «закрепка» или «замок». На эти формулы Блок в другом месте своей статьи обратил особое внимание: «Часто, но далеко не всегда, заговор кончается замыканием; в русских заклинаниях оно встречается чаще, чем в иностранных. Есть готовые формы для него: “слово мое крепко”, “замок моим словам”, “как у замков смычи крепки, так мои слова метки” или просто еврейское “аминь”. Ключом и замком замыкаются враждебные силы: хозяин обходит свое стадо, наговаривая: “Замыкаю я (имя) сим булатным замком серым волкам уста от моего табуна”» (л. 20-21).
«Закрепки» имеют магический характер; они как бы запирают текст заговора, обеспечивая его сохранность и действенность. При этом ключи и замки, о которых говорится в заговоре, существуют одновременно и как метафоры «запирания», и как материальные предметы, с которыми можно совершать определенные действия в физическом мире; например, во мно- гих заговорах описывается, как имярек кидает ключ в воду, а замок на гору или на небо.
Появление камня Алатыря в последнем абзаце статьи явно не случайно. Можно сказать, что фрагмент, посвященный Алатырю, - это своеобразная «закрепка», завершающая и «запирающая» текст блоковской статьи. Образ этого бел-горючего камня Алатыря в восприятии Блока исполнен важным символизмом и после завершения работы над ПЗЗ займет особое место в блоковской лирике как своеобразный фольклорно-сакральный символ Руси: например, как сакральная преграда в цикле «На поле Куликовом» (1908) [Февралева 2010, 14], символ «вышнего» в стихах «На смерть Коммиссаржевской» (1910).
С образом камня Алатыря, соединенным с христианским таинством, Блок мог познакомиться не позднее 1902 г. по духовным стихам о «Голубиной книге», конкретные реалии из которых были отражены поэтом в особенно значимом для него стихотворении «Царица смотрела заставки...» того же года [Магомедова, Топорков, 2015].
Само приведенное в статье без указания на источник определение Алатыря как чудотворного камня на острове Буяне, «который мифологи считали страною вечного лета» (л. 39), является парафразом фрагмента из параграфа о заговорах, написанного историком литературы П.О. Морозовым для учебного пособия А.Д. Галахова «История русской словесности» (к которому не раз обращался А. Блок): «...в большей части заговоров упоминается какой-то таинственный “бел-горюч камень Алатырь”, пребывающий на каком-то, также загадочном, острове Буяне, среди моря-Окияна. По объяснениям наших мифологов, этот Буян-остров есть страна вечного лета <выделено нами, А. Г, А.Р>, вечного солнца, а самый камень Алатырь есть именно мифический образ этого светила» [Морозов 1880, 157]. В экземпляре А.А. Блока слова «большей части заговоров» и следующее предложение подчеркнуты синим карандашом [Библиотека А.А. Блока 1984, 166]. По заключению П.О. Морозова, отчеркнутому Блоком: «.. .формулы, в которых упоминаются Буян-остров и камень Алатырь, следует считать обращением к светлым силам природы» [Морозов 1880, 157], в связи с чем Блок далее подчеркивает слова автора о том, что это стало возможным, «когда первобытный человек пришел к окончательному сознанию победы светлых сил над темными и стал чествовать первые, видя в них своих заступников и покровителей» [Библиотека А.А. Блока 1984, 166]. Синим карандашом Блок на той же странице отчеркивает примечание со ссылкой на работу акад. И.В. Ягича, в которой тот объясняет значение Алатыря на основе книжной традиции [Библиотека А.А. Блока 1984, 166]. Отметим также, что Блок обращает внимание на авторство параграфов о пословицах и заговорах в пособии Галахова и записывает «Морозов» против объединяющего их заголовка «Другие произведения народной словесности» [Библиотека А.А. Блока 1984, 166]. Отраженное пометами внимание Блока к мифологическому камню Алатырю, а также перенесение подчеркнутого фрагмента из статьи Морозова в ПЗЗ, позволяет предположить, что эта

статья из пособия Галахова читалась поэтом именно в период его работы над ПЗЗ.
Известно, что 1906 г. был периодом мучительных размышлений Блока о соотнесении мистицизма и религии, отраженных, в частности, в объемистом черновом наброске «Религия и мистика» (от 18 января 1906 г.) из записной книжки №12 (лл. 5-8), где Блок приходит к выводу, что мистик отличается способностью к экстазу Не исключено, что и сама метафора лестницы, по которой Блок как бы ведет за собою читателя, была заимствована им из второго тома того же пособия А.Д. Галахова «История русской словесности», где автор уделяет обширную обзорную статью мистической литературе. Эта статья содержит многочисленные пометы и маргиналии Блока. Здесь Галахов пишет о том, что «возможность восстановить себя в первобытном праве, сделаться снова Адамом» именуется мистиками «вторым, духовным рождением, пли “возрождением”. Оно составляет существенный догмат мистики, и потому служит главнейшим предметом мистических книг». Причем «кроме прямого изложения предмета, мистики прибегали нередко к пособию аллегории. <...> На языке мистиков <...> процесс возрождения - лестница, по которой верующий может восходить на величайшую высоту духа - образует несколько степеней» [Галахов 1880, 397-398]. Приведенные цитаты подчеркнуты или отчеркнуты Блоком [Библиотека А.А. Блока 1984, 188].
Построенный как совместное воображаемое путешествие автора и его читателя, третий раздел статьи может указывать на сознательно избранный Блоком метасюжет инициатического путешествия, к которому Блок обращался и впоследствии. Например, в драме «Роза и Крест», где привлечен рассмотренный А.Н. Веселовским в цикле «Разысканий...» посвятительный символизм легенды о Св. Граале (в т.ч. в цитируемой в ПЗЗ статье «Алатырь в местных преданиях Палестины и легенды о Граале» [Веселовский 1881, 28-29]), что было недавно показано при анализе маргиналий поэта [Рычков 2020, 188-216].
Своеобразное толкование фольклорного образа Алатыря на острове Буяне входило и в складывавшийся в то же время круг символистских представлений. Опираясь на труды теософов, символисты объединяли этот остров с легендарным «эзотерическим центром» славянства - островом Рюген на Балтийском море (впоследствии его посещали с целью проникновения в древнеславянскую мистику А.Р. Минцлова, А. Белый и др.).
В той или иной степени, рассмотренные выше «встречи» Блока с представлениями об Алатыре, по нашему мнению, в итоге привели к тому, что в эзотерическом, или мистическом - в понимании самого Блока, подтексте ПЗЗ Алатырь послужил своеобразным запирающим заклинания замковым камнем, - оказывающимся посредником между ноуменальным и природным мирами, между экстатическим мистицизмом и христианством, - к которому привел читателя автор по «лестнице заклинаний». Это позволяет нам отнести ПЗЗ к образцам той квазинаучной символистской эссеистики, которую одновременно с Блоком создавали А. Белый и Вяч. Иванов.
«Поэзия заговоров и заклинаний» в литературном контексте «Серебряного века»
Прием инициатического восхождения автора и читателя по «лестнице заклинаний» в 1910 г. будет повторен А. Блоком в работе «О современном состоянии русского символизма». С очевидной аллюзией на «Божественную комедию» Данте, здесь обладатель «заклинательной воли» художника символист-теург следует за Учителем (Вергилием - Вл. Соловьевым) по кругам ада к софийным Эмпиреям творчества в своеобразной «мистерии героя, повторяющего литературный миф» [Рычков 2017, 342].
Метафора «лестницы заклинаний» в ПЗЗ перекликается с известным образом лестницы Иакова у Вяч. Иванова, по которой символист совершает «восхождение» в состоянии экстатического откровения. С большой вероятностью она могла быть навеяна Блоку религиозно-эстетической теорией символизма Вяч. Иванова, отраженной, в частности, в эссе «Поэт и Чернь» («Весы», 1904) о художнике как протагонисте народной души (об этом эссе Блок писал в восторженной объемной рецензии «Творчество Вячеслава Иванова» в 1905 г.). В своем эссе Вяч. Иванов утверждает, что символы представляют собой переживания забытого и утерянного достояния народной души, поэтому «творчество поэта - и поэта-символиста по преимуществу - можно назвать бессознательным погружением в стихию фольклора. Атавистически воспринимает и копит он в себе запас фольклористского материала, который окрашивает все его представления, все сочетания его идей, все его изобретения в образе и выражении» [Иванов 1904, 7]. В переизданиях эссе Вяч. Иванов заменил формулировку «запас фольклористского материала» на «запас живой старины» и акцент на роли фольклористского материала для символиста, на который обратил внимание и откликнулся Блок, оказался не столь очевиден для последующих читателей. В своей рецензии Блок перефразирует эти слова и пишет, что «страдательный путь символизма есть “погружение в стихию фольклора”, где “поэт” и “чернь” вновь познают друг друга <...> при свете всеобщего мифа. <...> “Минует срок отъединения. Мы идем тропой символа к мифу”» [Блок 2003, VII, 9]. Последние два предложения в принадлежавшем Блоку журнале «Весы» со статьей Вяч. Иванова подчеркнуты красным карандашом [Библиотека А.А. Блока 1986, 169].
Такой тропой, очевидно, и ведет за собой Блок в ПЗЗ своего «посвящаемого» читателя. В этой связи А.Б. Блюмбаум приходит к заключению, что «одним из результатов рецепции Блоком построений Вячеслава Иванова стал фольклористический этюд “Поэзия заговоров и заклинаний” (1906), к которому прозрачно отсылает “муравьиный царь” “Девушки розовой калитки”. В очерке о народной магии мы находим целый ряд мотивов намеченной выше топики» [Блюмбаум 2015, 61].
Таким образом, «результат экстатического слияния воли заклинателя с волей природы», - о котором пишет Блок в ПЗЗ, самому поэту мог представляться одним из архаичных проявлений теургического искусства. Той
«поэтической теургии», о которой в те годы заговорили А. Белый и Вяч. Иванов как о методе русского символизма, продолжающем соловьевское понимание назначения искусства и соединяющем повседневное с мисте-риальным. Так же и Блоку фольклорные заговорные тексты и ритуалы, вероятно, кажутся инструментами той «мистической задачи поэзии», которую сформулировал его учитель Вл. Соловьев, когда декларировал лозунг теургического призвания искусства: «странно звучащий для нашего уха лозунг “спасения природы”, лозунг, близкий одному из глубочайших наших романтиков, Вл. Соловьеву» (А. Блок. «О романтизме», 1919 [Блок 1962, VI, 366]).
Блок защищает лирическую философию Вяч. Иванова в очерке «Творчество Вячеслава Иванова», где содержится один из герменевтических ключей к блоковскому пониманию «заклинания» в символистской современности (этого понятия нет в рецензируемой им работе «Поэт и чернь»): «Тайное “умное деланье”, которым крепнут поэты, покинувшие родную народную стихию, - это вопрошание, прислушивание к чуть внятному ответу, “что для других неуловим”; вопрошающий должен обладать тем единственным словом заклинания, которое еще не стало “ложью”. И вот -слово становится “только указанием, только намеком, только символом" <курсив наш, -А.Т, А.Р>» [Блок 2003, VII, 8].
Исследователями давно было также отмечено, что ПЗЗ «по построению очень напоминает исследование Соловьева “Первобытное язычество”» [Ханзен-Леве 1999, 21]. Действительно, в ПЗЗ Блок актуализирует корреляцию мифопоэтического символизма с мифологическим мышлением как прообразом соловьевского цельного знания и синтетического миропонимания. Как отмечалось ранее, в ПЗЗ Блоком намечается тема магического языка, перформативной речи, равнозначной действию, отражающая символистскую концепцию перформативного («истинного» у Блока) магического слова и «конкретного мышления», противопоставленного абстракциям современной, оторванной от природы культуры. В этой связи А. Хансен-Леве отмечает, что после работы над ПЗЗ «Блок эксплицитно использует понятие “конкретное мышление” <...> в значении, совпадающем с тем, которое придается понятию “конкретного мышления” в мифологике Леви-Стросса» [Ханзен-Леве 1999, 21]. При этом статья Блока намечает переход от ориентированных на античный миф «магического символизма» «первой волны» русского символизма и предсимволистского движения «аргонавтов», что подробно разобрано в работах А. Ханзен-Леве и А.В. Лаврова [Хансен-Леве 1999, 371-394; Лавров 1978, 137-170], к переосмыслению образов русской мифологии и фольклора в младосимволистской мифопоэтике, в т.ч. в соловьевском софийном ключе. Так, по заключению А. Хансен-Леве, в соловьевском измерении младосимволизма «элементы диаволики как бы “мифологизируются” и становятся негативной отправной точкой преображения и космического избавления» [Ханзен-Леве 1999, 394]. И если в магическом символизме «старших символистов» «в контексте символики пути “камень” превращается в диаволический
“камень преткновения” (каменья на пути)», то в мифопоэтическом символизме он «в качестве “философского камня” становится центральным пунктом герметически-мистических устремлений» [Ханзен-Леве 1999, 121]. Тем самым негативно-магическое толкование мифопоэтических символов и структур трансформируется в солярный миф, что наглядно иллюстрирует образ камня Алатыря в блоковском творчестве.
Характерное для ПЗЗ сближение образов мага, художника и влюбленного может быть рассмотрено как в контексте философии Эроса русского символизма в целом, так и в контексте становления специфического мировоззрения «соловьевского» младосимволизма. Одним из наиболее ярких представителей последнего был А. Блок, в своих программных работах приравнивавший художника к магу-теургу, а влюбленность - к экстатическому состоянию, подробно рассмотренному Вл. Соловьевым в сочинении «Смысл любви», ставшему одним из общепризнанных оснований жизнет-ворчества Блока.
Постановка вопроса о переосмыслении и трансформации фольклорных текстов в творчестве Блока неизбежно приводит к «размыванию» традиционных разграничений «фольклоризма» и «мифопоэтики», что дает возможность для выявления в блоковской лирике особенностей их взаимодействия, установления между ними новых генетических и типологических связей. Представляется необходимым соотнести внецитатные тезисы ПЗЗ как с научными источниками, так и с формировавшейся в то время символистской «картиной мира». Здесь следует также учитывать, что ПЗЗ отражает и общесимволистские искания, поскольку пишется на своеобразном пике освоения русским символизмом в 1906-1908 гг. народной мифологии и обрядового фольклора. Так, например, А. Кондратьев в рецензии на сборник С. Городецкого «Ярь» («Перевал». 1907) перечисляет имена также обратившихся к фольклорным источникам 3. Гиппиус, П. Соловьевой, А. Блока, Ф. = Сологуба и А. Ремизова и заключает: «Настоящий момент можно характеризовать как попытку разработать малоисследованные и почти неизвестные доселе образы нашей демонологии...» [Блок 1997, II, 555-556].
После знакомства в 1905 г. с глубоким знатоком и стилизатором фольклора А.М. Ремизовым, Блок посвящает ему «тематическое» стихотворение «Болотные чертенятки». Несомненно и влияние на представления Блока фольклорных мотивов чародейства и ворожбы в стихах Ф. Сологуба, К. Бальмонта и В. Брюсова, о которых Блок отзывался в своих рецензиях, анализируя, к примеру, стилизации заговоров в поэзии Бальмонта в своем эссе «О лирике» [Блок 2003, VII, 67].
Славянская мифология стала источником вдохновения С.М. Городецкого, который в 1907 г. выступил со своим первым сборником «Ярь». Симптоматично, что С.М. Городецкий вместе с Блоком принял участие в написании глав для первого тома «Истории русской литературы» как автор статьи «Сказочные чудища».
-
А. Белый в докладе «Магия слов» в «Обществе свободной эстетики»
(1909 г.) высказал взгляды на происхождение поэзии, частично совпадающие с тезисами статьи А. Блока, например: «Первоначально поэзия, познавание, музыка и речь были единством; и потому живая речь была магией, а люди, живо говорящие, были существами, на которых лежала печать общения с самим божеством. Недаром старинное предание в разнообразных формах намекает на существование магического языка, слова которого покоряют и подчиняют природу; недаром каждый из священных гиероглифов Египта имел тройственный смысл...» [Белый 2010, 317]. В архаичном метафорическом языке «творчество символов объединяло знание, познание, заклинание в одном слове». Согласно выводам Белого, именно это, символизирующее троичность смыслов слово: «соединяющее звук, религиозный символ и практику дыхания, было воистину магическим словом» [Белый 2010, 317]. К аналогичным идеям Белый обращается и в ряде других своих статей, в т.ч. более ранних.
Представляется также, что статья Блока может быть соотнесена с оригинальными научно-эстетическими идеями заказчика и редактора блоковской статьи Е.В. Аничкова, перекликающимися с мировоззренческими исканиями символистов. В своей двухтомной монографии «Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян» (СПб., 1903-1905) Аничков возводил генезис искусства к обрядовой магии, на что обратил внимание Вяч. Иванов в статье об Аничкове для словаря Венгерова: «А.<ничкову> удается в “Весенней песне” на конкретном материале утвердить новое (от Гюйо, Гросса, Бюхера идущее) воззрение на происхождение искусства. По этому воззрению, искусство возникло не из игры (как со времени Канта думали Шиллер, идеалистический эстетик, а также Спенсер и отчасти сам Веселовский), но из практической потребности. <.. .> А.<ничков> точнее определяет эту потребность, породившую искусство, усматривая начало песни в обрядовом действе и неразлучной с ним обрядовой магии» [Эльзой 1993, 194-195].
Идеи Аничкова о том, что заговоры и заклинания - это первоначальная форма поэзии в целом, а не только франкоязычной обрядовой песни, были в высшей степени спорны для своего времени. Так, например, Н.Ф. Сумцов иронично замечал в критическом отзыве на книгу Аничкова: «Общий вывод автора, что “обрядовая песня, заклинание есть самостоятельно возникший и первоначальный вид народной поэзии”, представляется в приложении к народной поэзии односторонним именно в смысле допущения первоначальности заклинательного вида поэзии. Стоя на такой исключительной точке зрения, можно не только всю древнюю обрядность и поэзию, но и самый язык возвести к заклинанию, как первоисточнику, и утверждать, что первыми словами человечества были заклинания» [Сумцов 1909, 224-225].
Тем не менее, в ПЗЗ Блок следует за представлениями о рождении искусства, восходящими к идеям Ницше и Аничкова, причем само заглавие «Поэзия заговоров и заклинаний», по-видимому восходит к книге Аничкова, который в свою очередь цитировал «Веселую науку» Ницше [Блюм- баум, 2017, 18, прим. 14]. Блок также обращается к этим идеям Аничкова и впоследствии, поскольку метафорика заговорного языка была близка исканиям младосимволистов. Как и для Аничкова, искусство в теоретических воззрениях младосимволистов из игры постепенно обращается в религиозно-теургическое действо преображения природы, и статья Блока наглядно отражает эволюцию этих представлений. Взаимодействие мифопоэтических и фольклорных образов обуславливает специфику целого ряда стихотворений А. Блока и их интертекстуальные связи. Поэтому произошедшую именно в ПЗЗ и параллельной лирике Блока подобную трансформацию фольклорной традиции можно рассматривать как типологическую особенность его мифопоэтической системы в целом, на основании которой строилось литературное творчество и жизнетворчество Блока, и отчетливо выявляется «одна из особенностей его художественного мышления - стремление к мифологизации с опорой на фольклорную традицию» [Грякалова 1987, 60].
Список литературы Статья Александра Блока "Поэзия заговоров и заклинаний" как эзотерический текст". Статья вторая
- Белый А. Магия слов // Белый А. Символизм. Книга статей. М.: Культурная революция; Республика, 2010. С. 316-328.
- Библиотека А.А. Блока. Описание: в 3 кн. Л.: БАН, 1984. Кн. 1. 317 с.
- Библиотека А.А. Блока. Описание: в 3 кн. Л.: БАН, 1986. Кн. 3. 332 с.
- Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: Гослитиздат, 1962. Т. 6. 560 с.
- Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Наука, 1997. Т. 2. 898 с.
- Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Наука, 2003. Т. 7. 523 с.
- Блюмбаум А.Б. Поздний Блок и немецкий романтизм: «спасение природы» // Блоковский сборник XIX. Александр Блок и русская литература Серебряного века. Tartu: Издательство Тартуского университета, 2015. С. 56-85.
- Блюмбаум А.Б. Música mundana и русская общественность: цикл статей о творчестве Александра Блока. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 264 с.
- Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха, III: Алатырь в местных преданиях Палестины и легенды о Граале // Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. Ч. III-V. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1881. (Сборник Отделения русского языка и словесности. Т. 28. № 2). С. 1-46.
- Галахов А. История русской словесности, древней и новой: в 2 т. Изд. 2-е. Т. 2. СПб.: Тип. Морского министерства, 1880. 493 с.
- Грякалова Н.Ю. О фольклорных истоках поэтической образности Блока // Александр Блок. Исследования и материалы. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1987. С. 58-68.
- Иванов Вяч. И. Поэт и чернь // Весы. 1904. № 3. C. 1-8.
- Лавров А.В. Мифотворчество «аргонавтов» // Миф - фольклор - литература. Л.: Наука. Ленинградское отд., 1978. С. 137-170.
- Магомедова Д.М., Топорков А.Л. Стихотворение А.А. Блока «Царица смотрела заставки...» и духовный стих о Голубиной книге // Русская литература. 2015. № 2. С. 192-203.
- Морозов П.О. Заговоры // Галахов А. История русской словесности, древней и новой: в 2 т. Изд. 2-е. Т. 1. Ч. 1. СПб.: Тип. Морского министерства, 1880. С. 154-157.
- Рычков А.Л. Комментарии к докладу А. Блока «О современном состоянии русского символизма» // Литературные манифесты и декларации русского модернизма. СПб.: Пушкинский Дом, 2017. С. 334-342.
- Рычков А.Л. К франкоязычным источникам мистериального сюжета драмы «Роза и Крест» (романный цикл «Ланселот Озерный») // Александр Блок: исследования и материалы. СПб.: Пушкинский Дом, 2020. Т. 6. С. 188-216.
- Сумцов Н.Ф. Отзыв о сочинении Е.В. Аничкова «Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян», Ч. 1 // Сборник отчетов о премиях и наградах, присуждаемых Императорской Академией наук. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1909. С. 224-234.
- Февралёва О.В. Образы земли и подземелья в символистской картине мира Александра Блока: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. M., 2010. Владимир, 2007. 18 с.
- Ханзен-Леве А. Русский Символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб.: Академический проект, 1999. 512 с.
- Эльзон М.Д. (публ.). Неосуществленный замысел Вяч. Иванова // Русская литература. 1993. № 2. С. 194-195.