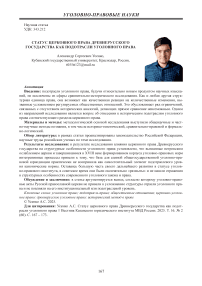Статус церковного права древнерусского государства как подотрасли уголовного права
Автор: Усенко Александр Сергеевич
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 2 (60) т.16, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение: подотрасли уголовного права, будучи относительно новым продуктом научных изысканий, не исключены из сферы сравнительно-исторического исследования. Как и любая другая структурная единица права, она возникает как качественная реакция на количественные изменения, вызванные усложнением регулируемых общественных отношений. Это обусловливает ряд ограничений, связанных с отсутствием исторических аналогий, делающих прямое сравнение невозможным. Одним из направлений исследования является вопрос об отнесении к историческим подотраслям уголовного права соответствующего раздела церковного права.
Уголовное право, подотрасль права, общественные отношения, церковно-уголовное право, древнерусское уголовное право, исторический метод в праве
Короткий адрес: https://sciup.org/142245176
IDR: 142245176 | УДК: 343.97 | DOI: 10.37973/2227-1171-2025-16-2-167-173
Текст научной статьи Статус церковного права древнерусского государства как подотрасли уголовного права
Подотрасли уголовного права, несмотря на все сложности, связанные с их теоретической интерпретацией, отсутствие устоявшегося взгляда на сам факт их наличия в структуре современного права и относительно позднее появление в научном дискурсе, не исключены из сферы исторического исследования. Вместе с тем их исторический анализ, чтобы быть достоверным и эффективным, должен учитывать некоторые организационные особенности, связанные с тем, что подотрасль, во-первых, является результатом не просто ординарного нормотворчества, но и во многом теоретического обобщения нормативного материала, и во-вторых, как результат такого обобщения она может существовать лишь в условиях достаточно развитого уголовного права на сравнительно позднем этапе его эволюции.
Эти обстоятельства порождают закономерные, но вполне преодолимые сложности в поиске генетических оснований и направлений развития современных теоретико-нормативных конструкций, не имеющих прямых аналогов в прошлом.
Обзор литературы
В связи с относительной новизной исследования подотраслевого уровня организации уголовно-правового нормативного материала в научной литературе вопросы теоретического статуса церковного права в части, относящейся к наказанию преступной деятельности, детально не разработаны. Так, отдельные авторы исследовали лишь исторические аспекты генезиса уголовно-правовой специфики церковного права, в том числе и ведущие дореволюционные ученые-правоведы И.С. Бердников, Н.С. Таганцев и А.А. Пионтковский. Относительный интерес к истории кано- нического права обусловлен в последнее время попытками осознать роль и влияние церкви на общество. Некоторые современные авторы также рассматривают теоретические основы правового регулирования отношений государства и религиозных объединений в историческом разрезе. При этом вопросы структурного влияния церковного права на современное уголовное право не находят должного раскрытия на уровне монографических работ или диссертационных исследований.
Материалы и методы
Методологическую основу исследования составили общенаучные диалектические методы, частно-научный метод сравнительно-исторического подхода. В качестве исследовательских принципов были избраны объективность, системность, интегративность, комплексность.
Результаты исследования
Подотраслевое строение уголовного права является свидетельством высокой зрелости отрасли, непосредственно в рамках которой происходит дифференциация нормативного материала. При этом подотрасль может мыслиться исключительно как часть целого. Ее образуют только уголовно-правовые нормы, и эти нормы не могут существовать вне единого уголовного права.
Это тем более важно, что на достаточно протяженном историческом отрезке существования российского государства и права разворачивались взаимосвязанные процессы собственно формирования уголовного права и его интеграции. Причем это формирование шло на фоне конкурирующих юрисдикций светского и церковного права, взаи-мопересекающихся и внутренне противоречивых систем. Право, понимаемое как corpus juris, имеет внутреннюю логику и структуру, где изменения не происходят случайно, а обусловлены законами развития правового «организма». Так, А.И. Бойко указывал, что «…максимальное структурирование отдельных статей закона (гипотеза – диспозиция – санкция) суть лишь первичный уровень обобщений; по мере же накопления и усложнения нормативного материала законодатель переходит к более высокому уровню абстракции (преамбулы, заголовки, главы, разделы, части), по итогам чего надобность в письменной фиксации гипотез отпадает; информацию о них потребитель узнает из всего нормативного акта благодаря его усложненной структуре (общее понятие преступления – принцип неотвратимости ответственности за него – список преступлений и санкций за них, без записи очевидной презумпции, что эти наказуемые преступления должны быть кем-то совершены)» [1, с. 17]. Такой вариант развития юридического корпуса усложняется наличием нескольких пра- вовых систем, в частности, канонического права в части уголовных наказаний, которые, вероятно, можно рассматривать как часть общеуголовной правовой системы. В этом случае возникает вопрос о природе и месте этого источника в системе формирующегося на Руси публичного права, тем более что Русская православная церковь (и церковное право Византии как основа ее функционирования) выполняла ряд государственных функций, по сути, став частью госаппарата, получив, в том числе, и власть, и право на насилие.
Особенностью формирования отечественного уголовного законодательства на ранних стадиях стал и тот факт, что государство и право только складывались, их институциализация находилась в зачаточном состоянии, в то время как церковное право пришло из Византии уже полностью оформленным структурно. Сама церковь, как заимствованный общественный институт, демонстрировала гораздо большую зрелость, чем светские устроения. Соответственно, церковная модель уголовного регулирования послужила основой для оформления «княжеского» варианта системы уголовного преследования. Последнее при этом постепенно подчинило себе каноническую уголовно-правовую ветвь, что подталкивает с позиций сегодняшнего дня рассматривать церковное уголовное право как подотрасль светского общеуголовного права.
Естественно, что такое уголовное право – продукт длительной эволюции общественных отношений, оно не появляется одномоментно, а складывается постепенно за счет концентрации в руках государства права на применение наказания в случае причинения общественно значимого вреда и ограничения либо лишения такого права частных карательных юрисдикций (семьи, общины и пр.) [2]. По этой причине на протяжении длительного времени формирующееся право государства на наказание сосуществовало с карательным правом иных юрисдикций (в Древнерусском государстве, если не принимать во внимание таковое право у семьи и общины, существенным дополнением права государства на наказание служило аналогичное право Русской православной церкви, Греко-восточной церкви и др.). А кроме того, оно имело разнообразные, неунифицированные внешние формы его объективного выражения, где помимо писаных правовых актов существовали признаваемые государством народные обычаи, пережитки которых можно наблюдать и в настоящее время.
С учетом этих факторов исследователи древнерусского уголовного права обращают внимание, что его система имела сложный характер. С одной стороны, она основывалась на юрисдикционном размежевании светского и церковного законодателя, которое тем не менее «не приводит к хаосу, а даже, наоборот, реализуется в дуализированной процессуально-судебной форме, принося не только моральное, но и материальное удовлетворение обеим сторонам». С другой стороны, это подсистема обычного и позитивного уголовного права [3, с. 109].
Кроме того, такая индукция византийских (в генезисе римских) моделей толкования нормативного материала и законотворчества приводила к кодификации всего массива уголовно-правовых норм. Как верно отмечал О.В. Ключевский, «кормчая принесла на Русь первые образцы связного уложения, построенного не на пережившем себя обычае или случайном усмотрении власти, а на последовательном развитии известных юридических начал, отвечающих насущным потребностям общества. С тех пор начались и у нас опыты составления по разным отраслям действовавшего права кратких сводов, подобных тем, какие так любила и так умела составлять греко-римская юриспруденция. … Разумеется, эти опыты далеко отставали от своих образцов как в кодификационной технике, так и в выработке юридических начал. Но они будили юридическую мысль, отрывая ее от непосредственных явлений, приучая подбирать однородные юридические случаи и из них извлекать общие правила, юридические нормы» [4, с. 329 – 330].
Следует отметить, что искать предтечу внутреннего строения уголовного права в подсистемах, выделенных на основе источников уголовно-правовых норм (обычаи или письменные предписания князей), вряд ли обоснованно. В данном случае мы имеем дело не с системой зарождающейся отрасли как таковой, а с системой ее источников, что не одно и то же.
Кроме того, необходимо учитывать, что церковно-уголовное право не обеспечивало всего охвата уголовно-правовых отношений и не было в полном смысле автономным, ведь княжеская власть формировала государственное законодательство по делам церкви. Она же определяла меру ее уголовно-правовых возможностей. Тем не менее именно в начальный период государственной институциализации начинают закладываться процессы интеграции и систематизации как церковного права, так и права светского. Как структурная часть системы уголовного права Древней Руси каноническое право продолжало развиваться в общем русле законотворческих процессов всего отечественного corpus juris, а следовательно, зависело от других подсистем уголовного пра- ва: княжеской и общинной, что привело к формированию специфических составов, характерных только для церковного права.
Церковный суд имел широкую компетенцию, фактически он расширил сферу своих интересов на те отношения, которые остались вне предметов ведения княжеской юрисдикции: семейные конфликты, бракоразводные дела, преступления против морали, избиение родителей детьми, «смилное заставание», изнасилования, оскорбления, разные виды волшебства, гробокопательство, противоестественные пороки, убийство матерью незаконно прижитого младенца и т.д. [5, с. 140]. То есть княжеская власть и ее нормативные предписания были сосредоточены на разрешении противоречий между различными сословиями, а церковь и ее правовые институты ограничивались областью разрешения конфликтов внутри самих сословий, не выходя за их пределы.
Такой взгляд ставит закономерный вопрос о возможности признания уголовно-правовых норм, составляющих материально-правовую основу церковной юрисдикции, особым структурным элементом древнерусского уголовного права, его подотраслью [6; 7]. Для его правильного решения надо определиться с пониманием теоретического статуса церковного права Древнерусского государства.
Некоторые авторы настаивают на отраслевом характере церковного права [8, с. 27 – 28; 9, с. 13], отмечая его как один из структурных элементов функционирующей в стране единой системы права. Однако в этом случае уголовно-правовые нормы церковного права справедливо оценивать в качестве подотрасли не уголовного, но непосредственно церковного права.
Кроме того, можно понимать церковное право как «особую систему права, поскольку оно имеет уникальную иерархию правовых норм, объединенных в тесно взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом соответствующих правовых институтах и отраслях» [10, с. 32], «особую область права, стоящую параллельно праву, получающему свое происхождение и значение от государства» [11, с. 6, 8 – 9]. В этом случае церковное уголовное право можно рассматривать в качестве особой отрасли, но в рамках этой относительно автономной системы церковного права.
Как видим, при любой интерпретации статуса церковного права место церковно-уголовных норм оказывается вполне определенным: они обособлены от массива уголовно-правовых норм и являют собой часть права церковного, что не позволяет рассматривать их в качестве подотрасли уголовного права.
Таким образом, из проанализированных представлений о статусе церковного права более убедительным и теоретически обоснованным представляется взгляд на него как на относительно автономную правовую систему, сосуществующую на раннем этапе развития отечественной государственности параллельно с системой права, исходящего от институтов княжеской власти. Древнерусское государство – особый, ранний период генезиса и государства, и права, когда «центры власти» и системы всеобщей нормативной регуляции только формировались. Симбиоз княжеской и церковной власти и соответствующих им систем княжеского и церковного права вполне закономерен. Дополнительно он «разбавлялся» общинными нормами. Такой взгляд подтверждается и последующей историей развития права в России, которая была направлена на объединение этих правовых систем, ограничение статуса и возможности церкви в качестве субъекта правотворчества и правоприменения, сосредоточение всех связанных с правом функций в руках именно государственной власти.
При этом следует заметить, что вопрос о статусе церковноправовых актов, относящихся к регламентации отношений по поводу совершения преступлений, не терял актуальности и в XIX веке. И если А.А. Пионтковский видел в них особый, специальный род собственно уголовных законов [12, с. 60 – 61]1, то Н.С. Таганцев вполне обоснованно выводил эти акты из сферы уголовного права, справедливо полагая, что источник таковых – не право государства на уголовное наказание, а дисциплинарная власть церкви как одного из существующих в обществе институтов [13, с. 48].
Процессы интеграции права вообще и уголовного права в частности являют собой весьма значимый государственно-правовой феномен, заслуживающий самостоятельного исследования. Можно лишь в самых общих представлени- ях зафиксировать мысль о том, что интеграция уголовно-правовых норм в России в целом была достигнута к XVII – XVIII векам после преодоления раздробленности, построения централизованного государства, создания единого для всей страны кодифицированного закона, включающего в себя и консолидированную группу уголовно-правовых норм, и существенное ограничение церковной власти. Не случайно именно XVIII век определяется как рубежный период в истории русского уголовного права [14, с. 18]. К этому времени сложился основной корпус уголовно-правовых норм, образующих базу для единой, общегосударственной уголовно-правовой юрисдикции, и с этого времени начинается особый этап развития внутренней системы уголовного права, в том числе и ее подотраслевого уровня.
Обсуждение и заключение
Подводя итог рассмотрению исторических аспектов формирования и развития подотраслей в уголовном праве на основе права церковного, стоит обратить внимание, что основу усложнения структуры отрасли уголовного права составляют объективные процессы дифференциации правового регулирования определенных групп уголовно-правовых отношений. Эти процессы в качестве самостоятельного направления развития отрасли могут быть выявлены и обособлены лишь по мере того, как право на уголовное наказание будет, во-первых, эксклюзивно закреплено за государством и, во-вторых, объективно унифицировано в едином комплексе нормативно-правовых предписаний. В силу этого имевшие место в истории акты уголовно-правового содержания, основанные на юрисдикционной власти Русской православной церкви, не говорят об усложнении структуры отрасли уголовного права, но являют собой свидетельство наличия нескольких сосуществующих нормативных систем в масштабах одного государства.
1 Он писал: «Лица духовного звания подлежат суду и наказанию по законам церковным за целый ряд деликтов, по преимуществу специального характера; равным образом этими законами устанавливается возможность замены ординарных наказаний (правда, в ограниченных пределах) для этого роли наказаниями специальными, и нормируется порядок применения епитимии не только к лицам духовного звания, но в известных случаях (например, при покушении на самоубийство) и к лицам светским; этими законами определяются иногда карательные последствия и за некоторые предусмотренными общими уголовными законами деликты».