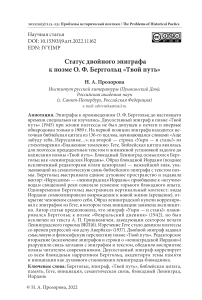Статус двойного эпиграфа к поэме О. Ф. Берггольц "Твой путь"
Автор: Прозорова Наталья Аркадьевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
Эпиграфы к произведениям О. Ф. Берггольц до настоящего времени специально не изучались. Двусоставный эпиграф к поэме «Твой путь» (1945) при жизни поэтессы не был допущен к печати и впервые обнародован только в 1989 г. На первой позиции эпиграфа находится библейская цитата из 136-го псалма, начинающегося словами «Аще забуду тебя, Иерусалиме…»; на второй - строка «Умри - и стань!» из стихотворения «Блаженное томление» Гете. Библейская цитата являлась для поэтессы прецедентным текстом и жизненной установкой задолго до написания поэмы «Твой путь». Блокадный Ленинград осмыслялся Берггольц как «ленинградская Иордань». Образ блокадной Иордани (позднее исключенный редакторами и/или цензорами) - важнейший знак, указывающий на семантическую связь библейского эпиграфа с текстом поэмы. Берггольц выстраивала единое духовное пространство и задавала вектор: «Иерусалим» - «ленинградская Иордань»; приобщение к «жгучим» водам священной реки означало усвоение горького блокадного опыта. Одновременно Берггольц выстраивала вертикальный контекст: воды Иордани символизировали возрождение к новой жизни (крещение), открытие человеком самого себя. Образ ленинградской купели коррелировал с эпиграфом из Гете, в котором тема инициации заявлена эксплицитно. Автор статьи предположила, что эпиграф «Умри - и стань!» планировался Берггольц к поэме «Февральский дневник» (1942), но был исключен из текста А. П. Гришкевичем, заведующим сектором печати Ленинградского горкома ВКП(б). Изречение Гете стало девизом поэтессы со времен репрессий «по делу Авербаха» (1937). Двойной эпиграф задавал смысловую и философскую перспективу поэме «Твой путь». Редакторское вторжение (исключение эпиграфов и строки о «ленинградской Иордани») разрушило связь заглавия с эпиграфом и текстом, обеднило восприятие поэмы читателем-современником. Двусоставный эпиграф коррелирует со всем блокадным нарративом Берггольц, акцентируя темы памяти и инициации как духовного становления ленинградца-блокадника.
Берггольц, эпиграф, твой путь, библейская цитата, память, гете, инициация, семантическая связь, блокадный ленинград, иордань
Короткий адрес: https://sciup.org/147238872
IDR: 147238872 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11162
Текст научной статьи Статус двойного эпиграфа к поэме О. Ф. Берггольц "Твой путь"
Э пиграф факультативно входит в заголовочный комплекс произведения, чаще всего представляя собой цитату, предваряющую текст или часть текста. Функционально он является смысловым ориентиром, проясняющим идею произведения и указывающим путь интерпретации. Эпиграф проявляется разнонаправленно: как паратекстовый элемент, «открытая цитата», «чужое слово», «текст в тексте» и метатекст. «Конституирующими признаками эпиграфа, — по мнению И. В. Арнольд, — являются его диалогичность, интертекстуальность и эстетическая и эйдологическая (идейно-тематическая) функции» [Арнольд, 2004: 8]. Немало работ посвящено изучению семантических связей эпиграфа с текстом и выяснению статуса эпиграфа в рамках одного произведения и одного автора (см., напр.: [Цуканова] и др.).
Эпиграфы к произведениям Ольги Федоровны Берггольц (1910–1975) до настоящего времени не были предметом специального изучения. Внимание исследователей было обращено лишь на особенности заголовочного комплекса ряда стихотворений военного времени [Прозорова, 2019: 97]. Среди эпиграфических источников, к которым обращалась поэтесса, можно назвать тексты А. С. Пушкина, Г. Р. Державина, А. И. Герцена и др.; при этом использование «чужого слова», предпосланного собственному произведению, не было для нее систематическим.
Поэма «Твой путь» обобщала военный и блокадный опыт поэтессы и была опубликована в 1945 г., после окончания войны. Однако двухкомпонентный эпиграф при жизни Берггольц не печатался. Он отсутствовал в первой журнальной публикации1, в вышедшей тогда же отдельной книге2 и других изданиях.
Впервые эпиграф был обнародован в 1989 г. в трехтомном собрании сочинений3. Т. П. Голованова, автор примечаний, сообщала, что текст поэмы опубликован по последней редакции, хранящейся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ; в то время — ЦГАЛИ, Центральный государственный архив литературы и искусства), и что в предыдущих публикациях эпиграф не был допущен к печати редакторами [Голованова: 405].
В интересующем нас двусоставном эпиграфе первую позицию занимает библейская цитата: пятый и шестой стих из 136-го псалма Псалтири — «Аще забуду тебя, Иерусалиме…». На втором месте приводится строка «Умри — и стань!» из стихотворения И. Гете «Блаженное томление».
Со времени публикации эпиграфа научных статей, проясняющих его смысл и соотношение с текстом поэмы, не выходило. Сама же поэма практически сразу вызвала идеологическую критику и полемику; ее не обходили вниманием известные литературоведы советской эпохи [Цурикова: 23–27], [Банк: 83–85], [Павловский: 23–25], [Абрамов], зарубежные исследователи [Hodgson: 248–249] и др.
В данной статье будут рассмотрены: рефлексия поэтессы о «чужом слове», предваряющем поэму «Твой путь»; статус двойного эпиграфа; семантическая связь заголовочного комплекса с финалом поэмы; корреляция эпиграфа с блокадным нарративом н а идейно-тематическом уровне.
1. Библейский эпиграф — тема памяти
Итак, на первой позиции в двойном эпиграфе к поэме «Твой путь» находится текст из Псалтири — книги ста пятидесяти псалмов, входящей в Библию. Берггольц неточно цитирует 136-й псалом, известный по первой строке «На реках Вавилонских». Он представляет собой скорбную песнь (плач) еврейского народа, находящегося в вавилонском плену после падения Иерусалима. Пленники не перестают думать о Святом городе и обращаются к нему со словами клятвы (пятый и шестой стих псалма). Именно эти строки предваряют поэму «Твой путь»:
«Аще забуду тебя, Иерусалиме, забудь меня, десница моя, прилипни, язык мой, к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главу веселия моего.
Псалом 136 »
( Берггольц, 1989 : 74).
Неудивительно, что в атеистическом, социально-литературном послевоенном пространстве подобная цитация представлялась редакторам по меньшей мере неуместной, и они не пропустили эпиграф в печать, несмотря на то что религиозная риторика в определенной степени была официально санкционирована властью в военные годы4. Для самой Берггольц, получившей православное воспитание и впитавшей христианскую традицию с детства (см. об этом: [Прозорова, 2014: 41–52]), отсылка к библейскому тексту была скорее естественной, чем парадоксальной. Несмотря на активное участие в комсомольской работе и пропаганду атеистического мировоззрения, усвоенная ранее религиозная форма культуры стала для Берггольц частью ее духовного «тезауруса».
Уже зимой 1941–1942 гг. поэтесса пришла к осмыслению блокадного бытия через библейские символы. Так, в поэме «Февральский дневник» она назвала жителей осадного города людьми, прошедшими обряд крещения: «…ведь это мы, крещенные блокадой!»5; полоски бумаги, наклеенные на оконные стекла, воспринимались ею как «зимы варфоломеевской кресты»6; в стихотворении «Ленинградская осень» (1942) поэтесса описала ждущую трамвая ленинградку «с доской в объятьях», увидев в этой «доске» не источник тепла (топлива), а «часть распятья, / большой обломок русского креста» (Берггольц, 2014: 184), символизирующий тяжесть блокадного испытания, надежду на очищение и возрождение (бессмертие). В этом контексте не вызывает удивления и просьба поэтессы: «И когда меня зароют / возле милых сердцу мест — / крест поставьте надо мною, / деревянный русский крест!» (Берггольц, 2014: 223). Эти неоднократные упоминания главного символа православной веры проясняют мировосприятие Берггольц в военное лихолетье и подчеркивают неслучайность цитации сакрального текста как наиболее авторитетного для нее источника. «Непосредственное цитирование, — пишет В. Лукин, — происходит не из текста-донора, а из “культурного тезауруса” языковой личности» [Лукин: 120].
Источником цитирования могло стать непосредственное обращение Берггольц к Псалтири во время блокады. Однако нельзя исключить того, что текст псалма возник в памяти поэтессы опосредованно — через «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского. В десятой книге романа штабс-капитан Снегирёв (в драматичной сцене после визита врача к умирающему сыну Илюше) цитирует стих 136-го псалма, а Алексей Карамазов поясняет его другому персонажу — Коле Красоткину: «Это из Библии: “Аще забуду тебе, Иерусалиме”, то есть если забуду всё, что есть самого у меня драгоценного, если променяю на что, то да поразит…»7. Берггольц хорошо знала тексты Достоевского (в особенности романы «Братья Карамазовы», «Бесы» и рассказ «Кроткая»), отсылки к которым содержатся во многих ее дневниковых записях. При этом не столь важно, вычленила ли она стих псалма из романа Достоевского или он закрепился в ее памяти при чтении Библии. Принципиально другое: он являлся для Берггольц прецедентным текстом8 и присутствовал в сознании поэтессы задолго до написания поэмы «Твой путь».
Стихи 136-го псалма оказались в фокусе особого внимания Берггольц в блокадную зиму 1941–1942 гг. после того, как 29 января 1942 г. умер от истощения муж поэтессы, литературовед Н. С. Молчанов. Впервые строка «Аще забуду тебя, Иерусалиме…» была использована Ольгой Федоровной 9 марта 1942 г. и предваряла дневниковую запись, посвященную ретроспективному взгляду на начало войны и размышлениям о гибели Молчанова9. Второй раз цитированием псалма начиналась запись от 8 июня 1942 г.: « Аще забуду тебя, Иерусалиме … (подчеркнуто Берггольц. — Н. П. ) Сегодня — 12 лет нашей жизни, нашей любви — нашего брака с Колей. Я помню все так, что ничего не надо ни вспоминать, ни записывать» ( Берггольц, 2015 : 234). Показательно, что, цитируя псалом в дневнике, Берггольц рефлектировала о природе памяти и начавшемся процессе аберрации: «…память о Коле вдруг стала сияюще-счастливой» ( Берггольц , 2015: 234). Картина последних дней Молчанова, умиравшего в психиатрической больнице, вытеснилась образом молодого, здорового мужа. Позднее Берггольц называла этот выборочный, избирательный подход при запоминании информации — памятью сердца.
Тема памяти пронизывает все творчество Берггольц, начиная от знаменитой клятвы «не дам забыть, как падал ленинградец / на желтый снег пустынных площадей» ( Берггольц, 2014 : 220) до надписи «Здесь лежат ленинградцы…» на стеле Пискаревского кладбища с вошедшими в национальное сознание словами: «Никто не забыт, и ничто не забыто» ( Берг гольц, 2014 : 274 ).
Заявленная эксплицитно, через эпиграф — «открытую цитату» — эта тема находит развитие в центральном эпизоде поэмы «Твой путь»: происшествии на улице блокадного Ленинграда, жители которого в холодную зиму были озабочены не только повседневными поисками хлеба и продуктов, но также и воды (водоснабжение отсутствовало). Берггольц рисует картину несчастного случая с ленинградцем, который пытался набрать воды из прорвавшейся трубы на Литейном проспекте, но был сбит волной, вмерз в холодный поток и оказался в «ледяной могиле»:
«А люди утром прорубь продолбили невдалеке и длинною чредой к его прозрачной ледяной могиле до марта приходили за водой.
Тому, кому пришлось когда-нибудь ходить сюда, — не говори: “Забудь”» (Берггольц, 1989: 77).
Поэма «Твой путь» подверглась резкой критике еще до выхода в свет. Об этом, в частности, свидетельствует стенограмма заседания правления X пленума ССП СССР от 18 мая 1945 г., хранящаяся в РГАЛИ и частично опубликованная [Горяева: 474–478]. На этом заседании А. А. Прокофьев сначала попенял поэтессе за прежние ее «грехи» («большой обломок русского креста», «зимы варфоломеевской кресты»), а затем остановился на отрывке из поэмы о замерзшем в ледяном потоке ленинградце, назвав этот эпизод «недозволенным»: «…сограждане не могли бы брать воду там, где в лед вмерз их павший товарищ. Это не то, не то» [Горяева: 475]. Берггольц взяла слово и прочитала фрагмент, вызвавший возмущение Прокофьева. Приводим отрывок, в котором имеются разночтения с позднее публикуемым текстом:
«Тому, кому пришлось когда-нибудь отсюда пить, — не говори: “Забудь”. Я знаю все. Я тоже там была, я ту же воду жгучую брала из той же Ленинградской Иордани, где человек, судьбы моей собрат, как мамонт, павший сто веков назад, лежал, затертый городскими льдами» (цит. по: [Горяева: 477]).
Обращает на себя внимание строка — «из той же Ленинградской Иордани», позднее замененная (нет сомнения, что по требованию редактора) на другую. При первой журнальной публикации ( Берггольц, 1945а : 45), в книге того же года ( Берггольц, 1945b : 103), а также еще в трех изданиях10 строка «из той же ленинградской Иордани» была сохранена. Во всех других изданиях, начиная с 195111 по 1989 г. и далее, она печаталась измененной. Ср.:
«…я ту же воду жгучую брала на улице, меж темными домами» (Берггольц, 1989: 77).
Так, вместо «ленинградской Иордани», где совершалось «крещение» блокадой, появилась малосодержательная строка, в которой довольно смутно уточнялось местоположение источника воды — «на улице, меж темными домами», в результате чего текст потерял смыслообразующую функцию.
Акцентируя внимание на приведенном разночтении, подчеркнем, что исходный текст поэмы напрямую коммуницирует с сакральным эпиграфом и поддерживает заявленный в заголовочном комплексе возвышенный стиль и коннотатив-но окрашенную лексику (т. е. вызывающую в сознании читателя библейские, культурно-исторические и другие аллюзии) [Безденежных]. Библейская река Иордан — место крещения Иисуса Христа. Ее священные воды даровали человеку очищение и духовное обновление.
Введение в повествование еще одного библейского знака представляется вполне обоснованным в русле осмысления поэтессой блокадного бытия как испытания. Берггольц выстраивала единое духовное пространство и задавала внутритекстовой вектор: «Иерусалим» — «ленинградская Иордань». Приобщение к «жгучим» водам священного источника означало усвоение горь кого блокадного опыта. Образ «ленинградской
Иордани» — важнейший знак, указывающий на семантическую связь библейского эпиграфа с текстом поэмы на лексическом уровне («Аще забуду…» / «Не говори: “Забудь”») и уточняющий смысловой маркер того, что именно надо помнить. Одновременно Берггольц задавала внетекстовой вертикальный контекст12, предполагая у читателя наличие фоновых знаний, «позволяющих ему сравнить что-то в авторском тексте с чем-то, лежащим за пределами данного произведения» [Храмчен-ков: 32]. Воды блокадной Иордани символизировали возрождение к новой жизни, освобождение человека от «всяческой чепухи», открытие самого себя: «…я новую почувствовала душу, / самой мне непонятную пока» ( Берггольц, 1989 : 76). Таким образом, метафорическая ленинградская купель — место преображения блокадного жителя — резонирует не только с первым, но и со вторым эпиграфом исследуемой поэмы, в котором тема инициации заявлена эксплицитно.
2. Эпиграф из Гете — тема инициации
Вторую позицию в двойном эпиграфе к поэме «Твой путь» занимает строка «Умри — и стань!» из стихотворения «Блаженное томление» («Selige Sehnsucht»), которое входит в цикл стихов «Западно-восточный диван» Гете и завершает раздел «Моганни-наме. Книга певца»13. Приведем четверостишие, из которого произведена цитация, на языке оригинала:
«Und solang du das nicht hast, Dieses: Stirb und werde!
Bist du nur ein trüber Gast Auf der dunklen Erde»14.
«Stirb und werde!» в буквальном переводе имеет следующие варианты: «Умри и возродись!» / «Умри и пребудь!» / «Умри и стань другим!» / «Умри — и стань!». Эталонным поэтическим переводом стихотворения признан текст Н. Н. Вильмонта, в котором интересующая нас строка (выделена нами курсивом) выглядит так:
«И доколь ты не поймешь: Смерть для жизни новой, Хмурым гостем ты живешь На земле суровой»15.
«Блаженное томление» считается одним из наиболее трудных для интерпретации произведений Гете. «Несмотря на сложность стихотворения, вместившего в себя целое мировоззрение Гете, — считает исследователь, — его общий смысл ясен: “Самопожертвование” [точнее — “Завершение”, т. е. “завершение” личности в жертвенной смерти-превращении; первоначальное название “Блаженного томления”] означает для него земное превращение, через которое должен пройти всякий человек <…>. В целом “Блаженное томление” — это стихотворение не о существовании человека, каково оно всегда и везде, — это стихотворение о величайшем порыве, в котором человек отрицает свое тело и утверждает дух и в котором человек на мгновение оказывается у самых оснований бытия» [Михайлов, 1988b: 729–730].
Как и библейский эпиграф, строка «Умри — и стань!» стала предметом рефлексии Берггольц задолго до написания поэмы «Твой путь». Впервые она появилась на форзаце дневниковой тетради за 1937 г.16, что было неслучайно. Это была формула, которая определяла поведение Берггольц во время репрессий «по делу Авербаха». С мая 1937 г. поэтесса была причислена к «приспешникам» идеолога РАППа Л. Л. Авербаха (расстрелянного как «врага народа»), исключена из Союза писателей, из кандидатов в партию и членов профсоюза. Трудный для Берггольц период «хождения по мукам» закончился в июле 1938 г.: после длительных хлопот и апелляций обвинения были признаны необоснованными, и поэтессу восстановили во всех правах, однако долгое время она находилась в положении отверженной. В дневниковой записи от 2 октября 1937 г. изречение Гете прочитывается как комментарий к биографической ситуации Берггольц:
«“Умри — и стань!”
Умру. <…>
Умру. Во имя себя и дела.
Но стану. Всем, что не умрет во мне, а лишь глубже скроется. Умру.
Но — стану, стану, стану» ( Берггольц, 2017 : 475–476).
Осмысление полученного во время репрессий негативного опыта шло у Берггольц параллельно с рефлексией о собственном несовершенстве. Она пыталась отринуть от себя то, что мешало становлению. Жажда обновления для будущей жизни была вновь выражена в дневнике 29 ноября 1937 г. в проекции, заданной Гете: «Умри, и пусть в курган с тобою зароют твое тщеславие, суетность, противоречивость. Нет, не с тобою, а сожгут отдельно. Чтобы, став, больше не пользоваться этим оружием. О, умри, и стань… Умри, умри, умри!‥» ( Берггольц, 2017 : 508).
Предполагаем, что строка из Гете была вновь активирована в памяти Берггольц зимой 1942 г. и рассмотрена ею в качестве эпиграфа для первой блокадной поэмы — «Февральский дневник». В феврале 1942 г., накануне чтения по радио, поэма была направлена в Смольный для получения резолюции. Ее цензурировали «секретари по культуре», оставившие свои пометы на тексте. При этом заведующий сектором печати Ленинградского горкома ВКП(б) А. П. Гришкевич сказал, в частности, следующее: «…сейчас Гёте поднимать мы не будем» (Берггольц, 2015: 163). Nota bene! Канонический текст «Февральского дневника», как известно, не имеет никаких отсылок к Гете, и потому замечание куратора представляется бессмысленным, — если только некая гетевская строка не присутствовала в поэме изначально, а затем была снята по требованию чиновников от культуры. В этом случае резонно предположить, что речь идет о прецедентном для Берггольц тексте: «Умри — и стань!». Косвенное подтверждение тому, что изречение постоянно циркулировало в сознании поэтессы, вновь находим в дневнике. В записи от 8–9 мая 1942 г. Берггольц констатировала превращение себя в «другую»: «Началась, независимо от моей воли, и идет уже совсем-совсем другая жизнь, и я сама — та — тоже как бы умерла» (Берггольц, 2015: 190)17.
Ту же мысль автор выразила и поэтически. В поэме «Твой путь» лирическим субъектом является не доверчивая «девочка с вершины Мамисона», открывавшая свои объятия всему миру, а женщина, хлебнувшая вод «ленинградской Иордани», получившая «крещение» блокадой и ставшая другой . Процитируем еще раз откровение героини: «…я новую почувствовала душу, / самой мне непонятную пока» ( Берггольц, 1989 : 76).
Если эпиграф из Гете изначально предназначался, как мы предположили, к «Февральскому дневнику», то не следует ли рассмотреть его как комментирующий текст ко всему блокадному нарративу Берггольц? В этой связи обращает на себя внимание драматургический опыт поэтессы — пьеса «Они жили в Ленинграде» (1945), написанная в соавторстве с Г. П. Ма-когоненко, и последняя, сугубо авторская ее редакция — «Рождены в Ленинграде» (1961), в самом названии которой акцентируется тема инициации. По замыслу Берггольц, в осажденном городе сформировался особый тип блокадника-ленинградца, которого, независимо от действительного места рождения, следует считать уроженцем Ленинграда — места его духовного становления [Прозорова, 2019: 98]. Исходя из этого, эпиграф «Умри — и стань!» устанавливает метатексто-вую нить со всем блокадным нарративом Берггольц.
3. Семантическая связь заголовочного комплекса с финалом поэмы
Описывая сильную позицию (заглавие, эпиграф, начало и конец произведения) в русле стилистики декодирования, И. В. Арнольд рассматривала «текст не только и не столько как передатчик замысла его создателя, сколько прежде всего как источник информации для читателя, как возбудитель его мыслей и чувств» [Арнольд, 1978: 23]. Организация художественного текста устанавливает «выдвижение на первый план важнейших смыслов текста» [Арнольд, 1978: 24], обеспечивает связность разноуровневых элементов произведения и способствует его пониманию. В этой связи важно понять, как заглавие интересующей нас поэмы соотносится с эпиграфом и финалом.
Начнем с заглавия. Простое, непретенциозное название поэмы «Твой путь» точно передает тему произведения (жизненный путь человека), а в контаминации с именем ленинградской поэтессы — для просвещенной публики — уточняет ее: блокадный опыт ленинградца. По сообщению Т. П. Головановой, название поэмы в рукописях имело варианты: «в черновом автографе ранней редакции — “Твое воскресение” (ЦГАЛИ)»; в авторизованной машинописи: «“[Его] Твоя победа”» [Голованова: 404]. По мнению исследовательницы, эти заглавия свидетельствуют о том, что Берггольц писала поэму «мысленно обращаясь прежде всего к образу Н. С. Молчанова, к его памяти» [Голованова: 405]. Это утверждение имеет под собой основание, поскольку, как уже отмечалось, эпиграф «Аще забуду тебя, Иерусалиме…» возник в дневнике поэтессы рядом с именем умершего мужа, да и в самой поэме неоднократно встречаются обращения к неназванному другу, который «умер здесь, от голода, в подвале, / а я — / я не могла его спасти…» ( Берггольц, 1989 : 78). В контексте уже рассмотренных библейских отсылок особое значение имеют строки, коррелирующие с названием поэмы в ранней редакции — «Твое воскресение»:
«…и для меня везде твоя могила и всюду — воскресение твое» (Берггольц, 1989: 84).
Прошедший свой «крестный путь» и похороненный в братской могиле близкий человек (так хоронили ленинградцев зимой 1941–1942 гг.), по словам Берггольц, «слит со всем» миром, а значит, жив. Отсюда вытекает второй вариант названия поэмы, рассмотренный автором: «[Его] Твоя победа». Обращаясь к ключевой христианской идее — воскресению после смерти, поэтесса вводит в финале поэмы, в сильной позиции, апокалиптическую лексику («трубный глас Москвы»), объявляет «Смерти — смертный приговор» ( Берггольц, 1989 : 84) и, тем самым, сопрягает, закольцовывает библейскую линию, идущую от эпиграфа-псалма.
Согласно авторской интенции, поэма и ее название адресованы Молчанову. Теперь же рассмотрим номинацию произведения изолированно от историко-литературного комментария, вне его, исходя из положения, что само по себе заглавие вызывает у читателя «вполне определенный образ текста» [Иванченко, Сухова: 8] еще до его прочтения. Действительно, вне текста поэмы номинация «Твой путь» была обращена к читателю-современнику с акцентом на местоимении «твой». При этом лексема «путь» означала некий жизненный / духовный опыт, полученный в переломное, катастрофическое время (война, блокада) и объединяющий людей в сообщество (военное и блокадное братство).
В пространстве блокадного Ленинграда слово «путь» приобретало символический характер и представляло собою преобразование «внутреннего человека». В поэме оно касалось лирической героини, максимально приближенной к автору. Она уже не та молодая «девушка с вершины Мамисона», живущая в состоянии активного доверия к миру. Нет больше и той страшной женщины, которая угрюмо смотрит из темного блокадного угла, она — «вчерашняя». Сегодня есть другая, которая встала «в ожогах вся, / в рубцах, в крови, в золе» ( Берггольц, 1989 : 82), посмела желать любви и стала любить. Так, название поэмы конспективно определяет тему произведения, а эпиграф «Умри — и стань!» направляет к идее, поясняет ее.
Вернемся к стихотворению Гете «Блаженное томление», манифестирующему «многогранную полноту жизненного опыта» [Михайлов, 1988b: 729]. Ф. Штрих, один из тонких толкователей Гете, отмечал, что поэт утверждал «земное превращение, неизбежное для любого живого существа, если оно хочет жить, если оно стремится обновить свое бытие. <…> …блаженное томление <…> есть ведь не что иное, как томление по вечно новому становлению, когда личность обновленной выходит из огня» (цит. по: [Михайлов, 1988b: 730–731]). Это становление Берггольц описывала в поэме как счастье:
«Оно несет на крыльях лебединых к таким неугасающим вершинам, к столь одиноким, нежным и нагим, что боги позавидовали б им» ( Берггольц, 1989 : 83).
Заключение
Эпиграф из Гете задавал смысловую и философскую перспективу поэтическому высказыванию Берггольц. Послевоенный читатель не был знаком ни с ним, ни с библейским эпиграфом по цензурным причинам. Это ограничение, т. е. прочтение поэмы с неполным заголовочным комплексом, разрушило связь (заглавие — эпиграф — текст — финал), обеднило художественный смысл произведения, эстетическая информация не была «переработана» читателем [Арнольд, 1978: 24]. «Эпиграфы — отмечает Арнольд, — настраивают читателя на оценку событий» [Арнольд, 2008: 25], а в случае с Берггольц — на оценку блокадного бытия.
Двойной эпиграф к поэме «Твой путь» является прецедентным текстом для Берггольц, девизом ее жизни и источником культурно-эстетической информации об авторе.
Список литературы Статус двойного эпиграфа к поэме О. Ф. Берггольц "Твой путь"
- Абрамов А. М. Поэма О. Берггольц «Твой путь» // Метод и мастерство: [сб. ст.]. Вологда: ВГПИ, 1971. Вып. 3: Сов. литература. С. 162-176.
- Арнольд И. В. Значение сильной позиции для интерпретации художественного текста // Иностранные языки в школе. 1978. № 4. С. 23-31.
- Арнольд И. В. Герменевтика эпиграфа // Слово — Высказывание — Дискурс: междунар. сб. науч. ст. / под ред. А. А. Харьковской. Самара: Самар. ун-т, 2004. С. 8-15.
- Арнольд И. В. Эпиграф и эпитафия // Studia linguistic XVII: язык и текст в проблемном поле гуманитарных наук: сб. СПб.: Борей Арт, 2008. С. 23-28.
- Банк Н. Ольга Берггольц: критико-биогр. очерк. М.; Л.: Сов. писатель, 1962. 171 с.
- Безденежных М. А. Коннотативно окрашенная лексика в эпиграфи-рованном тексте: на материале современной русской поэзии: авто-реф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 1997. 18 с.
- Голованова Т. П. Примечания // Берггольц О. Ф. Собр. соч.: в 3 т. Л.: Худож. лит., 1989. Т. 2: Стихотворения, 1941-1953. Проза, 1941-1954: Говорит Ленинград; очерки и статьи / сост. М. Ф. Берггольц; примеч. Т. П. Головановой. С. 391-426.
- Горяева Т. М. Дневник как жанр документальной исповеди // Берггольц О. Ф. Блокадный дневник (1941-1945) / сост., текстол. подгот. Н. А. Стрижковой; ст. Т. М. Горяевой и Н. А. Стрижковой; коммент. Н. А. Громовой и А. С. Романова. СПб.: Вита Нова, 2015. С. 449-478.
- Зубова У В. Вертикальный контекст в работах отечественных и зарубежных филологов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2013. № 4. С. 62-66.
- Иванченко Г., Сухова Т. Авторские стратегии создания заглавия // Поэтика заглавия: сб. науч. тр. / ред.-сост. А. Н. Андреев, Г. В. Иванченко, Ю. Б. Орлицкий. М.; Тверь: Лилия Принт, 2005. С. 8-17.
- Караулов Ю. Н. Роль прецедентного текста в структуре функционирования языковой личности // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы: докл. сов. делегации / Шестой Междунар. конгр. преподавателей рус. яз. и лит. МАПРЯЛ. М.: Рус. яз., 1986. С. 105-123.
- Лукин В. А. Художественный текст: основы лингвистической теории; аналитический минимум. М.: Ось-89, 2005. 560 с.
- Михайлов А. В. «Западно-восточный диван» Гете: смысл и форма // Гете И.-В. Западно-восточный диван / изд. подгот. И. С. Брагинский, А. В. Михайлов. М.: Наука, 1988. С. 600-680. (a)
- Михайлов А. В. Примечания // Гете И.-В. Западно-восточный диван / изд. подгот. И. С. Брагинский, А. В. Михайлов. М.: Наука, 1988. С. 709-870. (b)
- Павловский А. Стих и сердце: очерк творчества О. Берггольц. Л.: Ле-низдат, 1962. 95 с.
- Прозорова Н. А. Ольга Берггольц: начало (по ранним дневникам). СПб.: Росток, 2014. 288 с.
- Прозорова Н. А. Семантика пространства в художественной картине мира О. Ф. Берггольц // Филологический класс. 2019. № 4 (58). С. 94-100.
- Цуканова Е. М. Семантическая связь эпиграфа с текстом: автореф. дис. . канд. филол. наук. Орел, 2003. 26 с.
- Цурикова Г. Ольга Берггольц. Л.: Знание, 1961. 50 с.
- Храмченков А. Г. Роль эпиграфа в интерпретации художественного произведения. Минск: МГПИ, 1983. 44 с.
- Шкаровский М. В. «Господь дарует нам победу». Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. М.: Познание, 2020. 528 с.
- Hodgson K. Written with the Bayonet: Soviet Russian Poetry of World War Two. Liverpool: Liverpool Univ. Press, 1996. 328 p.