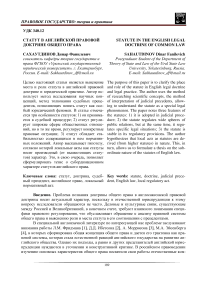Статут в английской правовой доктрине общего права
Автор: Сахаутдинов Динар Фанилевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Международное и европейское право
Статья в выпуске: 4 (58), 2019 года.
Бесплатный доступ
Целью настоящей статьи является выяснение места и роли статута в английской правовой доктрине и юридической практике. Автор использует метод исследования научных концепций, метод толкования судебных прецедентов, позволяющих понять статут как особый юридический феномен. В статье отмечается три особенности статутов: 1) он принимается в судебной процедуре; 2) статут регулирует широкие сферы общественных отношений, но в то же время, регулирует конкретные правовые ситуации; 3) статут обладает стабильностью содержащихся в нем нормативных положений. Автор высказывает гипотезу, согласно которой локальные акты как статуты носят производный (от вышестоящих статутов) характер. Это, в свою очередь, позволяет сформулировать тезис о субординационном характере статутов английского права.
Статут, доктрина, судебный прецедент, английское право, локальный нормативный акт
Короткий адрес: https://sciup.org/142234032
IDR: 142234032 | УДК: 340.12
Текст научной статьи Статут в английской правовой доктрине общего права
Введение. Проблема познания доктрины общего права в англосаксонской правовой доктрины носит актуальный характер, поскольку в отечественной юриспруденции к этому вопросу исследователи обращаются не часто. Деловые и культурные связи, существующие между Россией и Великобританией, в конечном счете, требуют взаимного понимания специфики правового регулирования, что обуславливает обращение к анализу правовой системы общего права и выяснению роли и места статута в его соотношении с прецедентами.
В специальной англоязычной литературе по интересующей нас проблеме заслуживают внимания работы Л.М. Фридмана [ 1 ] , Д.Д. Ибетсона [ 2 ] , А. Моррисона [ 3 ] , М.А. Эйсенберга [ 4 ] , в которых сформирована общая концепция общего права и дается его трактовка как правовой системы, которая стала естественной реакций английского государства на развитие английского общества. Однако их подходы, а равно и других представителей английской юриспруденции нуждаются в уточнении и конструктивной критике. В российском правоведении изучению основных характеристик общего права посвятили свои работы отечественные ком-

паративисты, такие, например, как И.Ю. Богдановская [ 5 ] , М.Н. Марченко [ 6 ] , А.М. Михайлов [ 7 ] и ряд других авторов [ 8 ] . Думается, объединение познавательных усилий ученых разных стран способно дать объективную картину специфики общего права.
Методы . Доктринальные основы статута в англосаксонской правовой традиции, на наш взгляд, целесообразно рассматривать с помощью метода научных спекуляций в двух аспектах: как систему собственно научных, теоретических исследований, предметом которых выступает сущность статута и как систему абстрактных правовых позиций, выраженных в прецедентных решениях англосаксонских судов, и отражающих мнения судебных инстанций относительно сущности статута как правового явления. По этой же причине англосаксонскую правовую доктрину мы будем трактовать как системное явление, формируемое как в рамках собственно научных исследований, так и в прецедентных правовых позициях судов (здесь и далее курсив мой. – Д.С.).
Как свидетельствует прецедентная практика англосаксонских судов, суды Англии понимают статут как нормативно-правовой акт, принятый в установленном порядке органом публичной власти (парламентом, правительством, иным органом исполнительной власти, муниципалитетом) и содержаний общеобязательные правила поведения. Однако такая характеристика статута, безусловно, не является исчерпывающей.
Метод доктринальной интерпретации статута в англосаксонской правовой традиции предполагает анализ научных дефиниций и понятий. По справедливому мнению А.М. Васильева, правовые понятия представляют собой «познавательный образ правовых явлений и процессов» [ 9, с. 88], в этом контексте методологическое значение юридических понятий заключается в том, чтобы «дать ответы на вопросы, что такое право, кто, когда, как, в чьих интересах его использует» [ 9, с. 88].
Результаты. Определяя понятие статута как познавательный образ соответствующего правового явления, можно прийти к заключению, что в статут – явление богатое по своим проявлениям и может быть проведена надежная его классификация. В этом отношении статуты могут быть классифицированы по нескольким основаниям. Как отмечает M. Govindarajan, статуты могут быть классифицированы по трем фундаментальным основаниям:
-
а) по сроку действия;
-
b) по специфике действия;
-
с) по целям действия [ 10].
Иную классификацию статутов предложил классик английского правоведения J. Bentham. По его мнению, все статуты могут быть разделены на следующие виды:
-
а) по сфере действия;
-
b) по времени действия;
-
с) по субъекту принятия и юридической силе [ 11, 141].
В целом можно отметить, что вопрос о классификации статутов в англосаксонской правовой традиции не является однозначно решенным, поскольку правовые системы конкретных государств, входящих в англо-саксонскую правовую семью, характеризуются существенным различием. Так, например, деление статутов на федеральные и региональные характерно для тех государств, в которых сформировалась соответствующая форма государственного устройства (напр., Соединенные Штаты Америки, Индийский Союз), но в то же время не свойственно, к примеру, Англии и Ирландии [ 12, с. 6].
С учетом изложенного, допустимо утверждать, что вариативность классификаций статутов не свидетельствует об отсутствии представлений о сущности статута. Фундаментальным сущностным признаком статута является выражение в нем юридических норм; в этом смысле статут в англосаксонской правовой традиции – это нормативный правовой акт. Такая установка, следуя терминологии венгерского философа и методолога науки И. Лакато- са, – это своего рода «твердое ядро» теоретической концепции статута. Различия в понимании статута касаются в заданном контексте лишь отдельных его особенностей (например, субъектов статутного правотворчества), которые в то же время объединяются общим культурно-когнитивным концептом, а именно – нормативно-правовым характером статута.
Можно, однако, возразить, что такой подход весьма абстрактен. Так, известно, что нормативно-правовыми актами в англосаксонской правовой традиции выступают также прецедентные судебные решения (как правило, это решения высших судебных инстанций) [13, 58]. Означает ли это, что судебный прецедент при данной концептуализации тоже может быть признан статутом? Очевидно, что это не так.
Здесь важно подчеркнуть, что еще одной фундаментальной характеристикой статута, отличающей его от судебного прецедента как источника права, является распространенность его норм на широкий спектр общественных отношений. В то же время в предметнорегулятивном поле прецедента находится лишь строго определенный тип общественных отношений или, как выразился С.С. Алексеев, определенная правовая ситуация как сложное жизненное обстоятельство, требующее правового решения [14, 25-26].
Очень точно такое отличие было выражено в решении Апелляционного суда 9-го округа США по делу United States Internal Revenue Serv. v. Osborne (InreOsborne) [15, 58]. Как отмечается в данном судебном акте, «принцип staredecisis имеет значение только в рамках конкретного дела, то есть комплекса строго определенных фактических и правовых обстоятельств; за их рамками прецедент не имеет никаких правовых свойств». Для наглядной иллюстрации такого отличия прецедента от статута обратимся к примеру из английской судебной практики.
Так, в 1954 г. в Англии был принят закон (парламентский статут) о землевладельцах и арендаторах земли ( LandlordandTenantAct 1954 ) [16]. Данный закон закреплял норму о том, что арендатор вправе по соглашению с арендодателем осуществить перестройку арендуемого помещения; при этом каких-либо отдельных особенностей относительно перестройки той или иной части помещения данный статут не регламентировал. В том же году г-н Фишер заключил с коммерческой организацией договор аренды, предметом которого выступало нежилое помещение. Впоследствии г-н Фишер обратился к арендодателю с просьбой о перезаключении договора, поскольку для целей использования помещения в коммерческих целях ему требовалось осуществить его перестройку, а условие о ее допустимости отсутствовало в договоре. Арендодатель отказал арендатору в этом. Впоследствии арендатор обратился в суд с требованием о понуждении арендодателя к перезаключению договора, ссылаясь на то, что парламентский статут о землевладельцах и арендаторах земли позволяет арендатору осуществлять перестройку арендуемого помещения. Суд первой инстанции, рассматривая данное дело, отказал в удовлетворении исковых требований, мотивируя свою позицию тем, что, поскольку закон не содержит каких-либо требований относительно характера возможной перестройки арендуемого помещения, их установление отнесено к ведению частных лиц, которые действуют на основании принципов автономии воли и свободы договора. Однако иную позицию по делу занял Суд Королевской Скамьи. Постановляя новое решение, суд отметил, что в контексте положений статута, на который ссылались стороны, общее правило касается самой возможности реконструкции арендуемого помещения; при этом конкретные аспекты такой реконструкции, как подчеркнул суд, «могут быть урегулированы соглашением сторон; если же такового нет, или если стороны не могут прийти к согласию, то такие вопросы должен регулировать судебный прецедент, поскольку он, в отличие от статута, регламентирует конкретные стороны социальных отношений в тех случаях, когда их не затрагивает общее положение статута» [17]. Таким образом, проанализированный судебный акт позволяет сделать вывод о том, что статут и судебный прецедент различаются также по сфере регулятивного охвата: статут регулирует большие однородные группы общественных отношений, в то время как прецедент, как правило, одно или несколько общественных отношений.

Еще одно существенное различие между статутом и судебным прецедентом как нормативно-правовыми актами состоит в процедуре их принятия. Прецедент в заданном контексте оформляется в процессуально-правовой плоскости, т.е. в рамках процессуальных отношений между судом и сторонами спора. Статут, в отличие от прецедента, принимается несудебным органом публичной власти. В заданном контексте проявляется также третий критерий различения статута и судебного прецедента; его суть состоит в том, что статут – это более стабильный нормативно-правовой регулятор, чем судебный прецедент. Представляется, что данный тезис нуждается в определенном пояснении.
Известно, что основной принцип прецедента – staredecisis – заключается не только в том, что решение вышестоящего суда является обязательным для нижестоящего, но также и в том, что правовые позиции судов должны быть стабильными [18, с. 249, 251]. Однако если относительно обязательности решения вышестоящего суда для нижестоящего англосаксонские исследователи и судебные учреждения не высказывают каких-либо сомнений, то применительно к вопросу о стабильности (неизменности) судебных прецедентов единогласная позиция отсутствует. Верховный Суд США в известном деле Planned Parenthood v. Casey [19] указал в связи с этим следующее: «Зачастую потребности современной жизни вынуждают нас по-иному взглянуть на привычные вещи. То же касается и судебного прецедента. Если бы мы неукоснительно следовали тем правовым позициям, которые постановляли в своих решениях наши предшественники, то мы, очевидно, не слишком далеко продвинулись бы в правовом развитии нашего общества». Тем самым высшая судебная инстанция США de-facto признала допустимым изменение правовых позиций судов (в том числе и самого Верховного Суда США). По свидетельству С.К. Загайновой, такая ситуация в принципе не является для англосаксонского права экстраординарной: так, зачастую изменение прецедентных правовых позиций диктуется спецификой судебной системы, в частности, той ситуацией, когда суды одного и того же звена, располагающиеся в различных территориях государства, постановляют диаметрально противоположные решения по схожим делам [15, с. 34-35]. Разумеется, статут также может быть изменен или дополнен, однако процедура такого изменения и дополнения значительно сложнее, чем процедура изменения правовой позиции судебного органа. В этом смысле как правовой регулятор статут более стабилен, чем судебный прецедент.
Из вышеприведенного сравнительно-правового анализа следуют, по крайней мере, три особенности статута как источника права в англосаксонской правовой традиции.
-
а) Статут принимается в установленной процедуре (процедуре статутного нормотворчества) уполномоченным органом публичной власти, не относящимся к числу судебных учреждений (к примеру, парламентом, муниципалитетом и т.п.).
-
b) Статут регулирует широкие сферы общественных отношений, в то время как в предметно-регулятивном поле прецедента находятся по преимуществу «правовые ситуации» [20, 71-73].
-
с) Статут характеризуется стабильностью содержащихся в нем нормативных положений; такая стабильность обеспечивается в первую очередь сложной (по сравнению с прецедентом) процедурой изменения и дополнения статута.
-
d) Статут фиксирует в своем содержании совокупность правовых норм, в то время как прецедентным решением устанавливается, как правило, лишь одна правовая норма, объем предметного регулирования которой во многом обусловлен инстанционным положением суда, вынесшего решения.
Данная характеристика статута, тем не менее, не разрешает в полной мере вопрос о его сущности. С приведенной позиции к числу статутов можно отнести как акты парламента, так и акты подзаконного характера (акты министерств и ведомств). Однако в заданном контексте дискуссионным является вопрос об отнесении к числу статутов, так называемых, актов деле- гированного законодательства (delegated legislation), к числу которых, в частности, относятся муниципальные и корпоративные правовые акты (municipal and organizational by-laws).
Следует отметить, что содержание самого правового понятия, обозначаемое термином by-law в англо-саксонской правовой традиции, не является строго определенным; в англосаксонских правопорядках усматриваются вариативные подходы к его определению применительно к категории статута в законодательстве, правовой доктрине и судебной практике. В то же время, как правило, термином by-law обозначается совокупность правовых актов, издаваемых в пределах своей компетенции так называемыми «сообществами» (communities), к которым традиционно относят муниципалитеты, корпоративные объединения (юридические лица) и их отдельный вид, не являющийся юридическим лицом perse – «соседские сообщества» (neighborhood associations) [21, 386-387]. При этом, поскольку в русском языке в целом (и в русском юридическом дискурсе в частности) отсутствует термин, позволяющий наиболее точно передать значение английского термина by-law, наша трактовка термина by-law – «локальный акт», учитывая в то же время, что для целей нашего исследования понятия «локальный акт» и «локальный нормативный акт», утвердившееся в доктрине трудового права, не являются полностью совпадающими ни по содержанию, ни по объему.
Итак, как было отмечено ранее, понятие by-law (локальный акт), в англо-саксонских правопорядках не является однозначно определенным.
В качестве примера обратимся к законодательству Австралийского Союза. Так, согласно статье 3 Закона австралийского штата Новый Южный Уэльс «О делегированном законодательстве» ( Subordinate Legislation Act 1989 * ) [22] характером статута обладают акты муниципальных органов власти и муниципалитетов в целом (в том числе и референдумные акты), но лишь в тех случаях, если это прямо предусмотрено законодательством штата. В другом законе указанного штата при этом отмечается, что статутный характер присущ только тем муниципальным актам, которые регулируют эколого-правовые аспекты муниципальной деятельности [23].
Особенность статутной системы общего права обусловлена властным велением вышестоящего субъекта статутного нормотворчества (парламента, правительства, государственных органов исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов власти субъекта федерации). Тем самым локальные акты как статуты носят производный (от вышестоящих статутов) характер. Это, в свою очередь, позволяет сформулировать тезис о субординационном характере статутов, основанном на их вертикальной иерархии, при которой статутный характер нижестоящего правового акта опосредуется содержанием вышестоящего.
Заключение. Доктринальные интерпретации сущности статута в англосаксонской правовой традиции характеризуются вариативностью теоретико-методологических подходов. В то же время обращение к актуальным данным англосаксонской правовой доктрины, выраженной как в научных исследованиях, так и в прецедентных правовых позициях, позволяет сформулировать следующие выводы:
-
1) В англосаксонской правовой доктрине в настоящее время утвердились два подхода к пониманию сущности статута – широкий и узкий. Согласно широкому подходу, статутами является вся система писаных форм права, которым присущи определенные признаки – нормативность, общеобязательность, нацеленность на неоднократное применение в практике отдельных социальных групп (от общества в целом до участников корпоративного объединения). Такой подход позволяет относить к числу статутов не только конституционные акты, акты парламента и представительных органов субъектов федерации, но и акты делегированного законодательства, локальные акты, нормативные договоры. В силу узкой трактовки статутами признаются только парламентские акты, а сущностно статут отождествляется с законом в континентальной правовой традиции.
-
2) Исходя из теоретико-прикладных контекстов понимания статута ключевым критерием классификации статутов (признаваемым не только научным сообществом, но и судебной практикой) признается критерий происхождения ( the origin criteria ). В соответствии с
данным критерием все статуты подразделяются на первичные (то есть обладающими статутным характером perse, вне зависимости от каких-либо факторов) и производные (то есть статуты, имеющие соответствующие свойства только в силу правила, сформулированного вышестоящим статутом). К числу первых относятся статуты общегосударственного характера (высшие учредительные (конституционные) акты, акты парламента), к числу вторых – акты делегированного законодательства, локальные акты и нормативные договоры.
-
3) Обоснование критерия происхождения в рамках классификации статутов позволяет выдвинуть тезис о системном характере статутного права в целом, который выражается в первую очередь в наличии между статутами различных уровней иерархических связей, которые проявляются в следующем:
-
˗ вышестоящим статутом может определяться статутный характер издаваемых в соответствии с ним правовых актов;
-
˗ отмена статута (в том числе по причине его несоответствия вышестоящему статуту) влечет автоматически утрату силу всеми изданными во исполнение его нижестоящими статутами.
-
4) Статуты как социальные нормативные регуляторы могут быть классифицированы также по ряду других оснований: по сфере действия (общегосударственные, региональные, местные, локальные), по характеру регулирования (дозволяющие, запрещающие, обязывающие), по времени действия (постоянные, временные) и т.п.
-
5) В совокупности вся система англосаксонских статутов образует подсистему статутного права, которое не является отдельной отраслью права по существу и существует параллельно с традиционным для англосаксонских государств прецедентным правом.
Примечание
* Subordinate Legislation Act 1989 // NSW Government Gazzete. 1990. No. 1.
Список литературы Статут в английской правовой доктрине общего права
- Friedman L.M. A History of American Law. 3rd ed. New York: Simon and Schuster, 2005.
- Ibbetson D. J. Common Law and Ius Commune. Selden Society, 2001.
- Morrison A.B. Fundamentals of American Law. NewYork: Oxford University Press,1996.
- Eisenberg M. A. The nature of the common law / Melvin Aron Eisenberg. Cambridge (Mass.); London: Harvarduniv. press, 1988.
- Богдановская И.Ю. Закон в английском праве. М., 1994.