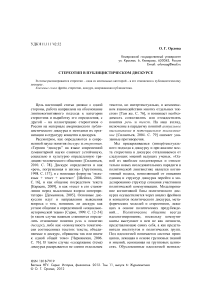Стереотип в публицистическом дискурсе
Автор: Орлова Олеся Геннадьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискурс СМИ
Статья в выпуске: 6 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается стереотип - одна из ментальных категорий - в его отношении к публицистическому дискурсу.
Фрейм, стереотип, дискурс, американская публицистика
Короткий адрес: https://sciup.org/14737846
IDR: 14737846 | УДК: 811.111'42:32
Текст научной статьи Стереотип в публицистическом дискурсе
Цель настоящей статьи двояка: с одной стороны, работа направлена на обоснование лингвокогнитивного подхода к категории стереотипа и выработку его определения, с другой – на иллюстрацию стереотипов о России на материале американского публицистического дискурса и методики их организации в структуру концепта и дискурса.
Рассмотрим, как определяются в современной науке понятия дискурс и стереотип. «Термин “дискурс” на языке современной гуманитарной науки означает устойчивую, социально и культурно определенную традицию человеческого общения» [Силантьев, 2010. С. 78]. Дискурс определяется и как «речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова, 1998. С. 137], и с помощью формулы ‘подъязык + текст + контекст’ [Шейгал, 2004. C. 16], и как общение посредством текста [Карасик, 2009], и как «текст в его становлении перед мысленным взором интерпретатора» [Демьянков, 2005]. Основные дискуссии идут в направлении выяснения вопроса о том, понимать ли дискурс как устное общение в определенной «социальноисторической ткани» [Серио, 1999. C. 12–54] (в таком случае важным становится определить отношение понятия речь к понятию дискурс), либо как «совокупность тематически соотнесенных текстов: тексты, объединяемые в дискурс, обращены так или иначе к одной общей теме» [Чернявская, 2006. С. 76]. В таком случае «содержание (тема) дискурса раскрывается не одним отдельным текстом, но интертекстуально, в комплексном взаимодействии многих отдельных текстов» [Там же. С. 76], и возникает необходимость сопоставлять или отождествлять понятия речь и текст. На наш взгляд, включение в парадигму понятий актуальное высказывание и потенциальное высказывание [Силантьев, 2004. С. 79] снимает указанные противоречия.
Мы придерживаемся (интер)текстуаль-ного подхода к дискурсу и при анализе места стереотипа в дискурсе отталкиваемся от следующих мнений ведущих ученых. «Одной из наиболее плодотворных и относительно новых исследовательских парадигм в политической лингвистике является когнитивный подход, позволяющий от описания единиц и структур дискурса перейти к моделированию структур сознания участников политической коммуникации. Моделирование когнитивной базы политического дискурса осуществляется через анализ фреймов и концептов политического дискурса, метафорических моделей и стереотипов, лежащих в основе политических предубеждений… Политическое общение всегда идеологизированно, поскольку коммуниканты выступают в нем не как личности, представляющие самих себя, а как представители институтов и политических групп. Под идеологией понимается система принципов, лежащая в основе групповых знаний и мнений, основанная на групповых ценностях. Обусловленные идеологией менталь-
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 6: Журналистика © О. Г. Орлова, 2012
ные схемы субъектов политического общения определяют их вербальное поведение, в частности стратегии и риторические приемы, импликации и пресуппозиции, речевые ходы и тематическую структуру дискурса» [Шейгал, 2004. С. 10]. Помимо этого для нас важно и то, что «в многогранной реальности жизни, в ее разносторонних публичных и приватных сферах мы являемся активными участниками различных и многих дискурсов – обиходного, официального, образовательного, научного, политического, публицистического, религиозного, эстетического и др. [Там же, 2010. С. 78]. Газета, тексты которой являются языковой формой существования публицистического дискурса, демонстрирует наличие в них «дискурсных взаимодействий» [Силантьев] разных дискурсов: одной политической идеологии с другой, русской культуры с американской (в рамках межкультурной коммуникации), юристов с обывателями, рекламодателей с обывателями и т. д. Это важно для нас постольку, поскольку каждый из включенных в публицистический дискурс поддискурсов «предоставляет» конкретному публицистическому тексту свой набор дискурсивных знаков, создавая тем самым новые конфигурации дискурсивных связей и новые глубинные смыслы.
В социологии, культурологии, психологии, лингвистике авторами подчеркивается, что в основе стереотипа лежат упрощенные и схематизированные образы или представления, выработанные в процессе социализации и обладающие такими характеристиками, как эмоциональность, оценочность, устойчивость, аксиоматичность и способность воздействовать на поведение и оценки людей в определенных обстоятельствах (В. С. Агеев, А. К. Байбурин, Г. С. Батыгин, Н. Н. Богомолова, Т. Е. Васильева, Л. Г. Гус-лякова, А. И. Донцов, Г. В. Залевский, Е. А. Иванова, Е. Д. Павлова, В. Ф. Петренко, О. Ю. Семендяева, С. В. Силинский, Т. Г. Стефаненко). Стереотипы ассоциативны по своей природе. «Стереотипизация проявляется в том, что многие векторы ассоциаций можно предсказать» [Алимушкина, 2010. С. 14]. Они формируют некоторую упорядоченную совокупность представлений о той или иной сфере действительности и имеют институциональную поддержку. Лингвисты понимают под стереотипом «лингвоментальное образование, конструкт, который сохраняется в сознании с помощью языкового знака» [Чернявская, 2006. С. 53]; «субъективно детерминированное представление предмета, в котором сосуществуют описательные и оценочные признаки и которое является результатом истолкования действительности в рамках социально выработанных познавательных моделей» [Бартминский, 1995]. В исследованиях, посвященных изучению стереотипов, стереотипом предлагается считать совокупность представлений о каких-либо субъектах или объектах действительности. Стереотип – это, как правило, обобщенный образ русского, китайца, мужчины, женщины и проч. «Стереотип – это характеристики, которые описывают членов социальных групп или категории, приписываются им или ассоциируются с ними» [Донцов, Стефаненко, 2008. С. 170]. Например, этнический автостереотип русских исследовался Т. А. Голиковой. По ее мнению, в этнический автостереотип русских входят такие характеристики, как беспечность, гостеприимство, доброжелательность, доброта, душевность, лень, общительность, отзывчивость, открытость, простота, пьянство, терпимость, трудолюбие, честность, отсутствие культуры, наглость, высокомерие, болтливость [Голикова, 2005. С. 19]. Мы полагаем, что стереотип можно рассматривать не как обобщенную совокупность наиболее типичных ассоциаций (например, стереотип русского человека: щедрость, гостеприимность, широта души, водка и т. д.), а как отдельные ассоциации (стереотип о щедрости русского человека и т. д.), приведенные в систему посредством одного фрейма.
Итак, стереотип включается в дискурс посредством фреймов. Вслед за Р. Шенком и Р. Абельсоном мы определяем «фреймы-сценарии» («скрипты») как «когнитивные структуры, описывающие нормальную последовательность событий в частном контексте» (цит. по: [Айвазова, 2011. С. 139]). Темы дискурсов реализуются в различных взаимосвязанных фреймах, т. е. развиваются в дискурсе согласно заданным моделям, существующим в социокультурной памяти относительно ситуаций подобного типа (см.: [Дейк, 1989. С. 140–141]). Другими словами, будучи «устойчивой традицией человеческого общения» [Силантьев, 2010. С. 79], дискурс является некоторой идеологической конструкцией, а фреймы дискурса (т. е. тра- диционные для него, постоянно воспроизводимые знания о некотором нормальном положении дел) выполняют функцию выражения идеологии дискурса. Фреймы имеют структуру, состоящую из элементов – терминалов (доменов или субфреймов, кластеров и слотов и т. п.). По нашему мнению, стереотип – это наиболее типичное содержание терминалов фрейма, отличающееся от простого набора ассоциаций к имени концепта устойчивостью в дискурсе, национально-культурной обусловленностью и эмоциональностью.
По мнению некоторых авторов, идеологии являются содержанием стереотипов [Leyens et al., 1994. Р. 36]. Стереотип, как наиболее часто апеллируемый терминал фрейма, является таковым небеспричинно: общество, воспроизводящее в каком-либо из своих дискурсов одни и те же ассоциации, нуждается в них по причинам психологического порядка. Поэтому, как нам кажется, средствами лингвокогнитивного анализа стереотипов можно выявить идеологическую направленность общества, (вос)произ-водящего дискурс. Более того, исходя из положения, что наиболее фундаментальные представления человечества хранятся в языке дольше всего, можно сделать вывод, что наиболее старые стереотипы являются наиболее предпочтительным для общества образом мыслей. Вероятно, такой анализ может хотя бы частично дать ответ на вопрос о «духе народа».
Обращение к стереотипу в дискурсе в целом отвечает задачам дискурс-анализа. По мнению французских теоретиков дискурс-анализа, одной из основных категорий дискурса следует считать его интертекстуальность. Стереотипы в дискурсе как раз и являются интертекстуальной категорией; они связывают в единое целое дискурс, так как оказываются неизменными выразителями идеологии. Единожды возникнув в дискурсе, они могут стать такими ментальными единицами, которые, наиболее полно отвечая опыту социализации индивида, повторяются в дискурсе, являются своеобразными «опорами» и «преконструктами». «…То, что представлено в предложении в виде имплицитных или стертых предикативных отношений, в связи с которыми можно восстановить предыдущий речевой акт, есть след дискурсивной парафразы, источник которого – высказывание, сделанное “ранее и в другом месте”. П. Анри для обозначения импортированных высказываний, находящих свое место в синтаксической структуре текущего дискурса, ввел понятие преконструкт. М. Пеше, помимо преконструкта, выделил еще одну интердискурсивную форму – “эффект опоры”» [Бурцев, 2011. С. 68].
Анализируя динамику стереотипов, интерпретатор восстанавливает условия возникновения дискурса, «мысленный мир (universe of discourse), в котором, по презумпции интерпретатора, автор конструировал дискурс» [Демьянков, 2005. С. 49], текст изучается как бы «по ходу его создания» [Кубрякова, 2005. С. 29], и при этом учитываются средства передачи знаний от одного поколения другому и поступательность, преемственность дискурса [Бочарникова, 2011].
В данной работе предлагается рассматривать стереотип как отдельный, зафиксированный в более или менее устойчивых формах языка признак концепта, более часто по сравнению с другими воспроизводимый в дискурсе и отмеченный национальнокультурной спецификой. Этот признак встраивается в структуру концепта как терминал фрейма: это не нейтрально-облигаторные понятийные признаки, формирующие ядро концепта, а частотные субъективно-национально-культурные и идеологически обусловленные признаки.
Стереотипы изучались нами на материале американского публицистического дискурса XIX в. и современного американского публицистического дискурса. Тема, избранная для анализа стереотипной (и идеологической) составляющей дискурса, – Россия и русские. Фреймом, который объединяет стереотипы о России и русских, является мегафрейм «Russia». Исходя из анализа семантики языковых единиц, входящих в ближайшее синтаксическое окружение лексем, объективирующих концепт «Russia», сделаны выводы об основных семантических классификаторах, категоризующих концепт [Орлова, 2005]. Эти семантические классификаторы стали основой для формирования первичных и некоторых вторичных (метафоричных) фреймов концепта, а также определили основные родовидовые связи внутри сегментов концепта. Сочетаемость имени концепта предопределяют в его структуре наличие фреймов «государство»,
«страна / территория», «Россия - артефакт / предмет», «Россия - животное», «Россия -человек» и т. д.; субфреймов «жители страны», «культура», «экономика», «эмоциональные признаки России» и т. д. Субфреймы и слоты (сценарии) фреймов выделялись по принципу «встроенности» более мелкой структуры знаний в более крупную [Орлова, 2005]. Переключение внимания на стереотип привело к выделению наиболее типичных ассоциаций в терминалах фреймов, возникающих в дискурсе, часто окрашенных особой эмоциональностью и подчеркнуто национально-культурно обусловленных.
Так, фрейм «государство» включает геополитические стереотипы: «огромная, великая», «противостояния», «источник “холодной войны”», «агрессивна». Эти стереотипы выделялись в дискурсе на основе повторяющихся языковых единиц, возникающих в американских публицистических текстах (XIX-XXI вв.), посвященных России. Основные языковые единицы, выражающие эти стереотипные знания: power / gigant / gigantic / Empire ; bellicose / aggressive ; cold war / Evil empire ; pressing / expansionist ; enemy .
Во фрейм «государство» входят и политические стереотипы. Геополитические и политические стереотипы отграничивались друг от друга в соответствии с типом поддискурса (геополитический, политический и др.), в котором они функционируют. Среди политических стереотипов отмечены: «русские - страдающая нация», «русские политически неграмотны и равнодушны», «демократии в России нет», «отсутствие свободы в России», «разруха в стране», «авторитарное государство», «русские любят сильного правителя», «в России ничего не меняется». Наиболее частотные лексемы, вербализующие данные стереотипы, это: no freedom , suffer ; ruins , totalitarian / KGB ; Czar / Putin.
Социумные стереотипы (передающие содержание представлений о российском обществе и социальных условиях и отношениях в государстве) представлены следующими стереотипами: «бедность», «отсталость», «коррупция», «преступность», «национализм». Эти стереотипы на лексическом уровне поддерживаются языковыми единицами poverty , resourcefulness , corruption , nationalism , crime.
Во фрейм «страна» входят стереотипы, которые передают некоторое «окончательное» знание особенностей географического пространства, на котором проживают жители России. Это этнокультурные стереотипы «снег / зима», «особая страна», «нецивилизованная страна», выражаемые лексемами snow / winter , separate / singular , barbaric / non-civilized.
В составе этого же фрейма выделяются этнокультурные бытовые (предметные) стереотипы: «баня», «дача», «самовар», «водка», «тройка» и проч. Эти стереотипы имеют символьный характер, потому что каждый из названных стереотипов является и своеобразным символом России. За этими знаками закрепились определенные русские образы, которые являются результатом не только чувственного восприятия российской действительности, но и ее философского осмысления. Эти стереотипы в американском публицистическом дискурсе передаются заимствованными словами valenki , samovar , Russian troika , dacha , vodka , banya .
Этнокультурные стереотипы символьного характера (не предметного происхождения) входят в состав фрейма «страна» и определяют русского человека (субфрейм «жители России»). Известным стереотипным представлениям отвечает «русский характер» («находчивость», «удаль», «противоречивость», «любовь к родине»). Синонимичным «русскому характеру» является стереотип «русская душа», заключенная в «русском крестьянине / мужике». В группу этих стереотипов входят также стереотипы «красный», «птица-тройка», «медведь». Лексемы, выражающие данные стереотипные представления: Russian bear , moujik , Russian character / Russian soul ( love for Mother Russia , hospitality / generous, open-hearted / large-minded , make do with less , no seat belts , tolerance, narrow / chauvinistic ) .
Рассмотрим логическую схему выделения стереотипа в составе фрейма. Так, знания о России заключаются во фреймах «государство» и «страна». В составе первого фрейма находятся традиционные знания (слоты) о государственности вообще: о правительстве и правителе, государственной атрибутике, политических и геополитических институтах и проч. В состав фрейма «страна» входят типичные знания о странах вообще: географии и климате, природе и культуре, жителях и их характерах, кулина- рии и т. д. (отсюда ср.: российский флаг / русский флаг; русские песни / российские песни). Субфрейм «жители России» фрейма «страна» одним из терминалов имеет «русского крестьянина» – это ассоциация к теме «Россия», стереотипный образ, с помощью которого можно представить русского человека вообще. Поэтому логическая схема выделения стереотипа «русский крестьянин / мужик» может быть представлена в виде цепочки: Россия → страна → жители страны → крестьяне / мужики. Стереотип «снег / зима» является терминалом субфрейма «природа» фрейма «страна», «тройка» входит во субфрейм «быт» фрейма «страна». Таким образом, происходит своеобразное уточнение структуры концепта. Каждый стереотип верифицируется трижды – частотностью в современной американской публицистике, наличием в американском публицистическом дискурсе более ранних периодов и, наконец, наличием упоминаний о нем в научных исследованиях.
Отметим, что выводы, сделанные в работе, подтверждаются исследованиями, проведенными, например, в политологии. «Политолог Борис Дубин, изучая сознания современных россиян, выделил несколько устойчивых мифологем, в которые свято верит значительная часть народонаселения. Например, это миф о великой державе и о том, что Россия лишилась своего надлежащего места в мире, миф об идеальности первого лица государства (независимо от фамилии), миф о том, что русские – народ исключительный, что кругом – одни враги, миром правят деньги и что Россия – православная страна» [Кудрявцева, 2011. С. 10].
Подведем итоги. Стереотип определен нами как типичное содержание терминалов фрейма, отличающееся устойчивостью в дискурсе, национально-культурной обусловленностью и эмоциональностью. Он встраивается в дискурс посредством фреймов, которые организуют и структурируют типичные для дискурсов и поддискурсов знания в системы. Стереотип имеет опоры и в других дискурсах, таким образом, является интердискурсивной категорией. Стереотипы о России в американском публицистическом дискурсе XIX–XX вв. составляют систему геополитических, политических, культурных, социумных, бытовых стереотипов, которые передают типичные для со- ответствующих поддискурсов схематичные образы России.
A STEREOTYPE IN THE JOURNALISTIC DISCOURSE
ON PUBLIC AND SOCIAL ISSUES