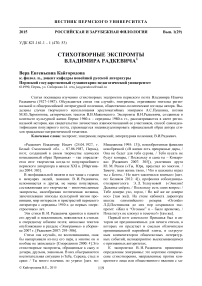Стихотворные экспромты Владимира Радкевича
Автор: Кайгородова Вера Евгеньевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 1 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению стихотворных экспромтов пермского поэта Владимира Ильича Радкевича (1927-1987). Обсуждаются стихи «на случай», эпиграммы, отразившие эпизоды региональной и общероссийской литературной полемики, общественно-политические взгляды автора. Выделены случаи творческого использования хрестоматийных эпиграмм А.С.Пушкина, поэзии М.Ю.Лермонтова, сатирических текстов В.В.Маяковского. Экспромты В.И.Радкевича, созданные в контексте культурной жизни Перми 1960-х - середины 1980-х гг., рассматриваются в свете региональной истории, как свидетельство личностных взаимоотношений ее участников, способ самоидентификации популярного поэта, стремящегося индивидуализировать официальный образ автора стихов гражданско-патриотической тематики.
Экспромт, эпиграмма, пермский, литературная полемика, в.и.радкевич
Короткий адрес: https://sciup.org/14729359
IDR: 14729359 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Стихотворные экспромты Владимира Радкевича
«Радкевич Владимир Ильич (24.04.1927, г. Белый Смоленской обл. – 07.06.1987, Пермь), поэт, создавший в своем творчестве одически возвышенный образ Прикамья» – так определяется итог творчества когда-то популярнейшего пермского литератора в начале XXI в. [Маргиналы 2004: 303].
В неофициальной памяти и все чаще с годами в мемуарах людей, знавших В. И. Радкевича, вспоминается и другая, не менее популярная, составляющая его творчества – многочисленные экспромты, своеобразная поэтическая мозаика, запечатлевшая эпизоды культурной жизни провинции, мир интересов и пристрастий пермского литератора с середины 1950-х до первых «перестроечных» лет.
Эти стихи В. И. Радкевича хранятся в памяти его друзей и поклонников, появляются в статьях к очередному юбилею поэта; несколько текстов опубликовано в разделе «Эпиграммы» в сборнике 2007 г. [Радкевич 2007: 295–306].
Стихи «на случай», по воспоминаниям, «как бы выпархивали из-под его пера, а многие он и вообще не записывал» [Смородинов 2000: 4].Это стихотворные экспромты, обращенные к сыну и дочери, друзьям, знакомым. В них обыгрываются воспитательная ситуация («Тебе, Сережа, стыд и срам: / Ты много плачешь по утрам» [цит. по:
Мишланова 1995: 13]), новообретенная фамилия новобрачной («В жизни есть прекрасные дары, / Она не будет для тебя сурова. / Тебя кусать не будут комары, / Поскольку и сама ты – Комарова» [Радкевич 2007: 305]), увлечения друга Ю. М. Рекки («Ты, Юра, преуспел во многом. / Замечу, зная жизнь твою, / Что в шахматы играл ты с Богом, / Но матч закончился вничью» [цит. по: Беликов 2012: 4]), профессия собеседницы-отоларинголога Э. Л. Толкуновой («Эмилия! Дыханье спёрло, / Поскольку есть один вопрос: / Тебе доверю ухо, горло, / Но всё же не доверю нос» [там же]). На стене кабинета директора школы олимпийского резерва «Огонёк» Л.Д.Постникова до сих пор сохранился экспромт: «Жил в “Огоньке” я – было времечко, / Пока петух не клюнул в темечко!» [там же].
Первый поэт советского Прикамья был и автором не предназначенных для печати стихов, в которых он предстает и смелым обличителем провинциальной партийной элиты, и остроумным комментатором общесоюзных литературных событий, нелицеприятно высказывающимся о признанных авторитетах.
К экспромтам В. И. Радкевича применимо определение эпиграммы: это короткие сатирические стихотворения, направленные против конкретного лица или общественного явления с ха-
рактерным динамичным развитием темы и неожиданной острой концовкой, подчеркиванием, заострением осуждаемых черт объекта. «Как во всякой сатире, в эпиграмме, за небольшими исключениями, отчетливо отражается общественно-политическая позиция автора, его симпатии и антипатии» [Мануйлов 1958: 6].
Сохранившиеся эпиграммы разнообразны по тональности. Творчество В. И. Радкевича высоко ценили Ярослав Смеляков, Борис Ручьев, Николай Старшинов. Пермский поэт был популярен, особенно в шестидесятые годы, в столичных литературных кругах. Так, хлебосольный, гостеприимный ленинградец Виссарион Саянов «часто оказывался объектом дружеских шаржей и эпиграмм» [Хренков 1975: 128]. Одна из них принадлежит перу В. И. Радкевича: «Встретил я Саянова, / Трезвого, не пьяного. / Трезвого? Не пьяного? / Значит, не Саянова!» [Радкевич 2007: 299]. Текст свидетельствует и о знакомстве автора с популярной устной эпиграмматикой, являясь вариантом знаменитой эпиграммы на популярного артиста МХАТа Б. Н. Ливанова.
Поводы для сатирических высказываний В. И. Радкевича конкретны, чаще связаны с новинками литературы, кругом чтения советской интеллигенции. Это стихотворные экспромты, «рассчитанные на устную аудиторию, хорошо знавшую и адресата эпиграммы, и участников литературной полемики, и ее общественноидеологический контекст» [Мушина 1998: 5]. Не раз используется характерный прием комментирования текста, вынесенного в эпиграф, как в эпиграмме на критика, автора обзорных статей о современной поэзии Ал. Михайлова. Цитата из статьи в популярном ежегоднике «Поэзия – 76» об «отставании» современной поэзии от времени становится основанием эпиграмматического портрета: «Жужжит он, как веретено / Все сеть плетет для эпохального! / Глядь-поглядь, опять полно / Корытце критика Михайлова. / С прут-ковской важностью угрюмою, / Словес блудливых прародитель, / Твердит: «Мне думается», «Думаю»… / И всем понятно: он мыслитель!» [Радкевич 2007: 301]. В ироническом отклике на публикацию мемуаров «Люди и странствия. Воспоминания и встречи» (1962) Л. В. Никулина (1891–1967) потенциальные читатели книги обозначены как «России верные сыны»: «Он вспоминать не устает. / И все, что вспомнит, издает. / И это все читать должны / «России верные сыны»!» [там же]. В 1952 г. за этот роман Л. В. Никулину была присуждена Сталинская премия, и упоминание текста становится указанием адресата эпиграммы. На обыгрывании созвучия имен основан отклик на публикацию в издательстве «Художественная литература» в
1971–1973 гг. пятитомного собрания сочинений Н.М.Грибачева (1910–1992): « Я труды твои отведал, / Прочитал твои тома, / Вижу, ты не Грибоедов, / Горе здесь. Но нет ума» [там же].
В. И. Радкевич реагирует на литературные эпиграммы, выражающие тенденции времени. В 1962 г. «Юность» опубликовала для «будущих исследователей» юмористическую «Малую энциклопедию», объективно обозначившую единство и популярность поколения «шестидесятников»: «Энциклопедия журнала / Поведает о «стариках», / Что, не смыкая глаз, бывало, / Качали “Юность” на руках» [Малая энциклопедия «Юности» 1962: 11]. Эпиграмма на Евгения Евтушенко констатировала официальное признание включенности его в историю литературы: «То бьют его статьею строгой, / То хвалят двести раз в году, / А он идет своей дорогой, / И …бронзовеет на ходу» [там же: 23]. Реакцией на эпиграмму стало стихотворение В. И. Радкевича 1962 г. «Модный писатель». Перекличка финалов недвусмысленно указывает на адресата: «Пророк, провидец, свысока / Не говорит, а изрекает, / Слова из чрева извлекает, / Как пятаки из кошелька…И не сегодня, и не завтра / Он не поймет свою беду: / Идет походкой динозавра / И – вымирает на ходу» [Радкевич 1964: 62–63]. Новое состояние литератора, недавно бывшего «хорошим парнем», расценивается как начало конца искреннего художника. Развитием полемики стало написанное в том же году одно из самых популярных стихотворений В. И. Радкевича «О молодости»: «Молодость сочтя за преимущество, / Только ей, как божеству, кадим, / Надобно особенное мужество, / Чтоб не оставаться молодым» [там же: 3]. В разных вариантах оно, как выражение творческого кредо, будет включаться во все сборники поэта.
Для своего времени высказывания В. И. Радкевича были острыми, небезопасными для их автора. Показательно, что эпиграмма-портрет С. В. Михалкова в связи с его награждением четвертым орденом Ленина (1983): «Он гений по трудам и блатам, / Наградам, званьям нет конца, / И каждый орден – как заплата / На бедном рубище певца» [Радкевич 2007: 300] – опубликована и в наши дни без указания адресата. Включенная в сборник 2007 г., она стала ироническим портретом среднестатистического «генерала-классика».
Читая эпиграммы В. И. Радкевича, можно проследить смену культурных приоритетов общества. Общий для времен «застоя» и первых «перестроечных» лет интерес к телевидению выражается в появлении пародий на героев популярных передач. Не раз адресатом эпиграмм становится ведущий популярной развлекательной программы «Вокруг смеха» (1878–1990) поэт-пародист А. А. Иванов. Ему посвящены «маленькие фельетоны», небольшие стихотворения «в виде диалогической сценки или бытовой картинки пародийно-насмешливого характера. Отправной точкой «маленького фельетона» служит конкретный жизненный факт, о котором часто сообщается в эпиграфе. Данный факт в стихах часто переосмысливается, утрируется, и в то же время мы чувствуем отношение к нему автора, если не открытое, то подспудное» [Васильев 2000: 24]. Примером «маленького фельетона» является «Дискуссия между попугаем и пародистом А. Ивановым», представляющая собой монолог ведущего, завершающийся утверждением: «Я не дурак. А попугай – кретин. / Не верите? Спросите у Хазанова» [Радкевич 2007: 302]. Грубовато пародируется допущенная Ивановым вульгарность: «Я буду в «М» ходить до самой смерти, / Хотя меня и посылают в «Ж» (А. Иванов). Стилизуя особенности лексики оригинала, В. И. Радкевич развивает монолог, ставший эпиграфом пародии: «Дорожка пародиста глаже скатерти, / Успех порой пьянит сильней вина. / Вот и сейчас – качусь к такой-то матери, / Хотя меня и посылают – НА» [там же].
Пародическое цитирование строк классиков – один из любимых приемов В. И. Радкевича. В откликах на участие актера М. Боярского в шоу «Музыкальный ринг» (1984–1990) используются цитаты из известных пушкинских эпиграмм. «К портрету Чаадаева»(1820): «Он носит волею небес / Мундир то мушкетерский, то гусарский…/ Он в Риме был бы Брут, в Афинах –Периклес. / А здесь он – Миша, недоросль Боярский». На М. С. Воронцова (1824): «Полу-актер, полупевец, / Полу-пижонство, полу-чувства…/ На «Ринге» стало явным наконец, / Что здесь в нокауте – искусство!» [там же: 303].
Мемуаристы, характеризуя общественные взгляды поэта, неоднократно говорят, что он не был диссидентом. Сохранившиеся политические эпиграммы В. И. Радкевича немногочисленны. Но, как и большинство интеллигентов «кухонного периода», он высказывался на актуальные лично для него темы. Декларация Маяковского «у советских собственная гордость» обыгрывается в «Оде ядерным взрывам в Пермской области»: «Давно мы привыкли: коль надо, так надо! / И к ядерным взрывам привыкнем отныне, / Хоть, в общем-то, Пермь – не пустыня Невада, / И нам далеко до атолла Бикини…/ Мы взрывами всякими будем гордиться – / В народном хозяйстве нам все пригодится!» [там же: 298].
В.И.Радкевич, в свое время с отличием защитивший в университете диплом о сатире В.Маяковского, обращался к ее образности не- однократно, особенно в годы «перестройки». Осенью 1985 г. в стране было создано Всесоюзное добровольное общество борьбы за трезвость, что сразу породило множество анекдотов, эпиграмм. Реакция В. И. Радкевича оформлена с использованием знаменитого назидательного текста для детей: «Такой, товарищ, век пришел, / Такая пришла эпоха, /Что трезвому очень у нас хорошо, / А пьянице – очень плохо» [цит. по: Чернова 1997: 2]. Председателем Пермского областного общества трезвости был избран ректор медицинского института Е. А. Вагнер, вскоре после этого побывавший в редкой в те годы заграничной командировке. Факты эти послужили темой экспромта: «Профессор Вагнер побывал в Шри-Ланке, / Беседовал с премудрыми людьми. / Он всю Шри-Ланку отучил от пьянки, /Но трезвых не прибавилось в Перми» [Радкевич 2007: 297]. Воспроизводимая автором в разных аудиториях эпиграмма бытовала в нескольких вариантах: менялся ее пуант, героем которого становился не абстрактный «народ», но друзья и знакомые поэта.
Как и многие современники, В. И. Радкевич воспринимает «перестроечные» процессы с надеждой на обновление общества. Отставку на Пятом съезде кинематографистов С. Ф. Бондарчука (1920–1994) он увидел как освобождение от авторитарности, официоза. Воплощением этих черт представляется поэту экранизация «Бориса Годунова» (1986), в которой в полном составе снялась многочисленная семья режиссера. Цитата из пушкинского монолога Бориса становится резюме эпиграммы: «Немало лет он царствовал спокойно, / Но вел себя при этом непристойно: / Все роли в фильме роздал приближенным, / А в том числе и двум любимым женам. / Поэтому, ища пути иного, / Вся Русь восстала против Годунова. / Ведь истина по-пушкински проста: / “Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!”» [там же: 303].
В 1987 г., незадолго до кончины, В. И. Радкевич отправляет в журнал «Крокодил» две страницы эпиграмм. Уже несколько лет шестидесятилетний литератор, ранее признаваемый первым поэтом Прикамья, пребывает в творческом кризисе, почти не пишет и не публикует стихов. Восприятие происходящего в стране как реализацию принципов свободного высказывания пробуждает в нем желание следовать общей тенденции: обнародовать написанное ранее «в стол», без надежды на публикацию. Это и выражение стремления принять в процессах обновления личное участие. Эпиграммы, появившиеся в рубрике «Трусцой на Парнас! Читательский сатирический турнир» рядом со стихами инженера из Миасса, председателя ОСВОДа города Рога- чева, московского искусствоведа, рабочих, служащих, бухгалтеров, написаны с ироническим использованием советских идеологических штампов, образности Маяковского: «Один министр – поборник празднословья – / Был снят по состоянию здоровья, / Когда такой «больной» поста лишается, / Здоровье у народа улучшается» [Комарова 1987: 13]. Как и другие участники конкурса, поэт озабочен несоответствием декларируемых либеральных лозунгов и их практического воплощения: «Любой начпупс с трибун не первый год / За перестройку нас зовет бороться. / Но перестройка в ведомствах идет / С отрывом, так сказать, от производства!» [Радкевич 2007: 298]. Стоит отметить известную осторожность автора: эпиграммы он предлагает журналу от имени другого лица – дочери-студентки, снимает конкретную адресацию самых острых текстов.
Представляется, что самое интересное, оригинальное в экспромтах, эпиграммах В. И. Радкевича – мозаика культурной жизни провинции, активным участником которой поэт был всегда. С годами тексты требуют комментария, утрачивают остроту и в то же время остаются памятником эпохи, ее своеобразным дневником, деталью портрета талантливого человека.
Есть стихи и комплиментарного свойства. Выражение добрых чувств к артистам пермских театров нередко включает окрашенные легкой иронией аллюзии на классические тексты. Это баллада А. С. Пушкина в стихах Виктору Саитову (1941–2007), обыгрывающих исполнение актером роли М. В. Фрунзе в фильмах «Большая – малая война» (1980), «Огненные дороги» (1984), «Борющийся Туркестан» (1984): «В кино – ведь как оно бывает – / Героя часто убивают. / А я видал Саитова, / Живого, не убитого» [Радкевич 2007: 296]. Лермонтовские строки вплетены в посвящение «Звездам пермских театров», народным артисткам СССР, примам оперы и драмы К. К. Кудряшовой (1925–2012) и Л. В. Мосоловой (1918–1996): «Все-таки талант всему основа, / Входит космос в театральный быт. / Кудряшова спорит с Мосоловой – / И звезда с звездою говорит» [Радкевич 2007: 296].
Чаще всего, что естественно, В. И. Радкевич обращается к собратьям-литераторам. Совет начинающему журналисту Никите Чернову: «Мы жить могли куда б получше, / Но каждый в чем-то бестолков. / А жизнь, в отличье от поэзии, / Не признает черновиков» [Легенды о Владимире Радкевиче]. Достаточно жесткая характеристика несовпадения пафоса текстов и морального облика местного автора: «Любимая моя! / тебя в стихах / Всегда одну/ и целовал, и миловал / Потом повел / на половецкий шлях / И там тебя / в канаве изнасиловал» [цит. по: Смородинов 2000: 4].
Многочисленные стихотворные экспромты связаны с регулярно проводившимися, ныне забытыми «Днями советской литературы в Прикамье», когда В. И. Радкевич, самый популярный поэт Перми, приветствует от имени родного края гостя, многолетнего ответственного секретаря Кировской писательской организации О. М. Любовикова, обыгрывая его редкое имя: «И по-камски, и по-вятски, / По-соседски и по-братски, / Любя, а не завидуя, / Встречаем мы Овидия» [Радкевич 2007: 299].
В обращении к писателю с Алтая В. Н. Попову, автору «производственной» прозы, подчеркивается близость хозяевам праздника тематики его книг: «Уральский читатель сдружился с Поповым, / В общее – думы, заботы, дела…/ Чтоб стать вдохновенным писательским словом, / Рабочая тема всей жизни была!» [Радкевич 2007: 299]. Романтичен портрет Юлии Друниной, гостьи «Дней» в 1978 г.: «Хранят поэзии страницы / И боль потерь, и труд войны – / И дальней юности зарницы / В ее глазах отражены» [там же].
Постоянный идеологический контроль, ситуации, связанные с особенностями партийного руководства печатью, продвижением книг были хорошо знакомы журналисту В. И. Радкевичу. Типична отсылающая к «Стихам о советском паспорте» сцена из жизни друга, И. Ф. Садриева, заведовавшего в 1976–1989 гг. в областной газете «Звезда» отделом сатиры, материалы которого подвергались особо жесткой правке: «Глазами добрыми дядю выев, / Идет к редактору Садриев» [Радкевич 2007: 297].
В списках ходил и хранится до сих пор в личных архивах перепев «Слова о полку Игореве» – коллективный портрет пермского чиновничества начала 1980-х во главе с легендарным «царем Борисом» Б. В. Коноплевым «Слово о полку Всеволодовича». Эпиграммы В. И. Радкевича – своеобразное дополнение этой поэмы, характеристики отдельных колоритных персонажей и ситуаций. Л. А. Соляник, ведущая солистка Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, народная артистка РСФСР, была депутатом городского и областного советов, на заседаниях которых активно поддерживала предложения И. П. Быковой, секретаря по идеологии Пермского обкома КПСС, что породило экспромт, адресованный единомышленницам: «Между двух партийных нянек / Вос-питалася Соляник. / Вот ведь как бывает: / Инна Быкова поет – / Соляник подпевает!» [Радкевич 2007: 296]. Память коллег-журналистов сохранила и тексты игривого свойства. «Местную но- менклатуру, вплоть до секретарей обкома, Радкевич одарил эпиграммами разной степени стервозности, так сказать, «в зависимости от заслуг». Об одной, которая про себя говорила, что она не женщина, а партийный работник, Володя выдал такой «перл»: «Я обкомов не боюсь. / На партда-мочке женюсь. / Буду щупать сиськи я / Самые марксистские» [Смородинов 2000: 4].
Эпиграммы были формой серьезного диалога с друзьями-земляками: за иронией в них прочитываются моменты самоопределения, как, например, в комментарии «Портрета поэта В. Радкевича»(1978) работы Е. Н. Широкова. В.И.Радкевич изображен в духе «сурового стиля» на монументальном крупноформатном полотне. Фоном написанной крупными мазками в экспрессивных свинцово-синих и багровокрасных тонах фигуры служат диагональ булыжной мостовой, темная северная река и, на дальнем плане, бетонный пролет моста, закрывающего горизонт. Картина производит сложное, тревожное впечатление. «Одним из яростных пророков / Изобразил меня Широков. / Измазал синей, красной краской. / Я на себя смотрю с опаской» [Радкевич 2007: 299]. В реакции поэта соединяются ирония и удивление неожиданной для него масштабностью, драматичностью трактовки оригинала.
В. И. Радкевич и детский писатель Л. И. Давыдычев (1927–1988) были близкими друзьями, ходившими друг к другу в гости «в тапочках, благо жили рядом» [Биккель 2001: 11]. В диалоге этих известных острословов есть и полемика об образе жизни, характерном для каждого. Нередкое состояние В. И. Радкевича запечатлел Л. И. Давыдычев: «Лежит поэт, судьбой сражен, / Сквозь косточки пророс бурьян. / Все думают, что умер он, / А он на самом деле пьян» [цит. по: Биккель 2001:11]. В ответной эпиграмме грубовато-демонстративно утверждается свобода от официоза, с которым много лет была связана деятельность Л. И. Давыдычева, руководителя пермской писательской организации, по долгу службы постоянно контактировавшего с партийными идеологами, работавшего под их непосредственным руководством, «ходившего в бурках», по определению поэта: «Мы все живем – единым домом. / О Левочка, умерь свой пыл. / Ходил ты в бурках по обкомам, / А я в уборную ходил» [Радкевич 2007: 297].
Показателен шутливый диалог с поэтом Г. Ф. Семеновым, редактором «Спутника «Крокодила», сатирического журнала пермского моторного завода, по поводу стихотворения «Сад декабристов». В. И. Радкевич «разместил» липовую рощу в Разгуляе, которую, по преданию, сажали «те, с кем дружен был Пестель и близок
Рылеев» [цит. по: Красноперов 2001:148], на берегу Камы, на месте сквера имени Ф. М. Решетникова, в пермском обиходе, «Козьего загона». Г. Ф. Семенов написал по этому поводу: «Володька Радкевич в дерзаньях неистов. / Такое спроворить сумел только он. / Воспел он всемирно, как Сад Декабристов, / Любимый пьянчугами “Козий загон”» [цит. по: Смо-родинов 2000: 4]. В. И. Радкевич парировал: «Ну, дорогой товарищ мой Семенов! / Ты безнадежно пал в моих глазах. /Козлу везде мерещатся загоны. / Орел парит свободно в облаках» [там же]. В признании фактической ошибки содержится и утверждение права свободной интерпретации поэтом явлений действительности, фантазии, способности «парить в облаках».
Шутливая полемика с друзьями читается сегодня как утверждение В. И. Радкевичем своего особого места в кругу земляков-художников, как стремление дополнить портрет официального певца Урала и Камы чертами стихийного таланта, склонного к импровизации, свободного от многих догм времени. Именно таким остался В. И. Радкевич в неофициальной пермской литературной истории.
Список литературы Стихотворные экспромты Владимира Радкевича
- Беликов Ю. Вызов богам//Звезда (газ.). 2012. 24 апр. С.4.
- Биккель Л. Верните детям Ивана Семенова!//Аргументы и Факты. Прикамье (газ.) 2001. 4 июля. С.11.
- Радкевич В.И. Вечность нас пригласила в гости: Стихи. Пермь: ООО «Маматов», 2007. 352 с.
- Васильев В. Белый взгляд на эпиграмму//Русская эпиграмма. М.: Худож. лит., 2000. С.5-26.
- Гурин И. Южная «ссылка» Радкевича//Звезда (газ.). 2003. 13 июня. С. 8.
- Комарова Л. «Один министр -поборник празднословья..»//Крокодил. 1987. № 21. С.13.
- Красноперов Д.А. Правда и вымысел некоторых пермских мифов//Страницы прошлого: Избранные материалы краеведческих Смышляевских чтений в Перми. Вып. третий. Пермь, 2001. С.144-148.
- Легенды о Владимире Радкевиче. URL: http://vetta.tv/news/city/18921 (дата обращения: 12.11.2014).
- Малая энциклопедия «Юности»//Юность. 1962. № 10. С.11-85.
- Мануйлов В. Предисловие//Русская эпиграмма (XVIII-XIX вв.). Л.: Сов. писатель, 1958. С.5-32.
- Маргиналы: Уральский андеграунд: живые лица погибшей литературы. Челябинск; Пермь: Изд. дом «Фонд «Галерея», 2004. 218 с.
- Мишланова Л. Неизвестный Радкевич. «Лежу на кровати и песни горланю.»//Звезда (газ.). 1995. 10 ноября. С.13.
- Мушина И. «На копьях эпиграммы острой..»//Русская эпиграмма XVIII-XIX вв. М.: Сов. Россия, 1988. С.3-18.
- Радкевич В.И. Под звездами. Лирика. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1964. 80с.
- Радкевич Л. Воспоминания об отце//Радкевич В.И. Вечность нас пригласила в гости: Стихи. Пермь: ООО «Маматов», 2007. С. 204-206.
- Смородинов М. Был болен тем, чем вся земля больна//Звезда (газ.). 2000. 11 февр. С. 4.
- Хренков Д.Т. Виссарион Саянов: путь поэта. Л.: Сов. писатель, 1975. 279 с.
- Чернова Т. Неизвестный Радкевич//Вечерняя Пермь (газ.).1997. 29 апр. С.2.
- Штраус О. Истинный Лев//Звезда (газ.). 2000. 14 янв. С.4.