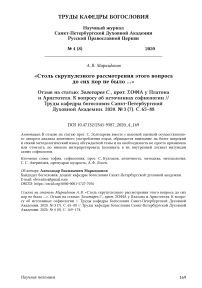"Столь скрупулезного рассмотрения этого вопроса до сих пор не было...". Отзыв на статью: Золотарев С., прот. у Платона и Аристотеля. К вопросу об источниках софиологии // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии. 2020. № 3 (7). с. 65-88
Автор: Маркидонов Александр Васильевич
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Научная полемика
Статья в выпуске: 4 (8), 2020 года.
Бесплатный доступ
В отзыве на статью прот. С. Золотарева вместе с высокой оценкой осуществленного автором анализа античного употребления σοφια, обращается внимание на более широкий и емкий методологический извод обсуждаемой темы и на необходимость не просто принимать или отметать, но именно интерпретировать (понимать в их внутренней логике) интуиции самих софиологов.
София, софиология, прот. с. булгаков, античность, методика, методология, с. с. аверинцев, премудрая мудрость, а. ф. лосев
Короткий адрес: https://sciup.org/140294181
IDR: 140294181 | DOI: 10.47132/2541-9587_2020_4_169
Текст научной статьи "Столь скрупулезного рассмотрения этого вопроса до сих пор не было...". Отзыв на статью: Золотарев С., прот. у Платона и Аристотеля. К вопросу об источниках софиологии // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии. 2020. № 3 (7). с. 65-88
Ссылка на статью: Маркидонов А. В. «Столь скрупулезного рассмотрения этого вопроса до сих пор не было …». Отзыв на статью: Золотарев С., прот. ΣΟΦΙΑ у Платона и Аристотеля. К вопросу об источниках софиологии // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 3 (7). С. 65–88 // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 4 (8). С. 169–174.
PROCEEDINGS OF THE DEPARTMENT OF THEOLOGY
Scientific Journal
Saint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church
No.4 (8)
A. V. Markidonov
“There has never been such a scrupulous consideration of this issue…”
Review of the article: Zolotarev S., archpriest. ΣΟΦΙΑ in Plato and Aristotle. On the Question of the Sources of Sophiology. Proceedings of the Department of Theology of the St. Petersburg Theological Academy , 2020, no. 3 (7), pp. 65–88
DOI 10.47132/2541-9587_2020_4_169
About the author: Alexander Vasilievich Markidonov
Candidate of Theology, Associate Professor of the Department of Theology of St. Petersburg Theological Academy.
Article link: Markidonov A. V. “There has never been such a scrupulous consideration of this issue…”. Review of the article: Zolotarev S., archpriest. ΣΟΦΙΑ in Plato and Aristotle. On the Question of the Sources of Sophiology. Proceedings of the Department of Theology of the St. Petersburg Theological Academy , 2020, no. 3 (7), pp. 65–88. Proceedings of the Department of Theology of the Saint Petersburg Theological Academy , 2020, no. 4 (8), pp. 169–174.
Статья прот. С. Золотарева привлекает наше внимание к весьма сложной и многозначной «софиологической» проблематике1, понемногу осваиваемой в последние десятилетия, но все еще сохраняющей и неразрешенные моменты, и непроясненные связи, а для кого-то — и некоторое обаяние.
Настоящее исследование руководимо стремлением отчетливо (на терминологическом уровне) прояснить возможность или невозможность, по отношению к позднейшей софиологии (кон. XIX — первой половины XX вв.), говорить об ее античных истоках или, точнее, об ее истоках в античной философии (конечно же, как отдаленных, но, может быть, и основополагающих).
В научной литературе уже были опыты обзора «софийной» терминологии и, в том числе, применительно к теме источников «софиологии». Автор статьи об этом не говорит специально, возможно потому, что сам предпринимает практически сплошной и фактически изначальный обширный анализ наследия Платона (и платоников) и Аристотеля в связи с понятием «софии». И, насколько нам известно, столь скрупулезного рассмотрения этого вопроса до сих пор не было.
Интерпретация данной темы («софийности» античного умозрения) со стороны самих софиологов остается за рамками статьи. Делается только предварительный вывод: «у обоих философов (Платона и Аристотеля) σοφια не персонифицируется, поэтому истоки позднейших софиологических спекуляций скорее следует искать» (С. 86) в других текстах, в других культурных пространствах.
Известно, конечно, что сами софиологи (например, прот. С. Булгаков: см. пространный экскурс в Свете невечернем; рефлексия над опытом созерцания храма константинопольской Софии — в Записной книжке от 9 (22) января 1923 г.) находили в платонической традиции глубокую основу для построения своей концепции.
С учетом этого, можем ли мы просто остановиться на таком, например, сродном автору рассматриваемой статьи заключении: «То, что Булгаков отождествляет с Софией у Платона, Аристотеля и Плотина, — это может быть что угодно, но совсем не то, что называли мудростью — софией они»2. В любом случае, остается вопрос о мотивации, о внутренней расположенности софиологической мысли к осознанию себя в платонических представлениях.
Прот. С. Золотарев с полным основанием оставляет этот вопрос за рамками осуществляемой им необходимой подготовительной работы — рассмотрения самого понятия «софии» в античных текстах. Поэтому дальнейшие наши соображения будут высказаны лишь по поводу статьи, имея ввиду возможную и даже отчасти обозначенную автором перспективу исследования. Но все же и в самой статье есть некоторые основания для постановки вопроса о методе такого исследования. Безупречность и, на данном этапе, оправданность применяемой в обсуждаемой статье методики не теряет ли из виду методологии, т. е. более общего крупного масштаба исследования, в котором вертикаль большого глубинного смысла не растворялась бы в горизонтали частных, плотно привязанных к тексту наблюдений?
Вот пример. Затрагивая вопрос о возникновении понятия «премудрости» (и самой лексемы в такой именно форме) в славянском переводе греческой σοφια, автор приводит мнение С. С. Аверинцева, возводящего названную превосходную степень слова σοφια к Дионисию Ареопагиту: «как это и делает Псевдо-Ареопагит»3. Однако такое объяснение, говорит прот. С. Золотарев, не может быть принято, поскольку «компьютерный поиск по всему корпусу текстов греческого языка в электронной базе TLG показал, что слово «ὑπερσοφία» отсутствует не только в Ареопагитском корпусе, но и вообще в древнегреческом языке» (С. 68). Казалось бы, нечего сказать, вопрос решен. Но только на уровне методики, ее терминологического инструментария.
С. С. Аверинцев, конечно же, не имея доступа к «компьютерному поиску», ошибся, утверждая, что у Дионисия есть слово «υπερσοφια». И выяснить это было необходимо и хорошо. Но разве в Ареопагитском корпусе не имеет места, не сохраняется последовательно и не определяет смысл понятий сама логика движения от просто и только σοφια к υπερσοφια? Разве не прав Аверинцев, утверждая, что «философская концепция, доведенная до полной четкости Псевдо-Дионисием Ареопагитом, требует прибавлять ко всем атрибутам Бога трансцендирующую прибавку υπερ- («сверх» в традиционной передаче «пре»-): Бог не αγαθος («благий»), но υπεραγαθος («преблагий») и т. п.»4? В конце концов, даже с методической точки зрения разве не важно, что у Дионисия неоднократно находим-таки если не буквально υπερσοφια, то υπερσοφος (Σοφος, от которого как будто и σοφια) и даже υπερσοφος σοφια: «если о Божественной мудрости говорится, что она начало, причина, основание, совершение, сохранение и предел самой мудрости, и всякой мудрости, и всякого ума, и смысла, и всякого чувства, то как же сам Бог воспевается как премудрая мудрость (υπερσοφοςσοφια)». (О Бож. Именах. 7, 2. Пер. А. Ф. Лосева).
И если мы примем во внимание эту высшую или глубинную логику смысла, то разве не верно будет сказать, даже решительнее, чем это у Аверинцева, что «при переводе на церковно-славянский язык» не «как бы», а безусловно «было усмотрено ареопагитское» трансцендирующее, апофатизирую-щее начало. Усмотрено не обязательно текстуально, но в том, что Аверинцев называет «верхним течением» культуры — в полноте традиции. Именно потому — что не цитируются по тексту, а восприемлются в своем еще сверх-и пред-текстовом посыле — «в церковно-славянском языке речения на «пре»-употребляются еще щедрее, чем в сакральной греческой лексике»5.
Собственно, работая со статьей С. С. Аверинцева, нет нужды искать новых формулировок для различения того, что лежит в области методического, аналитического инструментария и того, что понуждает за пределами текста или сквозь него усматривать более общий и, может быть, для известного мироощущения более актуальный смысл — идти от понятия к символу. «История культуры, — пишет по этому поводу С. С. Аверинцев, — которая есть в своей существеннейшей части история человеческой символики, имеет свою “арифметику” и свою “алгебру”. Первая занимается теми значениями символов, которые текстуально засвидетельствованы для данной эпохи, для данного — и притом возможно более узко взятого — культурного круга. Полезность такого анализа и его принадлежность к позитивному историко-культурному знанию никому не придет в голову брать под сомнение. (…) Но что делать с фактами, которые мы встречаем в русле той же самой мировоззренческой традиции, в том же самом потоке, но, так сказать, выше по течению? Здесь дело идет о высшей математике гуманитарных наук, в которой есть свои “бесконечно малые”, не поддающиеся недвусмысленному обнаружению сами по себе, но весьма осязательно влияющие на общий баланс. Обойтись без учета их невозможно…»6.
И может быть, с учетом этих «бесконечно малых» величин культуры и ее как бы сверх-текста, исследователь софиологической проблематики способен прийти относительно вопроса об ее античных истоках и к положительному выводу, полярному к ранее нами отмеченному, например, у Н. А. Вагановой. «Имеется один античный термин, — пишет, к примеру, А. Ф. Лосев, — который прекрасно выражает собой такой принцип («тождества выражаемого и выражающего». — А. М. ), который функционирует не просто как таковой, но и активно развивается во всем другом, активно его порождает, сам, однако, пребывая в нетронутом виде. Этот термин — “ мудрость ”, или, по-гречески sophia. В своем буквальном виде до неоплатоников он фигурирует довольно редко. Однако решительно все основные категории бытия и мышления, как их понимает античность, всегда именно софийны , то есть всегда функционируют как активно-осмысливающее порождение. (…) Софийность в античности есть принадлежность решительно каждой основной категории мышления и бытия»7.
А. Ф. Лосев, конечно, конгениален софиологической мысли первой половины XX века и как таковой в известной мере субъективен, но и отказать ему («схоласту-имяславцу», по определению современного философа8) в способности к философской аналитике, к работе с терминологией, вряд ли кто-то отважится. Другое дело, что занимая первый этаж в его концепции античной культуры, аналитика оставляет или, точнее, подготавливает место для обобщений более высокого порядка, где уместнее мыслить не только в категориях логики, но и в категориях, а иногда уже и в символах эстетики .
А с эстетикой, кстати сказать, связываются уже и начатки персонификации — усмотрения «идей» как «образов» и «ликов», или даже «статуй»
(αγαλματα), как они названы, например, у Плотина (Енн. 5, 8, 4) как раз в связи с описанием природы σοφια.
Так что, не совсем уже неожиданно и безосновательно, в отношении к такому своему платоническому истоку, в ранних опытах С. Н. Трубецкого София определена как «вечное воображение Бога. Но это воображение абсолютно и вселенски объективно, а потому и всесильно. (…) Мысль мудрости Божией не есть абстрактное понятие, образующееся путем отвлечения. Она есть, как сказано, конкретная божественная идея или образ, который находится в конкретном же и вселенском соотношении со всей бесконечной совокупностью образов, так что каждый есть по себе и род и индивид — целый мир в индивиде. А так как все эти образы безусловно объективны, предметны, то их совокупность, их вселенский иконостас образует мысленно — умное Тело Бога…»9.
Остается выразить надежду, что эти попутные к содержанию статьи прот. С. Золотарева замечания не будут бесполезны в перспективе дальнейшей разработки темы, к освоению которой наш автор уже приступил с большой осведомленностью и основательностью.
Список литературы "Столь скрупулезного рассмотрения этого вопроса до сих пор не было...". Отзыв на статью: Золотарев С., прот. у Платона и Аристотеля. К вопросу об источниках софиологии // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии. 2020. № 3 (7). с. 65-88
- Аверинцев С. С. К уяснению надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской. Прим. № 9 // Его же. София-Логос. Словарь // Азбука веры. URL: https:// azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/sofija-logos-slovar/212_2#note9 (дата обращения 23.03.2021).
- Бонецкая Н. К. Имяславец - схоласт // Вопросы философии. 2001. № 1. С. 123-142.
- Ваганова Н. А. Софиология протоиерея Сергия Булгакова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. 464 с.
- Золотарев С., прот. ΣΟΦΙΑ у Платона и Аристотеля. К вопросу об источниках софиологии // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 3 (7). С. 65-88.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: в 2 кн. Кн. 2. М.: Искусство, 1994.
- Трубецкой С. Н. О святой Софии Премудрости Божией // Вопросы философии. 1995. № 9. С. 120-168.