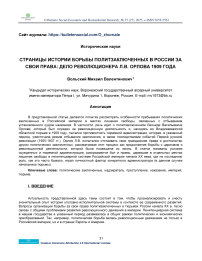Страницы истории борьбы политзаключенных в России за свои права: дело революционера Л.В. Орлова 1909 года
Автор: Вольский Михаил Валентинович
Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial
Статья в выпуске: 25 (27), 2025 года.
Бесплатный доступ
В представленной статье делается попытка рассмотреть особенности пребывания политических заключенных в Российской империи в местах лишения свободы, связанных с отбыванием установленного судом наказания. В частности, речь идет о политзаключенном Леониде Васильевиче Орлове, который был осужден за революционную деятельность и, находясь во Владикавказской областной тюрьме в 1909 году, пытался противостоять тюремной администрации, которая, в указанный период, ужесточала режим отбывания заключения, в связи последствиями событий Первой русской революции (1905-1907 гг.). Орлов Л.В. попытался отстаивать свои гражданские права и достоинство других политических заключенных, рассматривая этот процесс как продолжение борьбы с царизмом и революционной деятельности, которой была посвящена их жизнь. В статье показаны условия осужденных и тюремной администрации, раскрываются быт и нравы, царившие в отдельных местах лишения свободы в пенитенциарной системе Российской империи начала ХХ века, где не последнюю роль, как это часто бывало, играл личностный фактор конкретного администратора (в данном случае начальника тюрьмы).
Политические заключенные, надзиратель, преступление, наказание, империя, тюрьма
Короткий адрес: https://sciup.org/14132751
IDR: 14132751 | DOI: 10.5281/zenodo.14900398
Текст научной статьи Страницы истории борьбы политзаключенных в России за свои права: дело революционера Л.В. Орлова 1909 года
Актуальность представленной здесь темы состоит в том, чтобы проанализировать и учесть значительный опыт истории уголовно-исполнительной системы в контексте ее современного развития. Вопросы организации борьбы за свои права политизаключенных в тюрьмах России начала XX в. тесно связан с общими проблемами развития революционного движения в империи. Пенитенциарная система в нашем государстве в указанный период развивалась в общих рамках политических и экономических преобразований. Так, например, политическая борьба велась революционным движением не только в Российской империи, но и в странах Европы и Америки.
В настоящее время существует потребность обращения к истории взаимоотношений власти и революционных течений в русском обществе, обобщения и анализа указанного материала, относящегося к внутренней политике царского правительства начала XX в.
Необходимо подчеркнуть, что в указанный период государство осознавало необходимость усиления борьбы с революционерами, в том числе и за счет ужесточения режима в местах лишения свободы, где иногда ситуация выходила из-под контроля администрации. Поэтому Министерство юстиции, к власти которого с 1895 г. относились места лишения свободы, в 1904 г. утвердило новые «Правила о порядке содержания в тюрьмах гражданского ведомства политических арестантов», которые предусматривали строгую изоляцию для политарестантов по сравнению с уголовниками и другими категориями осужденных. Тем не менее, часто администрация местных тюрем была не в состоянии обеспечить выполнение этих новых более строгих правил, например, из-за давления со стороны общественных институтов, переполненности тюрем в начале ХХ в., особенно после событий Первой русской революции (1905-1907 гг.) и делопроизводственной неразберихи на местах. Находившиеся в предварительном заключении политические арестанты должны были содержаться в местах лишения свободы на основаниях, установленных для соответствующих категорий общеуголовных арестантов.
Таким образом, изучение указанной темы представляет несомненный интерес, как для специалистов, так и для широкого круга интересующихся историей правоохранительных структур России начала ХХ века.
II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Интересен тот факт, что в дореволюционной (до 1917 г.) историографии исследования тюремных структур нашей страны, изучению различных сторон жизни политзаключенных в местах лишения свободы в Российской империи было посвящено не так много исследований, которые в основном делали акцент на анализе бытовых вопросов (например, статья Тахчогло Н. Об условиях отбывания наказания политическими заключенными. Право. 1907. Номер 20.).
Затем, уже в годы советской власти, указанная проблема приобретает более актуальное значение, в связи с разносторонней деятельностью в 1920-30-е гг. созданного в СССР Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Под эгидой указанной организации появились многочисленные публикации, в которых рассматривались разные стороны жизни и борьбы политических заключенных в местах лишения свободы царской России против тюремной администрации, а также методы их противодействия руководству мест лишения свободы в борьбе за свои права (например, монография Виленского-Сибирякова В. Д. Политкаторжане: Каторга и ссылка в русской революции. М., 1925; а также сборник Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Каталог изданий за 1921–1934. М., 1931–1935. т. 1-2 и др.). Отчасти, стремление такой категории осужденных как политзаключенные к отстаиванию своих прав, в сравнении с другими арестантами, например, уголовным элементом, было вызвано целым рядом обстоятельств. Необходимо отметить, что до революции 1917 г. царским правительством было издано несколько нормативных актов, касающихся политзаключенных. Так, в соответствии с циркуляром от 13 июля 1880 г. № 240 «О временных правилах по содержанию и пересылке политически неблагонадежных», регламентировался ряд вопросов, касающихся ссылки арестованных в административном и уголовном порядке по политическим делам. Согласно Высочайшему Повелению Александра II от 28 июля 1879 г. указанные правила предписывали для пересыльных политзеков, включая «лиц привилегированного сословия», одевать во время пути кандалы, особенно в случаях «обнаружения намерения к побегу или неповиновения». Тем же документом разрешался для указанной категории и провоз багажа до пяти пудов, который мог брать с собой политссыльный. Однако уже в 1889 г. вес багажа был уменьшен до тридцати фунтов, а для осужденных на каторжные работы – только до пяти фунтов. Более подробно условия содержания политических были определены в таком документе как «Правила содержания политических арестантов в губернских и уездных замках и пересыльных тюрьмах» от 29 февраля 1886 года.
iff
Эти правила отделяли политических заключенных от уголовных, подследственных и административных осужденных. Для так называемых «политических» повсеместно в местах заключения допускались различные послабления в режиме. Им разрешалось иметь свою одежду, многочисленные предметы быта (посуду, личные принадлежности, обувь, табак, чай, сахар и пр.), частыми были здесь и свидания с родными и близкими. Также разрешалось иметь свой «отдельный стол», т.е. питаться за личные деньги, отдельно от остальных осужденных. В документах конца XIX в. по тюремной части мы находим множество примеров послабления в режиме и содержании политических заключенных, которые, содержались отдельно от остальных категорий арестантов, могли читать периодическую прессу и писать письма и жалобы.
Изменения режима для указанной категории заключенных происходит после событий Первой русской революции (1905-1907 гг.). Так, например, многочисленными тюремными циркулярами и правилами вносились ограничения в жизнь и быт политзеков. Например, ограничения касались чтения целого ряда книг (допускалось иметь лишь книги «серьезного и научного содержания»), а для категории политкаторжан правила усиливали дальнейшие ограничения, допуская лишь книги «духовного и нравственного содержания». Чтение газет и журналов запрещалось. Кроме того, за неповиновение тюремному начальству (например, отказ от приветствия при его встрече или не снятый головной убор и пр.) осужденного могли поместить в карцер на хлеб и воду на несколько дней. Все это вызывало протесты среди образованной и воспитанной на гуманистических принципах «человеколюбия» категории осужденных-революционеров, многие из которых были из числа русской интеллигенции. Хотя среди революционеров были активные представители террористических организаций, стремившиеся к насильственному изменению существовавшего в то время самодержавного строя. Дело политического заключенного профессионального революционера Л.В. Орлова, который уже неоднократно отбывал наказание в различных местах лишения свободы Российской империи, о злоупотреблениях администрации во Владикавказской тюрьме в 1909 г. стоит особняком в череде многочисленных политических дел указанной эпохи.
Необходимо отметить, что Л.В. Орлов, находясь в заключении, во Владикавказской областной тюрьме за революционную деятельность пытался заступиться за права осужденных, находившихся вместе с ним, и постоянно направлял письменные жалобы в различные инстанции, в том числе и канцелярию местного губернатора.
Он писал о том, что во Владикавказской тюрьме заключенные терпят ужасные страдания, и в том числе их испытывал и он сам, поэтому Орлов считал своим долгом обратиться в вышестоящие инстанции с изложением всего, что происходило в указанной тюрьме в 1909 г. и просил принять меры к устранению совершающихся беззаконий.
Как отмечал указанный политзаключенный в своем письме на имя губернатора от 24 февраля 1909 г. ему удалось, «находясь непродолжительное время во Владикавказской областной тюрьме, достаточно ознакомиться с характером местной тюремной администрации и всем тем режимом, который там царил». Начальника тюрьмы Иванова Орлов знал еще раньше в 1905 г., когда будущий хозяин места заключения исполнял в ней обязанности фельдшера, поэтому о нем можно было дать более подробную характеристику. Так, как образно отмечал в своем письме на имя губернатора Орлов, «уже сам переход Иванова-фельдшера в начальники областной тюрьмы, говорит о том, что последний имел известные заслуги в тюремном деле, умел грубо обращаться с арестантами и получил огромное доверие со стороны областного руководства. Иванов обладал злым, мстительным и настойчивым характером. Будучи еще фельдшером, он свой характер пробовал на арестантах, а начальству льстил. Злость, мстительность, лесть и умственная ограниченность – этих качеств, как видно, достаточно, чтобы быть "примером правителя тюрьмы", а у такого человека, сделавшегося неограниченным хозяином тюрьмы, обыкновенно развиваются пропорционально повышению его дурные качества. Вся эта метаморфоза с Ивановым произошла, да еще прибавилась пятая ненормальность – самодурство, присущее каждому властолюбивому правителю – "из хама не сделаешь пана". Вся администрация тюрьмы при этом была такой же как ее начальник. По усмотрению хозяина тюрьмы подобраны были его помощник Ендовицкий и старшие надзиратели – Васильченко и Алехин, а также весь почти состав служителей.
Начальник тюрьмы деспотически правил своим царством, а его помощники служили, как видно только для вида, ибо не имели решительной власти, что-либо разрешать заключенным, будь это даже пустяковая просьба или заявление».
Далее осужденный-революционер писал, что «посреди Ивановского озера есть один помощник начальника - г. Кожелуб, который был заметнее в хорошем обращении с заключенными, еще обладает добрыми человеческими качествами, в нем они не убиты затхлой тюремной атмосферой. Как администратор, он, только будучи дежурным по тюремному корпусу проявлял свою власть с лучшей стороны, позволяя арестантам некоторым льготную жизнь. Эта некоторая самостоятельность г. Кожелуба, выводит начальника Иванова из себя и он, не показывая своего неприязненного к нему чувства, подкапывается под него, распуская разные слухи».
Описывая существующий режим во Владикавказской областной тюрьме, Орлов Л.В. ссылался на слова самих арестантов, которые описывая свое положение отмечали, что «оно не важное, а Пахан (так называли заключенные начальника тюрьмы) здесь нам все - и Царь и Бог» (Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1405. Главное тюремное управление Минюста. Оп. 539. Д. 529. Л.12). Интересно и образно описывает Орлов поведение начальника Владикавказской тюрьмы Иванова, который "обходит по коридорам тюремного корпуса, камеры, чтобы убедиться в том, что он царь, для заключенных. Громкие грубые окрики на арестантов, как громовые раскаты несутся по длинным коридорам и почти вся тюрьма слышит его бешенство - «Не разговаривать! Положи на место!..» и т.п. Эти окрики не бросаются им только в воздух, а обыкновенные подкрепляются систематическими, моральными и физическими истязаниями заключенных, которые находятся в его власти. Того арестанта, на которого кричал начальник называют "опальным". Крик и шум Ивановым поднимается, в большом случае из-за того, что арестант позволил себе с ним рассуждать - не теряя человеческого достоинства и логики доказывает ему о необходимости уважить его требование, но очень часто бывает и так, что Иванов позволяет себе кричать на арестанта без всякого повода со стороны последнего, совершенно беспричинно, только потому, что ему не понравилась, почему либо физиономия заключенного". Так проявление своей власти Ивановым, конечно, нельзя считать нормальным явлением и оно может быть объяснено только присутствием в нем большой дозы - самодурства и плюс личной ограниченности. Было бы терпимо еще, если самодурство было бы минутной вспышкой и не влекло за собой дальнейших испытаний. Кто попадает начальнику в опалу, тот должен знать, что ему придется много от него перетерпеть всяческих оскорблений и физических насилий». На опального осужденного немедленно надевали наручники или кандалы и сажали его на месяц или на два в темный карцер. Продолжительное заключение в нем оставляло свой след в личности «опального» скверное питание - ежедневно хлеб и вода, истощали организм. Холодный, сырой, грязный, асфальтовый пол, на котором приходилось спать узнику только в одном нижнем белье, без постельных принадлежностей -губили его здоровье непоправимо. Так, как отмечал в своем письме Орлов ему «пришлось видеть, как отразился «особый» режим на попавшем в опалу к начальнику, заключенном Клименченко, как отразилось карцерное положение на здоровье того, кто там побывал. Клименченко мы видели до карцера, тогда на полных щеках у него играл румянец, как вечерний летний закат солнца на облачках, он не жаловался ни на какие болезни. Но вот нам пришлось увидать его при выходе из карцера. Из здорового, жизнерадостного человека осталось только одно воспоминание, на глазах наших был только призрак от бывшего Клименченко, мы едва, едва его узнали после того, как пристально пригляделись: бледное земляного цвета лицо, ввалившиеся глаза, окаймленные синими кругами и резко обрисовывающиеся скулы. Вся голова его походила на череп покойника с провалившимся вместо глаз впадинами, вырытой только что из земли. После карцерного положения опального переводят в секретку, где сидят, или умалишенные, или "смертники", так всюду называют арестанты приговоренных к казни... Такой же участи подвергнулся и Клименченко. Сначала он несколько дней просидел с умалишенными, а потом был переведен к "смертниками" уголовным и пережил среди людей, которым "ничего не хорошо на этом свете", ужасную нравственную пытку. Все это обрушилось на него за то, что, он не хотел идти по вызову мирового судьи на разбор дел в качестве обвинителя по какому-то несерьезному делу, начатому им не самим еще тогда, когда он сам был вне тюремных стен. Клименченко в суд был по приказу Иванова доставлен подгоняемый ударами солдатских прикладов.
Так приказал поступить с ним солдатами начальник и его бешенное состояние и крик: «Взять его в приклады!», чувствовали и слышали все заключенные, находящиеся в камере по коридору № 4-й».
Приведенный случай не был единичным, их было множество, поданных прокурору Владикавказского Окружного суда, но последние почти всегда оставались без ответа, или давался на них шаблонный, для всех одинаковый ответ: «жалоба арестанта оставлена без последствия». Жалобы же от заключенных часто поступали прокурорскому надзору, в некоторых можно найти доказательные изложения беззаконных деяний начальника Иванова, а также и описание устроенного им в тюрьме режима. Прокурор Владикавказского Окружного суда Зайцев должен был бы обратить особое внимание на т.н. «докладную записку» политического заключенного – каторжанина Александра Семеновича, поданную ему в декабре 1908 г. В ней подробно автором докладной записки описывается местный тюремный режим и все неправильные действия тюремного начальника и его подчиненных. В жалобе А. Семенович вскрывает причины всех тех аномалий, которые резко бросались каждому в глаза на основании двухгодового знакомства с характером администрации, а также знакомства со средой арестантов, составленной из разных социальных элементов, национальностей, наклонностей и темпераментов.
Кроме того, жалоба Орлова подтверждалась также изложенными письменно соображениями о том, как «можно устроить режим и надзор во Владикавказской тюрьме» его товарищем революционером Александром Кировым, в докладной записке на имя Окружного прокурора. Здесь Киров дает правдивую характеристику тюремной администрации и главным образом «хозяина тюрьмы» Иванова, которая сходится с оценкой Л. Орлова.
Кроме того, обращаясь в письме на имя губернатора Орлов писал, что «у господина прокурора Зайцева в канцелярия под сукном лежат многие жалобы арестантов на начальника тюрьмы Иванова, расправляющегося с ними ни за что, ни про что, как ему вздумается. Так, без сомнения, рассматривая в портфеле прокурора бумаги, нам удалось заполучить копии некоторых жалоб, очень характерных по содержанию, но оставленных прокурором без рассмотрения.
Позволим себе целиком привести следующие два документа: «1) Его Превосходительству господину прокурору Владикавказского Окружного Суда. От содержащегося в Владикавказской областной тюрьме Ованеса Мисесьянца. Прошение. Как-то вечером, несколько дней назад, я вышел одновременно с прочими на тюремный двор за кипятком. Во дворе меня встретил начальник тюрьмы и сразу же он начал кричать на меня, а потом приказал призвать конвой, заковав меня в ножные и ручные кандалы посадил в темный карцер. Теперь меня держат в «секретке» и я не знаю за что на меня обрушились вот эти наказания. Ведь когда осуждают на смертную казнь, то и тогда преступнику объявляют, за что именно он наказывается… Но здесь все иначе. Крайние средства наказания обыкновенно применяются ведь в крайних случаях, а я не давал никакого повода к этому. Усердно прошу Вас посетить тюрьму, что бы я мог рассказать всё подробнее. Ованес Мисесьянц. 2) 5 ноября 1908 г., камера № 17, в которой я (Олимпий Чистянов – прим. авт.) сидел тогда, послала меня в числе других просить г. начальника тюрьмы об увеличении пищевого довольствия или же о том, чтобы отменить ежедневную кашу, (варят ее лишь три раза в неделю), а пайку хлеба увеличить до двух с половиной фунтов. При изложении мною этой просьбы господину начальнику тюрьмы, он стал кричать на меня, говоря: «Я положу тебя на месте!». Я только спросил его «За что?», тогда мне велели вернуться из коридора обратно в камеру. Но камера была заперта и я не мог исполнить приказание, ибо ключей от камеры не имею, а отпирать камеру без ключей не умел.
Пришлось сказать «камера заперта». И потому, что камера была заперта, и я не мог сквозь запертую войти в нее, меня заковали в ручные кандалы и посадили на неделю в карцер, а теперь держат в секретной камере. Ваше Превосходительство! Посетите тюрьму и опросите всех очевидцев этого события, дабы проверить все то, что здесь теперь делается. На бумаге всего не опишешь. Жизни моей угрожает опасность, от которой я прошу вас защитить меня. Олимпий Чистянов» (Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1405. Главное тюремное управление Минюста. Оп. 539. Д. 529. Л.18).
Комментировать эти жалобы не нужно, они ясно говорят о самодурстве начальника Владикавказской тюрьмы в указанный период. Кроме перечисленных уже грубых издевательств над заключенными начальник Иванов пускал еще в ход другие способы наказания, более утонченные, между которыми можно отметить, например, следующие: во-первых, устанавливалась за каждым шагом «опального» каторжника слежка, каждое пророненное последним слово в камере ли, как и во время прогулки во внутреннем дворике, становилось известным администрации, сколько стаканов выпивал этот арестант чаю и это доносилось. Существовали арестанты-шпионы, развитие действий которых поощрялось руководством. Во-вторых, указанные же шпионы пользовались среди арестантов, как правило, уважением и авторитетом за ум, настойчивый, смелый характер и товарищеское обращение со всеми своими товарищами, как уравненными общей роковой судьбой. Эти же «шпионы-товарищи» и распускали самые гнусные слухи и сплетни, чтобы уронить авторитет, кого-либо из сокамерников. В-третьих, не считаясь с заявлением врача или фельдшера, больному заключенному не только не давалась необходимая для здоровья обстановка, но умышленно администрация тюрьмы наоборот требовала от последнего строгого исполнения всех тюремных правил и, толкуя их, как вздумается, осужденного, же подвергала всяческим дисциплинарным взысканиям "за ослушание", за "сеяние правоты". Эти утонченные пытки пришлось переносить товарищам Кирову, Мисесьянцу, Орлову и другим заключенным-революционерам. Систематическое и очень продолжительное применение к тов. Кирову подобного рода нравственных пыток вынудило последнего написать резкое, но правдивое заявление начальнику Иванову, сказать ему прямо, что он палач. Вот содержание этого письма: «Г-ну начальнику Владикавказской областной тюрьмы. С половины апреля 1909 г., Вы и некоторые Ваши ближайшие помощники систематически преследуете меня, и преследование это идет беспрерывным. За что? - спрашивал я Вас еще три месяца назад, но до сего времени не получил ответа. Категорически утверждаю, что я, вел себя здесь безукоризненно, все время и во всем подчиняясь тюремному режиму, а также с достоинством переносил все Ваши утонченные издевательства. Мне прекрасно известно, что перечень крутых мер по отношению ко мне Вами еще далеко не исчерпан. Против грубой физической силы в стенах тюрьмы у меня нет физических средств обороны, да я до них и не охотник. А на силу духа и сдержанность Вы не привыкли обращать внимание. При данных условиях тот или иной смертельный конец для меня здесь не избежен. Кончайте же со мною скорее - так будет лучше и для Вас: не стоит тратить кровь и время попусту. «По закону» Вам все возможно! Социалист Александр Киров. 9 августа 1909 г.» (Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1405. Главное тюремное управление Минюста. Оп. 539. Д. 529. Л.24).
Дело революционера, политзаключенного Кирова является ярким примером политики усмирения указанной категории арестантов со стороны администрации тюрьмы. По сути, это предсмертный крик измученного всяческими пытками человека, ведь каждая строчка товарища социалиста говорит об этом. Помимо указанных мер наказания, которые использовались руководством Владикавказской тюрьмы здесь необходимо упомянуть и о других дисциплинарных взысканиях, которым подвергались политические заключенные. Это сажание всей камеры на "парашку" на целый месяц за провинность одного, лишение свиданий, переписки, прогулок и т.п. Данные практикуемые меры наказания были известны в начале ХХ в. по всем русским тюрьмам. Но эти обыкновенные меры наказания, применяемые к арестантам в других тюрьмах только к серьезно провинившимся, здесь же применялись и без всякой вины со стороны арестантов, только потому, что так захотелось наказать того или другого из арестованных старому надзирателю - Васильченко или Алехину, или помощнику Ендовицкому. Вообще нужно отметить, что надзирателям во Владикавказской областной тюрьме и помощникам начальника даны самые неограниченные полномочия, для применения наказания, какие иногда нельзя найти, в других тюрьмах. Например, дежурные надзиратели имели здесь право сажать в карцер (хотя по закону это право принадлежало только начальнику тюрьмы) и избивать заключенных огромными ключами, да и вообще что попадет под руку (что было запрещено). Удивляться этому не приходиться, так как надзиратели набирались начальником тюрьмы Ивановым из строго выдрессированных отслужившихся солдат, людей привыкших к беспрекословному подчинению дисциплине. Жалобы избитых надзирателями арестантов, поданные прокурору тоже, по всей видимости, оставались «без последствия», как «неосновательные». И таким образом начальник Владикавказской тюрьмы Иванов мог и далее активно воздействовать на неугодных ему господ «социалистов».
Еще одним примером, который упоминается в «деле революционера Орлова», стала копия письма прокурору арестанта, свидетельствующая о зверском избиения надзирателями Кагомота Гандалаева.
«13 ноября 1909 г. в тюрьме была сортировка, которая и меня К. Гандалаева перевела из камеры № 16 в камеру № 15, откуда через час меня вернули обратно. Тогда я попросил старшего надзирателя Васильченко указать мне место, где бы можно было положить тюфяк. Васильченко указал мне место рядом с "парашкой"; пришлось сказать, что здесь спать нельзя потому, что тюфяк запачкается в грязи и с меня же за это взыщут потом. За этот ответ меня взяли в карцер, по дороге в коридоре я подвергся избиению со стороны старших надзирателей, Васильченко и Кривошоева. Они меня с помощью нескольких младших надзирателей били и в карцере. Били кулаками и револьверными прикладами по голове и по всему туловищу. От боли я начал кричать во всю силу, но вскоре потерял сознание. А когда очнулся, то понял, что меня отливают водой. Открыв глаза и увидел тюремного фельдшера и начальника тюрьмы, кругом была лужа крови. Избиение окончилось и началось бинтование, после чего я был все-таки водворен в светлый холодный карцер, в котором нахожусь я до сих пор, несмотря на болезненное состояние и, несмотря на неоднократное обращение к тюремному врачу, который стремился скрыть факт избиения, отказывал мне составлении медицинского протокола ... В заключение жалобы прошу господина прокурора посетить тюрьму и лично опросить всех об избиении меня, а потом дать жалобе законный ход. Галдаев.».
Интересен тот факт, изложенный в деле Орлова, что администрация Владикавказской областной тюрьмы у высшего начальства, слыла настолько образцовой, что к начальнику Иванову присылались все новички и кандидаты на должности начальников и помощников тюрем для обучения искусству обращения с заключенными и знакомством с заведенным здесь режимом. Из данной выше характеристики всей тюремной администрации видно, что могли вынести отсюда новые начальники тюрем и их помощники. Школа безтолково-сурового режима начальника тюрьмы Иванова слыла образцовой. Весь режим и надзор в тюрьме за заключенными держались исключительно на отрицательном авторитете ее начальника. По сути, находившиеся в ней арестанты получали уже двойное наказание за совершенные ими преступления – одно по решению суда, другое по решению начальника тюрьмы. И подобный режим и надзор касался, прежде всего, именно политических заключенных, которые знали и рассуждали о своих правах и могли жаловаться вышестоящему руководству.
Начальник же данной тюрьмы все свое внимание сосредоточил не на введении в тюрьме такого порядка, при котором бы арестанты, наказанные за совершения преступления, исправлялись, а на показание своей силы и власти над ними. Он почти ежедневно был занят изобретением всё новых и новых проектов о введении для заключенных таких строгостей, которые оставляют суровый след в человеке: калечат его здоровье и притупляют умственные способности. Начальник тюрьмы совершенно не считался при этом с требованиями закона. Таким образом, во Владикавказской областной тюрьме весь режим основан на правах и «авторитете» начальника. Заключенные утомительно проводили однообразные дни: они не имели книг, потому, что начальник не желал заводить библиотеки. В данной тюрьме строго запрещено было иметь в камерах письменные принадлежности, хотя тюремные правила ничего об этом не говорили.
И если же нужно написать письмо на заявление заключенному, то ему это позволено было сделать лишь в коридоре в присутствия надзирателя за особо предназначенным для этого столом. Благодаря отсутствию книг и запрещению иметь для разумного времяпрепровождения тетради, карандаши и чернила, заключенным от нечего делать приходилось просто сидеть на нарах или стоять, особенно это трудно было переживать заключенным с развитой интеллектуальностью, т.е. политическим.
Пробовали при этом некоторые из них обращаться к начальнику, с просьбой избавить их от невольного бездельничанья – организовать библиотеку, предлагая для этого свою помощь, организовать тюремную школу, так как большинство из заключенных неграмотные, но получили от него ответ: «Мне ничего этого ненужно в моей тюрьме».
Поэтому, здесь среди основной массы арестантов-уголовников, не прекращались игры в карты, кости и пр., участие в их, приводило к дракам, скандалам, в которые уже обязательно вмешивались надзиратели, превращая действо в поголовное побоище. Об этих вопросах, детально изложено в письме товарища Кирова, приятеля Орлова, хорошо ознакомленного с нравами указанной тюрьмы, благодаря продолжительному пребыванию среди арестантов разных категорий и наклонностей.
«Игра-страсть, - говорится в докладной записке Кирова, - если даже отнять все, то она останется, у каждого есть собственные пальцы, а этого уже достаточно, чтобы игра продолжалась. Да и чем же прикажете заниматься в четырех стенах камеры. Здесь, громадное большинство арестантов, еле умеют читать и писать; читать нечего, а писать сплошь и рядом нечем и не на чем. Физическим трудом здесь занято не более 150-200 чел. из 700-800 арестантов. С целью убить время от безделья и скуки, люди принимаются за игру и постепенно (под частичным влиянием профессионалов) превращаются в страстных игроков. Таким образом, и в этом отношении здешняя тюрьма не исправляет, а развращает весьма многих арестантов, ибо одними только репрессиями данное зло искоренить невозможно; нельзя его этим путем даже значительно ограничить. Но зачем наказывается вся камера? Не затем ли, чтобы из чувства озлобления все поголовно стали игроками. Да, отчасти, здесь не раз такое бывало. Не лучше ли обратить данную строгость в разумную предусмотрительность, сгруппировать в одно целое более однородные элементы! Ведь только малоспособные администраторы, дабы скрыть свое бессилие, вину одного арестанта возлагают на других.
Неужели здешняя администрация настолько бессильна, что не находит иного средства для сокращения негатива, как только круговую арестантскую ответственность? Эта попытка бессильна, по моему мнению, весьма, она сомнительного происхождения и объясняется простым нежеланием переменить тактику тягости на тактику предусмотрительности. Было бы только желание, а способностей и опытов здесь хватит. А насколько велико нежелание здешнего начальства изменить однажды заведенный порядок, показывает хотя бы состояние тюремной библиотеки. Многие арестанты (и я в том числе) кои хорошо знают библиотечное дело, неоднократно предлагали свои услуги, для того, чтобы привести библиотеку в надлежащий вид и быть фактическим библиотекарем под контролем администрации. Но предложение это до сих пор так и остается предложением. Книги же постепенно уничтожаются некоторыми арестантами, благодаря их некультурности и благодаря тому, что постоянного контроля за нужными книгами не существует. Выдача книг тоже производится без малейшего намека на систему. Библиотечных каталогов нет, и поэтому книги выдаются какая подвернется под руку. А ведь хороший учебник и умело выбранная книга - играют здесь весьма важную роль. Выходит, что значение даже такого бесспорно благотворительного морального отношения к делу, как библиотека, сводится здесь к нулю, благодаря простому нежеланию начальника. И после этого решаются говорить эти же самые лица об испорченности и неисправности узника...» (Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1405. Главное тюремное управление Минюста. Оп. 539. Д. 529. Л.27).
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из материалов представленного здесь дела политического заключенного Л.В. Орлова и его товарищей, трудно сказать, были ли они приговорены к сметной казни или осуждены на длительные тюремные сроки. Однако все их попытки восстановить «справедливые права осужденных его товарищей» оказались безуспешными. Все жалобы революционеров, находившихся в указанной Владикавказской тюрьме, остались без удовлетворения. Скорее всего, это было связано с тем, что указанные арестанты относились к разряду особо опасных государственных преступников и поэтому правительственная власть не допускала в отношении этой категории никаких послаблений в режиме пребывания в тюрьме.
*twi tuition * л lnt*m«t wwl (СС BY4.0J
Creative Commons Attribution 4.0 International License
Основная проблема противостояния политических заключенных и тюремной администрации в начале ХХ в. заключалась в том, что политзаключенные не могли терпеть приказного тона тюремного начальства, а также из-за применения телесных наказаний и карцера за неповиновение. Так, начиная с 1907 г. Политические заключенные, стали устраивать голодовки и совершать самоубийства в местах лишения свободы. По сути, политическими в эти годы велась борьба за утраченные позиции неформального кодекса привилегий, сложившегося еще при Александре II.
Таким образом, можно сделать также вывод о том, что в начале ХХ в. В главном тюремным управлении и его учреждениях на местах в губерниях Российской империи активно проводилась политика усиления карательных санкций в отношении именно политических заключенных, которые представляли угрозу существующему государственному строю и политическому порядку.
Вместе с тем, следует отметить, что конкретно именно администрация Владикавказской областной тюрьмы мало заботилась о гуманности в отношении заключенных преданных ее власти. Здесь имелись значительные упущения в организации режима и надзора в части исполнения наказаний в отношении различных категорий осужденных.
Дальнейшее развитие государственной правоохранительной деятельности, к сожалению, не смогло предотвратить общенационального кризиса, который начался в 1917 году.