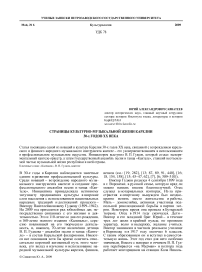Страницы культурно-музыкальной жизни Карелии 30-х годов XX века
Автор: Савватеев Юрий Александрович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 6 (100), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одной из новаций в культуре Карелии 30-х годов XX века, связанной с возрождением карельского и финского народного музыкального инструмента кантеле - его усовершенствованием и использованием в профессиональном музыкальном искусстве. Инициатором выступил В. П. Гудков, который создал экспериментальный кантеле-оркестр, а затем Государственный ансамбль песни и танца «Кантеле», ставший неотъемлемой частью музыкальной жизни республики и всей страны.
"калевала", в.п. гудков, кантеле
Короткий адрес: https://sciup.org/14749578
IDR: 14749578 | УДК: 78
Текст научной статьи Страницы культурно-музыкальной жизни Карелии 30-х годов XX века
В 30-е годы в Карелии наблюдаются заметные сдвиги в развитии профессиональной культуры. Среди новаций – возрождение народного музыкального инструмента кантеле и создание профессионального ансамбля песни и танца «Кантеле». Инициатива принадлежала истинному энтузиасту продвижения культуры в широкие слои населения с использованием национальных народных традиций и достижений прошлого – Виктору Пантелеймоновичу Гудкову (1899–1942). На 2009 год приходится ряд юбилейных дат, непосредственно связанных с его жизнью и деятельностью. Это и 110-летие со дня его рождения, и 160-летие полного издания «Калевалы», серьезно повлиявшей на его творческую деятельность, и, наконец, 70-летие включения детища В. П. Гудкова – ансамбля песни и танца «Кантеле» – в состав Карельской филармонии. Имеются все основания хотя бы кратко осветить относительно короткий жизненный путь этого человека, его вклад в изучение и использование народной музыкальной культуры карелов, финнов, вепсов (см.: [19; 282], [13; 87, 89, 91, 440], [16; 18, 154, 158], [15; 45–47, 62], [7], [6; 309–310]).
Виктор Гудков родился 4 сентября 1899 года в г. Воронеже, в русской семье, которую вряд ли можно назвать вполне благополучной. Отец служил в нотариальных конторах. Из-за пристрастия к спиртному вынужден был неоднократно менять место жительства и работы. Мать – домохозяйка, активная участница подпольной революционной борьбы в партии эсеров. Некоторое время она провела в Бутырской тюрьме. Отец в 1914 году скончался. Дети – Виктор и его младший брат Юрий – в течение трех лет жили в крайней нужде, но проявили характер, волю и выдержку, желание учиться. Виктор занимался в частном реальном училище в Воронеже и в 1917 году окончил 6 классов. С таким образованием он и вступил в самостоятельную жизнь. Этот год стал для него особенно значимым. Вместе с матерью и отчимом В. П. Гудков перебирается «на Мурман» и полтора года работает конторщиком на станции Кола Николь-
ской железной дороги. Осесть там надолго не позволила высадка союзников в Мурманске и начавшийся захват железной дороги. В. П. Гудков не оказался в оккупированной зоне только потому, что был избран делегатом съезда железнодорожников и выехал в г. Петрозаводск, где предполагалось его проведение. Он решил здесь и остаться, нашел работу на железной дороге, но проживание на новом месте не радовало. В поисках «более сытного существования» В. П. Гудков перебирается в Курскую губернию, где служит санитаром эпидемиологического отряда, и вскоре заболевает тифом. Там же, в Дмитриевском уезде, женится. Какое-то время молодоженам пришлось жить у тещи в с. Петровском. Найти более подходящее место для проживания помог брат жены, политработник Красной армии, пригласивший В. П. Гудкова в Симбирск, где его вскоре призывают в Красную армию. Чуть больше года он служит в Симбирске, а затем в Казани, в «среднем политпро-светсоставе», где, по его признанию, пробудилось и окрепло политическое самосознание. «Политпросветработа» на 12 лет становится основной профессией. В возрасте 21 года В. П. Гудков вступает в члены ВКП(б) и всю жизнь преданно служит ей. В связи с заболеванием сахарным диабетом В. П. Гудков увольняется из рядов Красной армии и, узнав об освобождении Мурманска, он решает вернуться на Север. Прибыв в Мурманск, обращается в Губком ВКП(б), где встречает доброжелательный прием. С мая 1921 года два с половиной года работает инструктором, а затем более двух лет – ответственным редактором газеты «Полярная Правда». В 1928 году из-за обострения хронической болезни – туберкулеза – уехал на лечение в Ленинград. Чтобы после больницы находиться под наблюдением врачей-специалистов, устраивается на работу заведующим красным уголком кондукторского резерва железной дороги. В это время он вместе с семьей живет у своей дальней родственницы Ольги Берггольц. Работа не приносила удовлетворения, и В. П. Гудков вновь просит направить его на Север. Недолгое время В. П. Гудков работает в Мурманске в клубе при депо, где создает молодежную агитбригаду (так называемых «синеблузочников») и пишет свои первые стихи. Через некоторое время он отправляется на станцию Кандалакша, где становится массовиком железнодорожного клуба. В 1930 году по поручению РК ВКП(б) организует газету «Кандалакшский коммунист» и почти полтора года остается ее ответственным редактором.
Журналистика была близка Гудкову, но делом всей жизни она не стала. Случай повернул ее в другое профессиональное русло – в сферу музыкальной культуры. Еще в юношеские годы проявился интерес к народной музыке, играя в созданном в Воронежском реальном училище Великорусском оркестре на балалайке, а позже интерес к народной музыке закрепился во время клубной работы. Рано познакомился Гудков и с русским переводом «Калевалы», которым зачитывалась вся воронежская интеллигенция и который произвел на Гудкова неизгладимое впечатление. Еще в Кандалакше, как-то оказавшись в гостях у финского рабочего, В. П. Гудков увидел привезенный из Финляндии видоизмененный народный инструмент кантеле, упоминавшийся в «Калевале». Он буквально заворожил Гудкова. Интерес к инструменту «подогрела» встреча во время командировок в г. Петрозаводск с директором музея С. Макарьевым. Быстро созрел проект усовершенствования и использования кантеле в современных условиях. В. П. Гудков понимал, что реализовать его можно только в Петрозаводске. Последовали письменные обращения в Карельский обком ВКП(б) и Карельский научно-исследовательский институт (КНИИ) с планами реконструкции кантеле и организации кантеле-оркестра. Затем он сам наведывается в Петрозаводск, посещает КНИИ и Карельский государственный краеведческий музей (КГКМ), в фондах которого хранились несколько подлинных народных кантеле из сел и деревень Карелии. Знакомство с ними только укрепило в правоте первоначального замысла. В. П. Гудков начал собирать кантеле для будущего оркестра уже в Кандалакше, где он оставался до сентября 1932 года. По его заказу изготовлено сначала 6, а затем еще 11 инструментов.
Карельский обком ВКП(б) принимает решение перевести В. П. Гудкова с должности ответственного редактора районной газеты в г. Кандалакша в аспирантуру КНИИ «для работы в области музыкальной культуры Карелии» (тогда Кандалакшский район и г. Кандалакша входили в состав КАССР). Прибыв «в распоряжение КНИИ», он просит официально оформить его прием в аспирантуру института. И с 1 сентября 1932 года зачисляется аспирантом по этнографолингвистической секции с выплатой стипендии в размере 250 руб. [2]. Руководителем его аспирантуры стал известный советский фольклорист, ученик Б. Асафьева, Е. В. Гиппиус.
Так начинается новый, наиболее продуктивный в плане самореализации этап жизни В. П. Гудкова [3]. Весьма скоро его имя обретает известность и признание не только в Карелии, но и за ее пределами. В КНИИ он оказался к месту и ко времени, встретил понимание и поддержку, стал не только аспирантом, озабоченным подготовкой к защите диссертации, но, прежде всего, полноправным научным сотрудником и даже возглавил сектор музыкальной культуры. Новичок сразу же включился в работу по нескольким направлениям, проявив немало терпения, настойчивости и целеустремленности. Приоритетом стал масштабный экспериментальный проект по возрождению кантеле, его усовершенствованию и использованию. Требовалось реконструировать и изготовить несколько разновидностей кантеле для экспериментального кантеле-оркестра при КНИИ. На его базе в будущем планировалось создать полноценный народный оркестр, способный нести музыкальную культуру в массы. Такие оркестры были организованы при Финском детском доме, в педагогическом институте, в воинской части.
Одной из задач недавно созданного первого в Карелии научно-исследовательского (комплексного) института оставалось изучение традиционной народной культуры. Появившиеся в нем специалисты-этнографы, в частности, заместитель директора вепсолог С. А. Макарьев, обратили внимание, что, несмотря на возрастающий интерес в стране к традиционным инструментам разных народов Советского Союза, о кантеле мало что было известно. Кантеле знали и любили жители южной Карелии, большинство же населения о кантеле даже не слышало и, судя по высказываниям в печати, далеко не все ратовали за его возрождение, считая кантеле анахронизмом и предпочитая скрипку. В КНИИ готовы были заняться этой проблемой, но мешало отсутствие подходящих специалистов. И вот неожиданно появился энтузиаст, ставший настоящей находкой для формирующегося института (директором которого по совместительству был председатель СНК КАССР Э. А. Гюллинг – факт немаловажный сам по себе). Его трудоемкую, кропотливую экспериментальную деятельность и ее полезность вскоре стали отмечать в обкоме партии и правительстве КАССР, в союзе просвещения, в музыкальном мире, в научных кругах. Заявлялось даже, что эта работа «будет иметь колоссальное значение в общем культурном подъеме пролетарских масс».
Параллельно с разработкой, конструированием и изготовлением оркестровых кантеле, обучением музыкантов самодеятельного экспериментального кантеле-оркестра В. П. Гудков принимал участие в «большой и очень полезной работе» КНИИ по собиранию и изучению произведений карельского народного творчества. Сам он выступал главным образом как собиратель музыкального фольклора и автор литературных переводов текстов карельских песен на русский язык. Ему очень хотелось привлечь к сбору фольклорного материала известных специалистов, бывавших в Карелии. Общение и работа с ними для В. П. Гудкова, не получившего специального и даже среднего образования, были хорошей школой, способствовали творческому росту, более глубокому пониманию традиционной народной культуры и музыкального фольклора.
Непосредственный руководитель, заведующий фольклорно-лингвистической секцией КНИИ А. Н. Нечаев и известный фольклорист профессор М. К. Азадовский из Ленинграда рекомендовали ему товарища Штайница как опытного музыковеда-этнографа, имевшего печатные труды по музыкальному фольклору Карелии.
В начале апреля 1935 года В. П. Гудков пишет ему письмо, в котором сообщает, что работает в той же области, предлагает обменяться опытом и наладить сотрудничество. Трогает искреннее признание, что сотрудничество стало бы полезным прежде всего для него, в известной степени самоучки, которому указания квалифицированного музыковеда очень бы пригодились. Изъявляя готовность самому поделиться какими-то собственными наблюдениями, В. П. Гудков счел необходимым дать краткую биографическую справку о себе. В самом начале ее отмечается, что он является членом ВКП(б) с 1921 года, готовился к профессии журналиста. Затем говорится о случайной встрече с сильно заинтересовавшим его кантеле и рождении проекта усовершенствования инструмента и организации кантеле-оркестра в КНИИ. Карельский обком ВКП(б) поддержал инициативу и направил В. П. Гудкова в аспирантуру института, где он и трудится с осени 1932 года.
В. П. Гудков сообщает Штайницу, что по кантеле у него скопилось немало наблюдений и экспонатов, включая кое-какие записи из области вокальной и инструментальной карельской музыки, преимущественно южных районов. Отмечает также, что под его руководством уже два года работает экспериментальный кантеле-оркестр. Но еще больше имеется «планов и перспектив», в осуществлении которых мог бы поучаствовать и Штайниц, если у него проявится интерес к этому. В заключение речь шла о возможном его участии в комплексной фольклорной экспедиции по Южной и Средней Карелии, планируемой на вторую половину 1935 года. Выражалось желание узнать, что думает по поводу сказанного адресат, как можно осуществить контакт с ним в работе. Далее следовала просьба прислать свои труды по музыкальному фольклору, в том числе и на немецком языке, поскольку он, немного понимающий по-немецки, сможет в них разобраться. В целом письмо откровенное, доверительное и конструктивное. Отметим, что переписка была одной их форм установления контактов и связей со специалистами-профессионалами, влиявшими на организацию, уровень и качество проводимых в Карелии гуманитарных исследований и полевых работ, развитие взаимовыгодного сотрудничества.
В июне того же года В. П. Гудков обращается с письмом к Е. В. Гиппиусу по поводу его участия в упомянутой выше комплексной фольклорной экспедиции по Южной и Средней Карелии. Тот уже знал о ней и, по словам А. Н. Нечаева, изъявил готовность быть руководителем музыкальной части, да еще со своим фонографом. В. П. Гудков решил сам обратиться к нему с просьбой по возможности скорее сообщить условия его участия. Выразив удовлетворение и радость от желания Е. В. Гиппиуса участвовать в составе экспедиции, В. П. Гудков информирует о возможностях передвижения по наме- ченному маршруту, исключавшему особые затруднения. Протяженность однодневных пеших переходов была небольшой – всего 3–5 км. К письму прилагалась карта с местами, которые предполагалось посетить.
Перед экспедицией ставилась задача отыскать кантеле и кантелистов, пастушьи рожки; записать карельские бытовые, трудовые, обрядовые и магические песни, частушки, возможно, даже эпические руны и другой разнообразный «словесный фольклор». Экспедиция небольшая – скорее только отряд с участием трех человек, включая Е. В. Гиппиуса, В. П. Гудкова (с целью аспирантской практики) и не названного по имени карела – литературоведа, приглашенного для записи текстов и словесных жанров, а также как проводника и переводчика. Письмо содержит признание, что «настоящего фольклориста-карела у нас пока нет». Этим специалистом оказался подающий большие надежды В. Я. Евсеев. Предполагаемое время проведения экспедиции – вторая половина июля, а продолжительность – 15–20 дней. В письме говорилось, что сроки могут быть изменены по желанию Е. В. Гиппиуса. В конце письма выражалась надежда на скорый ответ. И автора вполне можно понять. Он обращался к своему научному руководителю – известному музыковеду, изучавшему Заонежье и посвятившему его музыкальной культуре несколько статей: «Крестьянская музыка Заонежья» (1926), «Музыкальный быт Заонежья» (1927), «Искусство Севера За-онежья» (1927).
Собирание и изучение карельского музыкального фольклора рассматривалось им в неразрывной связи с совершенствованием кантеле. Предстояли выезды в районы Карелии, чтобы удостовериться в бытовании этого инструмента и взять на учет кантелистов. В итоге удалось зафиксировать бытование кантеле во многих деревнях и подтвердить, что оно, как и гусли у славян, издавна было любимым инструментом карельских крестьян. В. П. Гудков писал, что кантеле никогда не умирало, что в Пряжинском районе кантеле можно найти почти в каждой деревне, а в некоторых деревнях – почти в каждом доме. Кое-где игрой на кантеле сопровождали танцы на деревенских вечеринках. Помимо кантеле В. П. Гудков искал и другой старинный инструмент карелов – волосяное кантеле, или йоухикко. И в этом деле он находил понимание и поддержку, о чем свидетельствует письмо к нему товарища Виктора (В. Я. Евсеев), который сообщает, что наконец-то нашел для него смычковое кантеле. Оно принадлежало ученику местной школы А. Калачеву, очень хорошо игравшему на нем, как и на обычном, девятиструнном, кантеле и на балалайке. Как выяснилось, это смычковое кантеле изготовлено пять лет назад счетоводом местного колхоза Степаном Тупициным (д. Колатсельга), у которого имелось и свое старинное смычковое кантеле, полученное по наследству. С. Тупицин поразил Виктора виртуозной игрой. Он настоятельно рекомендует пригласить С. Тупицина на некоторое время в Петрозаводск в качестве инструктора-консультанта. И такое приглашение С. Тупицину приехать к 1 декабря 1935 года последовало. При этом высказывалась просьба захватить с собой кантеле собственной конструкции (44-струнное) и йоухикко, чтобы выступить перед публикой и по радио, а возможно, и поехать в Ленинград для демонстрации его искусства игры на этих инструментах. Исполнение Степана Тупицина произвело на Гудкова сильное впечатление. На основе его наигрышей он сам сочинил для оркестра «Тупицинскую кадриль» и, кроме того, под влиянием двух финских песен создал для квартета кантелистов двухчастную фантазию.
Однако основной заботой В. П. Гудкова и в это время оставался кантеле-оркестр. О том, как он создавался, вспоминал один из первых его участников – А. Ф. Артамонов – в середине 1980-х годов в связи с 50-летием ансамбля «Кантеле». В 1933 году при КНИИ по инициативе В. П. Гудкова создается самодеятельный кружок «Кантеле» из бывших воспитанников Финского детского дома и студентов Карельского педагогического института. В его составе кроме А. Ф. Артамонова обучением игре на кантеле занимались Ф. Чуккоев, К. Вильянен, М. Линдстрем, Н. Чернояров и другие.
В апреле 1935 года В. П. Гудков подает еще одну докладную записку сектора музыкальной культуры: «Об организации показательного оркестра и о популяризации кантеле в качестве орудия классовой музыкальной работы в Карельской АССР». В ней предлагается организовать оркестр при Доме культуры Петрозаводска. Выражается уверенность, что он будет востребован Наркомпросом, Карпрофсоветом, Радиокомитетом. Прилагалась и смета расходов. Вскоре о карельских кантелистах узнали в стране. В мае 1935 года в газете «Правда» появилась заметка И. Ковалева «Кантелисты» о единственном в СССР кантеле-оркестре, организованном В. П. Гудковым. Она привлекла внимание Оргкомитета ВСХВ при Наркомземе СССР, который посчитал «чрезвычайно интересной демонстрацию искусства кантеле, музыкального инструмента карел» в рамках предстоящей выставки музыкальной Олимпиады «с участием народов СССР». В КНИИ предложение и рекомендации оргкомитета были приняты. Показ экспериментального кантеле-оркестра на ВСХВ признавался «чрезвычайно желательным и вполне возможным», тем более что данное начинание в Карелии становилось уже «элементом массовой политпросветработы» [3]. Кроме выступления кантеле-оркестра на Олимпиаде предлагалось представить и певцов рун – старинных эпических песен карел, ставших основой «Калевалы».
Еще одно обращение С. А. Макарьев и В. П. Гудков адресовали Наркому просвеще- ния АКССР. Они ставили его в известность, что в музыкальный сектор института в последнее время начинают поступать запросы по организации кантеле-оркестров при различных учреждениях и воинских частях, свидетельствующие о жизненности проводимого эксперимента. Упоминалась и заметка в «Правде». Отмечалось, что для развития кантеле-оркестра требуются кадры инструкторов. Содержалась и конкретная просьба: оставить математика Федора Чуккоева, только что окончившего педвуз, на педагогической работе в Петрозаводске, чтобы использовать его и в качестве инструктора по кантеле.
Вызывает интерес и докладная записка сектора музыкальной культуры «Об организации профессионального показательного кантеле-оркестра и об использовании кантеле как орудия массовой музыкальной работы в АКССР», поданная в начале сентября 1935 года. В ней освещалась трехлетняя работа сектора по изучению и использованию кантеле. Сообщалось, что данный инструмент никак нельзя считать вымершим. В ходе полевых выездов в районы выяснилось, что 8–12-струнные кантеле продолжают бытовать и поныне, преимущественно в Южной Карелии. Их удалось обнаружить в 40 карельских деревнях. Выявлено более 20 кантелистов. Помимо базовой группы кантелистов при КНИИ, игре на оркестровых кантеле начала обучаться и красноармейская группа, тоже в составе 14 человек. Уже в 1935 году планировалось создать красноармейский кантеле-оркестр с не менее чем 40 исполнителями.
В 1936 году Карельский радиокомитет принимал участие в 1-м Всесоюзном радиофестивале, в программу которого было включено и выступление небольшого еще самодеятельного ансамбля кантелистов под руководством В. П. Гудкова. Оно прошло успешно – Всесоюзное жюри премировало коллектив поездкой в Москву. Необходимость создания на базе кантеле-оркестра профессионального ансамбля стала осознаваться и в правительстве республики. СНК КАССР принимает постановление создать при Доме культуры профессиональный оркестр «Кантеле». Организация его поручается В. П. Гудкову. С июня 1936 года он переходит в штат Дома культуры (вскоре преобразованного в Карельский дом народного творчества) в качестве руководителя кантеле-оркестра. В 1937 году на базе оркестра возник Государственный ансамбль песни и танца «Кантеле». Постановкой танцев руководили В. И. Кононов и Х. И. Мальми. Начались регулярные гастроли по районам республики. В 1939 году, во время декады творчества народных коллективов, кантеле-оркестр сопровождал выступление хора КФССР под руководством Н. Озерова.
С 1939 года ансамбль песни и танца «Кантеле» находится при Карельской филармонии. Расширяются и удлиняются маршруты его гастролей: от Петрозаводска до Мурманска на севе- ре, Ростова-на-Дону, Грозного и Махачкалы на юге и Белоруссии на западе. С 10 по 20 августа того же года ансамбль выступал в Москве: в Колонном зале Дома Советов, в Большом зале филармонии, в Зеленом театре Парка культуры и отдыха им. Горького, клубах и дворцах культуры. И снова успех, высокая оценка Управления по делам искусств при СНК РСФСР.
С началом советско-финской «зимней» войны 1939–1940 годов ансамбль «Кантеле» направляется на Карельский фронт в распоряжение 1-го стрелкового корпуса и выступает с концертами для военнослужащих. Домой коллектив возвращается с благодарностью командования корпуса «За активное обслуживание бойцов, командиров и политработников полка концертами, построенными на подлинно карельском фольклоре». Благодарность объявлялась руководителю В. Гудкову, композитору К. Раутио, постановщику танцев В. Кононову, солисткам хора А. Максимовой и С. Рикка, кантелистам, танцовщицам; всего названо 32 человека. Мирная жизнь оказалась недолгой. Начавшаяся Великая Отечественная война положила конец продуктивной деятельности В. П. Гудкова. В начале войны вместе с художником В. Буторовым В. П. Гудков регулярно выпускал информационные бюллетени «Окна Карелфинтага». В июле 1941 года ансамбль «Кантеле» эвакуируется в Среднюю Азию (г. Фрунзе).
17 января 1942 года В. П. Гудкова в результате перенесенного тифа и обострения сахарного диабета не стало.
В. П. Гудков оставил заметный след как драматург и композитор. Его творческий рост подпитывало общение с карельскими народными певцами, сказителями, музыкантами, изучение художественного наследия карельского народа, «сверкающего драгоценными камнями самобытной народной фантазии и в то же время правдиво отражающего в себе жизнь и быт народа на протяжении целого ряда эпох». Он стремился «шире и глубже ознакомить трудящихся» с лучшими образцами карельского фольклора, облечь их в такую форму, чтобы они воспринимались самой разнообразной аудиторией. Одной из возможных форм стало создание на основе сюжетов карельских рун (эпических песен) музыкального спектакля. Идею подал композитор Р. С. Пергамент. В. П. Гудков подхватил ее и написал литературный вариант либретто оперы на карельскую тему под названием «Три брата». Сюжет взят из эпической поэмы «Калевала», которую В. П. Гудков называл замечательной народной поэмой, сетуя при этом, что в нее вошли далеко не все варианты эпических песен, бытующих в народе. Среди них, по его мнению, встречаются оригинальные и высокохудожественные, представляющие большой самостоятельный интерес. Свидетельством тому служат эпические песни, записанные В. Я. Евсеевым и другими сотрудниками института в
Южной Карелии, – там, где их бытование прежде отрицалось. Основой либретто стал часто встречающийся сюжет о неудачном сватовстве Ильмойллинена или же трех братьев вместе к прекрасной Катерине – дочери могучей чародейки из дальнего племени. За коварство и злобный нрав Ильмойллинен в конце концов превратил ее в чайку. Использовались и некоторые лирические песни, а также один эпизод из классического текста «Калевалы» – усыпление враже ского войска звуками кантеле. В целом же при создании либретто руны послужили лишь исходным материалом для вполне самостоятельного авторского произведения [10].
Затем рождается драматическая поэма, или пьеса в стихах, «Сампо» [12]. Обсуждение первого, рукописного, варианта состоялось 28 мая 1941 года на заседании секции драматургии Карельского отделения Союза советских писателей, проходившего активно и заинтересованно. Разговорился и сам В. П. Гудков, много и откровенно поведавший о своем творческом пути. Он даже попросил разрешения продекламировать две свои песни о Сталине – «Чудесную сказку» и «Песню радости», весьма популярную в республике. Цитаты из нее появлялись даже на страницах газеты «Правда». Прочел он и балладу «Выбор». Обсуждением остался доволен, благодарил коллег за столь теплую встречу пьесы и ее понимание. Музыку к тексту «Сампо» позднее сочинил композитор Л. Вишкарев.
Незаконченным осталось еще одно произведение по сюжетам эпоса «Калевала» – симфоническая пьеса в 3 частях «Возвращение солнца». Отметим, что В. П. Гудков высоко ценил «Калевалу», не раз отмечал достоинства перевода Бельского, но вместе с тем указывал и на слабые места. В конце 1930-х годов решил приступить к новому поэтическому переводу на русский язык рун «Калевалы». С этой целью овладел финским языком, переводил народные песни. Но реализовать столь смелый замысел не успел.
Много занимался В. П. Гудков и песенным творчеством: обрабатывал и переводил на русский язык карельские, вепсские и финские народные песни. Совместно с Е. В. Гиппиусом, З. Эвальд, Н. Леви по результатам собирательской деятельности Пушкинского Дома и Карельского КНИИ готовил сборник образцов традиционной культуры «Песни народов КарелоФинской ССР» (Петрозаводск, 1941). Опираясь на музыкальное наследие карелов и финнов, он создал такие песни, как «Карельские лесорубы», «Часы», «Кадриль» и др. Народной стала песня «Ты девица – белолица», много лет остававшаяся в репертуаре музыкальных коллективов. Начало Отечественной войны побудило к созданию таких песен, как «Победа будет за нами», «Грозный отпор», «Радость». В. П. Гудков был известен и как поэт. Еще в 1922 году в Мурманске вышел его первый небольшой сборник стихов «С Севера». В конце 1930-х годов он работает над стихотворным циклом «Выбор», в котором тоже использован богатый материал карельских эпических песен [8].
Относительно короткая жизнь В. П. Гудкова была нелегкой, но содержательной и результативной. Многие годы основной сферой его деятельности оставалась политпросветработа, журналистика, клубное дело. Профессии менялись, непрерывным оставалось самообразование. Кульминацией профессиональной деятельности В. П. Гудкова стал переезд в г. Петрозаводск с целью усовершенствования и использования полузабытого уже народного музыкального инструмента кантеле и изучения народного фольклорно-поэтического творчества карелов, вепсов, финнов. Не угасал интерес и к русской музыкальной культуре. В конечном итоге вся его разносторонняя деятельность (научная, собирательская, экспериментальная, публицистическая) была нацелена на создание профессионального ансамбля кантелистов.
Шли годы, росла известность и признание. В 1940 году В. П. Гудков становится членом Музыкального фонда СССР и членом Союза писателей СССР. Еще раньше, в 1937 году, за большой вклад в развитие музыкального творчества Республики Карелия ему присвоено звание Заслуженного деятеля искусства КАССР. 1937 году осуществилась его мечта – кантеле-оркестр был преобразован в Государственный ансамбль песни и танца «Кантеле», включенный в 1939 году в состав Карельской государственной филармонии. По сей день ансамбль «Кантеле» остается важной составляющей культурной жизни Карелии. В 1940 году В. П. Гудкова избирают депутатом Верховного Совета КФССР по Заонежскому избирательному округу.
Можно сказать, что В. П. Гудков оставался человеком своего времени: в публичных выступлениях прославлял политику коммунистической партии в области культуры и образования, лично Сталина, воспевал пролетариат как основную силу преобразований в стране и обществе, восторгался ходом индустриализации, отвергал представления и подходы буржуазных ученых и т. д. Подобная политизированная риторика – скорее дань времени, желание быть услышанным и понятым. Внимание к его личности привлекают не его патриотические слова, а практические дела как художественного руководителя – действительно новаторские, обращенные не только в настоящее, но и в будущее, увлеченность и целеустремленность, умение работать с молодежью, приобщать ее к музыкальному творчеству
Установка В. П. Гудкова как заведующего сектором музыкальной культуры КНИИ отражает набросок доклада, содержащий такие утверждения: «В пролетарской культурной революции, которая проводится под руководством нашей партии, отведено место искусству и музыке. Пролетариат овладевает музыкой для того, чтобы при ее помощи воспеть наши строящиеся химкомбинаты и пущенные в ход магнитогорски. И недаром брошен лозунг “музыку в масс-сы”. Даже для того, чтобы его правильно осуществлять, мы должны приблизить музыку к широким массам трудящихся, сделать ее доступной и воспитать пролетариат в музыкальном отношении. А сделать это можно при помощи народных инструментов, которые легки по технике и знакомы народным массам». Отмечалось, что у карел тоже есть свой национальный инструмент, заслуживающий большого внимания, – кантеле. По виду похожие на гусли, они обладают отличительными чертами – своеобразной формой и многострунностью [5]. Важно, что эти установки, проводимый В. П. Гудковым эксперимент находили поддержку и одобрение, оценивались как «большое научно-производственное дело, сулящее блестящие перспективы в создании пролетарской культуры». В качестве дополнительных тембровых инструментов предлагалось ввести в оркестр кантелистов дудки, рожки, трубы и другие народно-духовые инструменты. Подобные пожелания настраивали на развитие замысла, его обогащение и высокую результативность.
Один из руководителей Министерства культуры республики давал высокую оценку работе В. П. Гудкова еще в качестве научного сотрудника КНИИ; отмечал, что он «вложил много энергии и труда в разработку проблем народного творчества», вместе с композитором Н. Н. Леви ездил по глухим деревням Карелии и записывал народные песни, мелодии, танцы, пастушьи наигрыши. Эти записи широко использовались карело-финскими композиторами в своем творчестве. На их основе создано много новых песен [14]. В послесловии к «Истории литературы Карелии» в 3 томах Э. Г. Карху среди наиболее заметных русских писателей конца 30-х – начала 40-х годов ХХ века первым называет В. Гудкова, а за ним – С. Норина, В. Чехова, А. Линевского [13].
В. П. Гудков призывал «пролетарских музыкантов» популяризировать кантеле, доказывал необходимость создания ансамблей кантелистов, переложения фольклорных произведений на музыку кантеле. Его личный опыт наглядно показал, насколько привлекательной может оказаться для русского человека, даже не северянина, «Калевала», карельские руны и кантеле. Способность русского человека воспринимать, ценить и интегрировать традиционную культуру других народов, в данном случае – карелов, вепсов, финнов, в В. П. Гудкове проявилась с особой силой.
Интерес к культурно-историческому наследию, классическим произведениям музыкального и поэтического творчества народов Карелии необходимо поддерживать и впредь. Используя накопленный опыт, новые информационные технологии, легче достигать ощутимых позитивных результатов, помогающих укреплять связь прошлого, настоящего и будущего, развивать историческую память, полнее использовать духовные богатства прошлого.
Список литературы Страницы культурно-музыкальной жизни Карелии 30-х годов XX века
- Атлас карельской поэзии. Петрозаводск, 1963.
- Гаврилов М.Творец нового кантеле//Север. 1966. № 3. С. 106-110.
- Гудков В.П.С Севера: Стихотворения. Мурманск, 1922. 25 с.
- Гудков В.П.Выбор: по мотивам карельских эпических песен//Карелия: Альманах. Петрозаводск, 1939. Кн. 3. С. 97-99.
- Гудков В.П. Три брата: Либретто оперы в трех актах на сюжеты карельских эпических песен: Литературный вариант//Карелия: Альманах. Петрозаводск, 1939. Кн. 4. С. 95-142.
- Гудков В.П.Любовь и разлука: Цикл стихотворений//На рубеже. 1940. № 5-6.
- Гудков В.П. Сампо: Драматическая поэма//На рубеже: Альманах. Петрозаводск, 1946. № 7. С. 20-64.
- История литературы Карелии. Т. 3. Петрозаводск, 2000. 440 с.
- Колосенок С.В., Моносов И.И.Культура Советской Карелии. Петрозаводск: Карелия, 1967. С. 108-109.
- Лапчинский Г.И.Музыка Советской Карелии. Петрозаводск: Карелия, 1970. 183 с.
- Очерки истории советской литературы Карелии. Петрозаводск, 1969.
- Песни народов КФССР. 1939-1941. Петрозаводск: Каргосиздат, 141 с.
- Писатели Карелии: Библиографический словарь/Сост. Ю. И. Дюжев. Петрозаводск, 2006. С. 193-194.
- Энциклопедия «Карелия». Т. 1. Петрозаводск: Петропресс, 2007. 400 с.