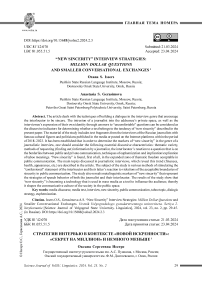Стратегии интервью в контексте «новой искренности»: «секрет на миллион» и немного меньше
Автор: Иссерс О.С., Герасимова А.С.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются приемы построения диалога в жанре интервью, побуждающие собеседника к откровенности. Дискурсивными показателями для определения принадлежности текста к направлению «новой искренности» можно считать внедрение журналиста в сферу личного пространства адресата и выражение интервьюируемым собственной идентичности через ответы на «неудобные» вопросы. Эмпирическую базу составили фрагменты текстов интервью российских журналистов с известными деятелями культуры, политиками, опубликованные в СМИ или размещенные на интернет-платформах в период 2018–2023 годов. Установлено, что для определения маркеров «новой искренности» в жанре журналистского интервью существенны следующие дискурсивные характеристики: тематический репертуар, приемы запроса (выведывания) журналистом информации, реакция собеседника на вопрос, находящийся на грани публичного / приватного общения, приемы эвфемизации и импликации / экспликации табуированных смыслов. Показано, что «новая искренность» обнаруживается в расширении зоны тематической свободы, допустимой в публичном общении. Охарактеризованы основные темы, обсуждаемые в журналистских интервью, которые реализуют указанную тенденцию (финансы, здоровье, внешность и др.). Выявлены приемы стимуляции «исповедального» высказывания собеседника и реакции последнего на нарушение допустимых границ откровенности в публичной коммуникации; метаязыковые маркеры «новой искренности», представляющие стратегии речевого поведения как журналиста, так и его собеседника. Сделан вывод о том, что «новая искренность» становится технологией, которая используется массмедиа в качестве инструмента воздействия на аудиторию и тем самым формирует коммуникативную культуру социума в публичном пространстве.
Дискурс СМИ, медиатекст, интервью, новая искренность, публичная коммуникация, табуированная тема, стратегии диалога, эвфемизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149145967
IDR: 149145967 | УДК: 81’42:070 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.2.3
Текст научной статьи Стратегии интервью в контексте «новой искренности»: «секрет на миллион» и немного меньше
DOI:
Тенденция к «новой искренности» стала характерной приметой массмедийного, политического, художественного дискурсов последних десятилетий. Исследователи отмечают, что данный феномен развивался практически одновременно во всех сферах культуры и политики и сегодня стал одним из значимых трендов как на Западе, так и в России [Десятерик, 2014; Иссерс, 2021; Корниенко, 2021; Роггевеен, Руттен, 2020; Савчук, 2000; Уоллес, 2018; Fitzgerald, 2013; Girlea, Girju, 2021; Pototska, 2022; Rutten, 2017; Sandlin, Gracyalny, 2018; Timmer, 2010]. Отказ от иронии и обращение к проверенным временем общечеловеческим ценностям составляют суть данного «аксиологического поворота». На рубеже веков на смену всепоглощающей иронии пришла «новая искренность», которая определила пересмотр социальных ценностей и значимых для общественного сознания смыслов.
Для этого были определенные причины экзистенциального порядка: «обнаружилось, что на циничном подходе к реальности сложно строить будущее» [Стрельников, 2018]. Переходу к новой культурной парадигме также способствовали объективные социально-экономические и технологические факторы, приведшие к трансформации культуры.
В то же время оценки новых культурных парадигм, в частности «новой искренности», неоднозначны: одни видят в ней доминирующее настроение современной эпохи, другие – лишь маркетинговую или художественную стратегию. Так, Ю. Потоцка считает, что социальный и культурный потенциал постмодернистской иронии еще не исчерпан. В информационном обществе ирония выступает антиреп-рессивным механизмом, а также способом конституирования личного пространства в манипулятивной среде, поэтому, по мнению автора, девальвировать его пока преждевременно и даже опасно [Pototska, 2022]. Если ирония – это стремление к независимости, то «новая искренность» указывает на пристрастие к чему-либо. Ю. Потоцка определяет типичные черты поведения «нового искреннего». В отличие от ирониста, он не избегает выбора. Несмотря на приписываемый новому персонажу аутизм, он коллективист, активно участвующий в проектах не только в виртуальном пространстве, но и в реальной жизни. Практика обмена приучает его доверять другим. Такие люди потребляют любой продукт массовой культуры, присваивают любые идеи. Как считает автор, будучи инфантильными и необразованными, в отличие от ироников, они этого не стыдятся, хотя бы потому, что не одиноки в своих увлечениях [Pototska 2022].
Ю. Потоцка акцентирует внимание на обратной стороне стратегии «новой искренности»: социокультурный контекст обесценивает прямые суждения и порождает метаиронию. Она возникает из атмосферы тотальной продажности, демонстративности, стандартности, не подтверждающей искренности. В результате помимо или вместо обвинений в банальности и наивности, которые изначально были адресованы приверженцам «новой искренности», данная позиция провоцирует обвинения в искусственности и цинизме [Pototska 2022].
В основе концепции «новой искренности» лежат ценности, которые делают индивида, с одной стороны, уязвимым для оценок внешнего мира, а с другой – более открытым и человечным. По мнению историка культуры Э. Руттен, «новая искренность» стала глобальным культурным феноменом вскоре после краха коммунистической системы. Ее влияние ощущается в литературе и журналистике, искусстве и дизайне, моде и кино, рекламе и архитектуре. В своей книге «Искренность после коммунизма: история культуры» автор прослеживает, как зарождается в постсоветской России и проникает в общественную жизнь новая риторика прямого социального высказывания с характерным для нее сложным сочетанием предельной честности и иронической словесной игры. Э. Руттен поднимает важную тему трансформации идентичности в посткоммунистическом, постмодернистском мире и пытается сформулировать ответ на вопрос, как дебаты о «новой искрен-
Стратегии интервью в контексте «новой искренности» ности» в постсоветском русскоязычном пространстве слились со всеобщим призывом к «возрождению искренности». Работая на пересечении истории эмоций, теории массовых коммуникаций и постсоветских исследований, автор по-новому осмысляет современную культурную реальность, оказывающую глубокое воздействие на творческую мысль, художественную активность и образ жизни практически по всему миру [Rutten, 2017].
О зарождающейся тенденции к «новой искренности» в художественном творчестве 80-х гг. прошлого века писал один из основоположников концептуализма в отечественном искусстве Дм. Пригов: «В пределах утвердившейся современной тотальной конвенциональ-ности языков искусство обращения преимущественно к традиционно сложившемуся лирико-исповедальному дискурсу и может быть названо “новой искренностью”» (цит. по: [Словарь терминов..., 1999, с. 64–65]).
Эта установка на нарушение границ «приватности» и расширение сферы исповедального общения не могла не отразиться в практике массмедиа. Современная медиасреда оказалась благоприятной и вполне подготовленной к идеям «новой искренности».
Одним из каналов трансляции идей «новой политической искренности» в условиях антикризисных коммуникаций организаций и общественных деятелей стали социальные сети. Политики используют платформы социальных сетей (в частности, YouTube), чтобы извиниться перед общественностью, и их извинения распространяются новостными агентствами или отдельными пользователями социальных сетей. В исследовании Дж. Сандлин и М. Грациальны рассматриваются стратегии публичного извинения на YouTube, которые применяют политики и общественные деятели [Sandlin, Gracyalny, 2018]. Авторы анализируют восприятие массовой аудиторией этих актов извинения через содержание комментариев, большинство из которых касаются репутации общественного деятеля. Аудитория не прощала, если извинения выглядели как неискренние, формальные, однако готова была принять извинения, если воспринимала их как искренние. В статье делаются выводы об эффективности подобных публичных акций в области связей с общественностью.
Одним из ярких проявлений «новой искренности» считают повышенную эмоциональность современных медиатекстов. В статье К. Валь-Йоргенсен «Эмоциональный поворот в журналистских исследованиях» рассматривается роль эмоций при производстве медийного текста или комплексного видеопродукта, а также при взаимодействии журналиста с целевой аудиторией [Wahl-Jorgensen, 2020]. Так, зритель с наибольшей вероятностью вспомнит информацию из телевизионного ролика, если будет эмоционально вовлечен в его просмотр. Приемами эмоционального вовлечения могут служить использование в телепередаче табуированных тем, освещение неизвестных ранее сенсационных фактов, ведение коммуникации в исповедальной тональности и т. д.
«Эмоционализацию» как отличительную черту современного медиадискурса рассматривают Ф. Заппеттини, Д.М. Понтон, Т.В. Ларина в статье «Эмоционализация современного медиадискурса: исследовательская повестка дня» [Zappettini, Ponton, Larina, 2021]. В ней проводится исследование эмоций в СМИ «с семиотической, прагматической и дискурсивной точек зрения на фоне современного социально-политического контекста, в котором традиционные представления о роли средств массовой информации претерпевают заметные изменения» [Zappettini, Ponton, Larina, 2021, p. 587]. По словам авторов, медиаплатформы ставят новые задачи в отношении производства и потребления информации, «поскольку различия между публичной и частной сферой становятся все более размытыми» [Zappettini, Ponton, Larina, 2021, p. 597]. В результате исследования сделан вывод о том, что в медиапространстве наблюдается переход от использования рациональных аргументов к воздействию на чувства аудитории посредством применения эффективных стратегий убеждения.
В современных медиа, где действуют те же законы, что и в любой другой сфере потребления, искренность из индивидуальной психологической характеристики преобразуется в «товар», обладающий определенной маркетинговой ценностью. Свобода самовыражения стала не просто трендом – она, по мнению петербургского философа, теоретика ис- кусства и художника Валерия Савчука, «масс-медиализирована». В статье «Идеология постинформационной искренности» он рассматривает истоки нового течения в художественных практиках: «Пространство проявления оригинальной творческой энергии и зоны свободы от Власти....Оперативно встраивается шоу-бизнесом в существующий дискурс и узаконивается. Радикальность андеграунда, его образ жизни и эстетика весьма быстро масс-медиализируются, становятся притягательным местом, приносят прибыль и, наконец, тиражируясь, превращаются в моду» [Савчук, 2000].
Популяризация нового течения может способствовать, как считает составитель энциклопедии «Альтернативная культура» журналист Дм. Десятирик, «актуализации и вовсе традиционалистских тем, в первую очередь эстетических, а вслед за ними и политических – силами “новых искренних” пассионариев» [Десятерик, 2014].
Почему же искренность стали называть «новой» и в чем ее отличие от традиционной характеристики искреннего, открытого речевого поведения личности?
Т.В. Леонтьева и А.В. Щетинина, анализируя семантику идиомы новая искренность, установили, что в словосочетании есть дополнительный прагматический компонент значения: в частности, данная идиома функционирует в определенных сферах (в первую очередь в политической и художественной), на «новую искренность» существует спрос как на медийный продукт, есть типичные форматы ее представления и др. «Анализ содержания контекстов показал, что новая искренность так же, как и искренность, – это раскрытие личной информации, при этом если лексема искренность обозначает свойство человека открыто рассказывать о своих чувствах, эмоциях, фактах биографии, имманентно присущее ему, то новая искренность – это модный тренд / технология / метод, которые используются в качестве инструмента привлечения внимания аудитории как в сфере частной, так и деловой жизни, например в маркетинге, политике, шоу-бизнесе и др.» [Леонтьева, Щетинина, 2022, с. 198]. Таким образом, под «новой искренностью» понимают прежде всего технологии коммуникации, цель которых – привлечь откровенностью самовыражения внимание других людей в публичном пространстве.
Интернет-технологии кардинально изменили процессы информационного обмена и тем самым повлияли на запросы пользователей Сети. В условиях новой медийной реальности с ее практически неограниченным охватом массовой аудитории и размытыми представлениями о границах допустимой искренности и приватности сформировался запрос на новые способы взаимодействия в публичном диалоге, где признак «искренности» является формато- и жанрообразующим.
Образцами данного тренда в дискурсивных практиках традиционных и новых медиа могут служить журналистские интервью.
Материал и методы исследования
Эмпирическую базу составили фрагменты текстов интервью российских журналистов (Б. Корчевникова, Л. Кудрявцевой, В. Познера, Е. Мильчановской, М. Сурановой и др.) с известными деятелями культуры, политиками, представителями медиа, опубликованные в СМИ или размещенные на интернет-плат-формах в период 2018–2023 гг. (более 50 интервью). Материал дополнен интервью В. Познера, собранными в его книге «Познер о “Познере”» (2014). Выбор интервью обусловлен заявленным аспектом исследования: интерес представляют те программы, где установка на «исповедальность» является жанрообразующей («Судьба человека» Б. Корчевникова, «Секрет на миллион» Л. Кудрявцевой и др.). Кроме того, для целей настоящего исследования привлекались журналистские программы, ориентированные на провокацию и эпатаж, где нарушение границ личного пространства интервьюируемого обусловлено концепцией авторской программы и индивидуальным стилем журналиста, является его «визитной карточкой» (яркий представитель второго типа интервьюеров – Юрий Дудь *).
При отборе материала было важно, что в состав интервьюируемых входят предста- вители разных профессий в максимально широком возрастном диапазоне, различающиеся не только по социально-демографическим признакам, этическим принципам и коммуникативной культуре, но и опыту участия в интервью, который влияет на публичное речевое поведение. В современном жанре журналистского интервью обнаруживается ряд стратегически значимых приемов, формирующих активную позицию интервьюируемого – «разговор на равных», в том числе и право контроля за степенью открытости и искренности, допустимой в условиях публичного общения. Реакция на «откровенный» вопрос свидетельствует о готовности поддержать установку на нарушение границ личного пространства либо уйти от предложенной тональности диалога.
Извлеченные из интервью фрагменты содержат инициативные реплики либо представляют собой вопросно-ответные единства, в которых один или оба участника демонстрируют готовность к выходу за границы личного пространства в условиях публичной коммуникации.
Предметом анализа стали различные приемы стимуляции «исповедального» высказывания собеседника и реакции последнего на нарушение допустимых границ искренности. Выявлены метаязыковые маркеры «новой искренности», представляющие стратегии речевого поведения как журналиста, так и его собеседника.
Результаты и обсуждение
Для определения маркеров «новой искренности» в жанре журналистского интервью существенными являются следующие дискурсивные характеристики: тематический репертуар, приемы запроса (выведывания) журналистом информации, реакция собеседника на вопрос, находящийся на грани публичного / межличностного общения, приемы эвфемиза-ции, а также импликации / экспликации табуированных смыслов. При этом траектория развертывания диалога на «личные» темы во многом определяется готовностью интервьюируемого к откровенному разговору, которая так или иначе обусловлена его согласием участия в интервью с конкретным журналистом в той или иной программе: именно эта установка определяет развернутость ответов, степень эвфемизации, наличие имплицитных компонентов высказывания – одним словом, искренность собеседника.
Тематические ограничения и новая тематическая свобода
– Как вы себя чувствуете сегодня?
– Мамочка мне всегда говорила, что такие темы, как деньги, здоровье и личная жизнь, не обсуждаются. У меня все хорошо...
Из интервью актрисы Анастасии Мельниковой ( Собеседник. 2023. № 20 )
«Новая искренность» обнаруживается в первую очередь в расширении зоны тематической свободы, допустимой в публичном общении. Если в межличностной коммуникации границы искренности практически не ограничены и определяются субъективными представлениями собеседников о доверии друг другу и возможном тематическом репертуаре, то в условиях медийной коммуникации обращение к двойному адресату – собеседнику и массовой аудитории – заставляет оценить риски, связанные с нарушением личного пространства непосредственного адресата. Границы «личного» во многом зависят от установок и коммуникативной культуры, сформированной в том числе в семье, они определяют, что допустимо и что запрещено по отношению к внедрению в наше личное пространство. Писатель Денис Драгунский, написавший автобиографический роман о жизни в советской Москве 50– 60-х гг., в интервью Анне Балуевой, журналисту газеты «Собеседник», делится своими представлениями о границах искренности:
Д. Д.: Самое главное, что я открыл для себя уже в зрелом возрасте, – то, что я могу, оказывается, рассказывать о себе с максимальной, практически стопроцентной откровенностью. Включая именно те вещи, о которых мне говорят: ну зачем ты это рассказываешь? Зачем ты рассказываешь о том, как ты не сумел трахнуть эту девчонку? А если не сумел, то зачем вообще писать о том, как вы с ней возились под кустом? Я могу писать о том, как у меня чесалась голова и подмышки, как я протирал водкой шею и запястья, чтобы не пачкать белую рубашку, – вместо того, чтобы вымыться по-человечески. <...>
-
А. Б.: А разве это не круто – предъявлять себя миру без страха?
Д. Д.: Круто. И вот эту крутизну я в себе обнаружил совсем недавно, понимаете? (Собеседник. 2023. № 41).
Представления о сфере личного / приватного не имеют формального закрепления, но в той или иной степени эти коммуникативные нормы осознаются большинством представителей конкретного социума. В то же время, ввиду их некодифицированной специфики, данные нормы и принципы допускают значительную вариативность.
К самым распространенным способам внедрения в личное пространство относятся темы и вопросы, нарушающие границы приватности. Если в межличностном общении их можно квалифицировать как индивидуальные отклонения от принятых социальных норм, то в публичной коммуникации проблема приобретает иное звучание: на массовую аудиторию транслируются определенные модели поведения, которые в дальнейшем формируют коммуникативную культуру социума, в том числе и так называемую «новую искренность».
При всем многообразии факторов, влияющих на выбор говорящим допустимых пределов любопытства по отношению к личной сфере собеседника, можно выявить спектр типичных вопросов, обсуждение которых в СМИ находится в зоне коммуникативного риска. И.А. Стернин определял неприличие (непристойность) содержания как «нарушение тематических табу в общении, затрагивание и обсуждение тем, которые в обществе считаются недопустимыми в публичном обсуждении (секс, физиологические процессы организма, телесный низ и под.)» [Стернин, 2008, с. 226]. «Значительная часть тем, табуированных в большинстве культур, попадает в “ядерную зону” бестактных и даже неприличных вопросов. В то же время представления о границе между приличным и неприличным, тактом и бестактностью формируются в рамках конкретной культуры и являются социально и исторически обусловленными» [Иссерс, 2023, с. 25]. Ср. отмеченные В.И. Жельвисом многочислен- ные расхождения в англоязычной и русской культурах понятий «прилично (decent)» и «неприлично (indecent)» [Жельвис, 2014].
Однако фокус нашего исследования находится не в зоне универсальных табуированных тем, а в менее регламентированной области ограничений, обусловленных индивидуальными представлениями о такте, уместности и культуре общения.
Расширение тематического репертуара в журналистских интервью на телевидении или платформе YouTube является одним из показателей формирования «новой искренности» в рамках русской медиакультуры. На первый план выходят те темы, которые ранее считались табуированными или не совсем уместными для обсуждения в рамках публичного общения. К таким «неудобным», конфликтогенным темам можно отнести вопросы о диагнозах и заболеваниях, финансах, благосостоянии, дорогих покупках, семейных отношениях (особенно неблагополучных), личном восприятии себя, своего возраста и внешности, вредных привычках и др. Таким образом, дискурсивной характеристикой для определения принадлежности текста к рассматриваемому направлению «новой искренности» можно считать эксплицитное обозначение интервьюируемым собственной идентичности.
Заметим, что степень «новой искренности» зависит от политики телевизионного канала, формата / жанра программы и личных предпочтений интервьюера. Так, тематика и количество «приватных» вопросов в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» (канал «НТВ») заметно отличается (в большую сторону) от тематики и количества вопросов, представленных в интервью Владимира Познера (программа «Познер», «Первый канал»). Программа «Познер» – это авторская телепередача, гостями которой зачастую становятся политики, общественные деятели, деятели культуры, искусства, науки, спорта. Стратегия интервью В. Познера в первую очередь направлена на формирование у массового адресата представлений о профессиональных и личностных характеристиках его собеседника.
Программа «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» – это откровенное портретное интервью о судьбе героя телепередачи.
Фокус беседы направлен на освещение интересных и малоизвестных фактов его биографии, в связи с этим актуальны вопросы о чувствах, эмоциях, которые переживал человек в разные периоды своей жизни. По сути, данное интервью имеет исповедальный характер. Гостями программы чаще всего являются актеры, музыканты, режиссеры и другие представители творческих профессий.
Проект с телеведущей Лерой Кудрявцевой «Секрет на миллион» – это прежде всего телевизионное шоу, в котором обсуждение табуированных тем является сценарной основой программы (что следует из ее названия): приглашенные звезды отечественной культуры, шоу-бизнеса, спорта рассказывают о своих тайнах «как бы» за деньги. Чем больше откровений позволяет себе герой программы, тем больше его выигрыш. (В реальности практически всегда «заработанные» откровенностью деньги направляются на благотворительность.)
Представим основные темы, обсуждаемые в журналистских интервью, которые обнаруживают тенденцию «новой искренности», – «про деньги, здоровье и личную жизнь».
Для западной аудитории тема финансов является традиционно приватной. В русской коммуникативной культуре вопросы о доходах и расходах, как правило, строго не ограничиваются близким кругом: долгие годы существования россиян в условиях социалистического распределения, когда зарплаты были стандартными, а расходы – типичными, сделали эту тематическую область вполне естественной для обсуждения. В то же время в некоторых семейных традициях формировалось представление о том, что эта тема – не для широкого обсуждения. Так, на прямой вопрос Ю. Дудя о размере пенсии телеведущий Д. Киселев ответил возмущенно:
Ю. Д.: В 62 вы оформили пенсию // Какого она размера?
Д. К.: ( пауза ) ...Моя мама... вот вы можете спустить штаны и показать свой маленький член – вы как-то об этом говорили? <...> Моя мама меня учила / что говорить о деньгах не очень прилично //
Ю. Д.: Даже о размере пенсии?
Д. К.: Джентльмены о деньгах не говорят // О деньгах не говорили в царской России / ни в советские времена / ни в приличном обществе на Западе...
Журналисты – приверженцы этого подхода – весьма «аккуратны» в обсуждении финансовой темы. Они не задают прямых вопросов о доходах и если стремятся высветить отношение к деньгам своего героя, то делают это деликатно – путем «наведения темы». Так ведет себя Владимир Познер, интервьюируя скрипача и дирижера Владимира Спивакова:
-
В. П.: Вы с некоторым возмущением высказались таким образом: «Все сейчас стало вертеться вокруг денег» // Ну / мы же этого хотели... // При капитализме все вращается вокруг денег // Вас это как-то задевает?
-
В. С.: Просто не нужно много хотеть //
-
В. П.: Вы нет?
В. С.: Я нет // Я считаю / что важнее Евангельская мысль / «Тот / у кого есть / тому еще дано будет / а тот / у кого нет / отнимется» //
В данном случае интервьюер подвел своего собеседника к теме доходов и расходов, но задал общий вопрос об отношении к деньгам и, получив достаточно общий ответ через обращение к прецедентному тексту, удовлетворился им.
Сам Владимир Познер в интервью Юрию Дудю на вопрос об источнике его доходов отреагировал как на нарушающий границы приватности:
Ю. Д.: Чем зарабатываете / кроме программы?
-
В. П.: Вам-то какое дело? Я зарабатываю своей профессией / а иногда зарабатываю выступлениями //
В практике журналистов, ориентированных на «новую искренность», тема финансов детализирована до мелочей. Так, Лера Кудрявцева публично провела обсуждение бюджета своей героини – актрисы Татьяны Васильевой, которая не выразила неудовольствия по поводу этой процедуры 2.
Л. К.: Ты не скрываешь / что зарабатываешь / примерно / по три миллиона в месяц //
Т. В.: Ну это в хорошие времена // Это я четыре года назад... Так было // Сейчас немножко по-другому //
Л. К.: Ну миллион в месяц?
Т. В.: Нет / ну / побольше / побольше // В сезон нормально все идет – могу и три //
Л. К.: Ты подсчитывала / вот сколько из этого дохода ты тратишь на себя любимую? <...> Давай вместе это сделаем ?
Т. В.: Да / пожалуйста //
Л. К.: Принесите мне доску и маркер / пожалуйста // Пойдем // Еда в месяц / примерно / сколько?
Т. В.: У меня контейнеры – 750 калорий в день // 26 тысяч // Ресторанов нет // За свой счет не хожу в рестораны //
Л. К.: Правильно // Магазины?
Т. В.: Магазины / да // Ну / знаешь / это так нестабильно // Ну / думаю / двести // <...> ну где-то там на косметолога / где-то / ну / 150 // <...>
Л. К.: Из 2 миллионов ты тратишь на себя 344 тысячи / Таня // Остается у тебя / в худшем случае / миллион двести // Где деньги / Зин?
Т. В.: Коплю // Еще немножко и накоплю на квартиру //
Л. К.: Сколько / кстати / отдаешь детям в месяц?
Т. В.: Может быть / 100 тысяч / Филиппу и столько же Лизе где-то //
Заметим, что по ходу расспросов журналист скрупулезно конкретизирует запрос информации о расходах, а также дает оценочные высказывания. Это можно наблюдать и в других интервью Кудрявцевой, например с поэтессой Ларисой Рубальской:
Л. К.: Ларис / ну Вам за это платят как модели?
Л. Р.: Мне подарили все / в чем я ходила по подиуму //
Л. К.: А / ну вот / тоже хорошо //
Л. Р.: Мне даже это больше нравится //
Тема финансов может быть представлена вопросами о дорогих покупках и подарках, имеющейся недвижимости, расходах на отдых и др. Отметим, что стратегия ответов интервьюируемого в определенной степени отражает представления об уместности публичного обсуждения этих вопросов: в ответ на посыл журналиста («красиво жить не запретишь»?) он может использовать «игру на понижение» и/или эксплицировать обоснованность таких трат. Так, Л. Кудрявцева расспрашивает своих гостей – певицу Валерию и продюсера Иосифа Пригожина – о доме в Швейцарии на берегу Женевского озера:
Л. К.: Почему именно в Швейцарии Вы купили себе недвижимость?
И. П.: Дело все в том / что когда мы отдавали детей в школу и в лагерь языковые / естественно / нам надо было их навещать // И вдруг нам выпала возможность / был директор форума / он продавал дом на береговой линии / и кредит нам предложи- ли в один процент // И вот у нас в результате этого появилась эта дача в Швейцарии // <...>
В.: Просто звучит так: «У них дом на Женевском озере» // Ну только Вы в Подмосковье съездите и посмотрите / какие цены // И какие там... //
Л. К.: Ну цена... // Сколько?
И. П.: Ну мы покупали / в свое время / ее / будете смеяться / ну вот если в рубли переводить – курс был другой – ну / миллион шестьсот двадцать евро // Это сколько получается? Тогда был курс – двадцать пять или тридцать // Ну миллионов тридцать-сорок / грубо говоря //
Отметим типичную особенность диалогического взаимодействия в стиле «новой искренности»: при стремлении интервьюируемого уйти от конкретных цифр журналист проявляет настойчивость в получении точной финансовой информации. Все же собеседник, чей этический кодекс не позволяет говорить о «нерациональных», по мнению массовой аудитории, расходах, оставляет за собой право не называть стоимость покупки. Например, Лера Кудрявцева расспрашивает поэтессу Ларису Рубальскую о приобретении породистой собаки:
Л. К.: Они дорогие сейчас / Ларис / я знаю //
Л. Р.: Ну / да // Не дешевле / чем брендовые сумки //
Л. К.: Вот сколько Вы отдали?
Л. Р.: Мои домашние не знают // В моей жизни у меня три дорогих покупки: квартира / машина / собака // Вот как раз когда она должна была прийти в мою жизнь / я заработала хорошие деньги // Когда я узнала / сколько она стоит / я посмотрела на эту пачечку и купила // И не жалко до сих пор //
Лариса Рубальская говорит о «хороших деньгах», которые она заработала , но не называет конкретную сумму. Подобный уход от прямого ответа в расспросах журналистов свидетельствуют о том, что тема финансов, в том числе больших расходов, далеко не для каждого собеседника ощущается как уместная в публичном пространстве.
Тема болезни в русском речевом общении традиционно рассматривалась как приватная, допустимая лишь с близкими людьми, о чем свидетельствует приведенная выше в качестве эпиграфа цитата из интервью актрисы Анастасии Мельниковой. Однако вопросы по поводу диагноза, тех или иных заболеваний все активнее звучат в эфире, причем не только в жанре «лирико-исповедального» интервью. Приведем фрагменты телепередач:
Борис Корчевников – актриса Олеся Железняк:
Б. К.: Что с ногой? Что случилось?
О. Ж.: Ну я немножко повредила ногу // <...> // Теперь лечу ногу / да // Ты знаешь / когда вот с тобой случается... / такая немощь вот происходит в жизни / вдруг ты понимаешь / что человеку мало надо / очень мало надо // <...> // Когда спустя какое-то время / когда мне сняли швы / можно было пойти в душ и забраться туда на костылях и постоять / опереться на вторую ногу / я вдруг вышла из душа и поняла / что я самый счастливый человек на этой земле //
Лера Кудрявцева – Лариса Рубальская:
Л.К.: Лариса / что за болезнь вас едва не приковала к постели?
Л.Р.: У меня так болели вот какие-то такие места / от позвоночника отходящие ( показывает ) / что я какое-то время просто с трудом вставала // И было время / когда просто не могла шевелиться //
Расспросы журналиста о болезнях могут быть обусловлены интересом к тому, не повлияло ли заболевание на его профессиональную деятельность. В этом случае они не вызывают сопротивления собеседника – более того, он готов искренне поделиться и другой информацией о здоровье.
Владимир Познер – Владимир Спиваков:
В. П.: Я слышал / что после этой болезни (имеет в виду ковид. – О. И., А. Г. ) у вас было что-то с пальцами не совсем в порядке... //
В. С.: Это так // Бьет по слабым местам / по самым важным местам // У меня пальцы два месяца примерно не работали так / как должны были работать // И вдобавок я не очень хотел к вам прийти на передачу именно по причине того / что / так сказать / «что-то с памятью моей стало / что случилось не со мной – помню» // (Смеется.)
Вопросы по поводу возраста, внешности и антропометрических данных (особенно веса) могут быть восприняты как бестактные не только женщинами, но и мужчинами. В то же время в программах, ориентированных на откровенное интервью с героем, включающее обсуждение личных тем, эти ограничения нередко снимаются.
Лера Кудрявцева – Татьяна Васильева:
Л. К.: Сколько ты весишь?
Т. В.: В хорошие времена – 63 //
Л. К.: А сейчас?
Т. В.: А сейчас у меня плохие времена //
Л. К.: Это сколько?
Т. В.: 65 // Это после гастролей потому что / потому что это вечернее питание // Так я ем – в три часа я / там / может / поем // Перед спектаклем я не ем / после спектакля я пью молоко с медом //
Типичным нарушением такта и социальных приличий по отношению к женщине являются вопросы о «натуральности» тех или иных особенностей ее внешности . Однако в современных интервью, ориентированных на «новую искренность», этот негласный принцип далеко не всегда соблюдается. Тема пластической хирургии, наряду с вопросами о возрасте, – одна из популярных в интервью с героинями программы «Секрет на миллион». Стоит отметить, что собеседницы телеведущей Леры Кудрявцевой, как правило, готовы открыть свои секреты «вечной молодости», при этом сопровождая их уверениями в искренности.
Лера Кудрявцева – Валерия:
Л. К.: Лер / в этом году у тебя юбилей //
В.: А чего так серьезно-то? ( Смеется, имея в виду интонацию вопроса. )
Л. К.: Даже не говори / сколько тебе будет // Вот на столько ты не выглядишь / Лер //
В.: Спасибо // Я не чувствую себя на столько //
Л. К.: Скажи мне / что ты делаешь / чтобы оставаться такой молодой и красивой?
В.: Вот как на духу : ничего // Вот буду говорить / ничего не скрывая совершенно // Вот Ёся рядом / он знает все / что я делаю с собой //
Л. К.: А теперь давайте по чесноку //
В.: По чесноку рассказываю // Я люблю процедуры / которые очень такие действенные и не травматичные / которые не оставляют следа // Это всякие радиочастотные лифтинги / аппаратная косметология //
Л. К.: Помогает?
В.: Я не знаю / как оно было бы / если бы я этого не делала <...> // Я не использую никаких филлеров / потому что мои косметологи против этого категорически // Я не исключаю / что когда-нибудь я прибегну и к пластической хирургии / какой-то очень такой корректной и минимальной //
Приемом стимуляции откровенного ответа может быть вопрос о мотивации решения о пластической операции (при этом журналист, по сути, без согласия своей героини, сообщает массовой аудитории о том, что она имела место).
Лера Кудрявцева – актриса Елена Проклова:
Л. К.: Лен / ты делала круговую подтяжку // Как ты на это решилась ?
-
Е . П.: Мне было 43-44 года / я снималась в фильме «Желтый карлик» / снималась без грима / без всего // И когда я пришла на озвучание и посмотрела на себя / я поняла / что экран выдает все мои проблемы с лихвой / и выгляжу я ужасно // А решилась я так: я встала с утра / поехала в клинику / договорилась о круговой операции // Вечером легла – с утра сделала //
Лера Кудрявцева – Татьяна Васильева:
Л. К.: Тань / у тебя с пластической хирургией все как отрезало / или все-таки продолжаешь что-то улучшать?
Т. В.: Нет / с пластической / скорей всего / как отрезало // Хотя кое-что я бы еще / конечно / хотела бы / но просто я боюсь / потому что кому я доверяла / этих врачей нет / не стало // <...> // А теперь – ну извини //
Л. К.: А что вот ты хотела бы себе?
Т. В.: Я бы хотела / смотри / во-первых / у меня странная история / значит / вот эта щека <...> мясистая щека откуда-то // Понимаешь? И я ее нитками тяну-тяну / но ни одни нитки это не выдерживают //
Настойчивость журналиста к внедрению в сферу личного пространства собеседника обнаруживается через детализацию расспросов, а готовность интервьюируемого к откровенности по поводу личной жизни выражается в характере ответов – общих или детализированных. Наибольшей деликатностью, на наш взгляд, отличается Владимир Познер, представитель старой школы советской и российской журналистики.
Владимир Познер – актриса Ингеборга Дапкунайте:
-
В . П.: Вы боитесь старости?
И. Д.: Нет //
-
В . П.: Нравится ли вам ваша собственная внешность?
И. Д.: Да //
Молодое поколение отечественных журналистов гораздо менее ограничено рамками принятых в публичном общении тем и расспросов. В интервью с поэтессой Ларисой Рубальской ведущая Лера Кудрявцева задает собеседнице вопрос об отношении к своей внешности, в котором, по нашему мнению, содержится намек на невысокую оценку героиней собственной внешности 3:
Л. К.: Ларис / вот Вы себя любите или относитесь к себе критично? Говорят / вот только с годами мы начинаем понимать / как мы были хороши в 18 / в 20 / в 30 //
Л. К.: Лерочка / ну вот / например / я / конечно / критично к себе отношусь / но мне это легко сейчас делать / потому что я вижу на себе взгляды / которые не видят во мне / там / толстую старую тетку // Мне тут на Новый год подарили каску строительную зачем-то // Я вышла в этой каске // Мне мои знакомые говорят: «Ты что дура что ли – так выставила себя?» // А я говорю: «А мне вообще все равно» // Я могу не накрашенная там быть / в каске / в любой позе // У меня нет отношения к себе как к персоне / для которой внешность играет роль // Вот как хотите понимайте //
Вряд ли можно оценить как тактичный вопрос журналиста о выступлении Л. Рубаль-ской в качестве модели, в котором содержится импликатура неожиданного, с учетом внешности героини, предложения.
Л. К.: Как Вам предложили вообще стать моделью / Ларис?
Л. Р.: Просто это очень хорошие мои друзья // В их владениях есть одна фирма / которая шьет для взрослых полных женщин / плюс сайз / да / чтоб красиво звучало // Ну а так как меня немножко знают уже в лицо / им показалось это занятным / что я пойду по подиуму / и как-то на меня будут реагировать // Но они не представляли / чем это кончится //
Л. К.: А чем это закончилось?
Л. Р.: Все остальные могли не выходить // Все цветы / которые были / ко мне прилетели // Ну / правда / я... У меня походка странная / я нестройная... и / конечно / я больше комиковала / чем шла / как полагается / от бедра // Но почему-то было все удачно //
Таким образом, анализ дискурсивных практик интервью в российских медиа позволяет сделать вывод, что темы финансов, здоровья, антропометрических, внешних данных и т. п. стано-
Стратегии интервью в контексте «новой искренности» вятся вполне допустимыми для определенного круга журналистов, работающих в форматах «новой искренности», но в то же время неоднозначно принимаются их собеседниками. Именно поэтому журналисты вынуждены прибегать к приемам явного и имплицитного воздействия на них.
Приемы стимуляции искренности в интервью
Для понимания трендов «новой искренности» актуально рассмотреть стратегию журналиста, нацеленную на подталкивание собеседника к откровенному диалогу и выведывание личной информации. Это может быть как прямой, так и косвенный запрос, когда интервьюер старается навести собеседника на интересующую его тему.
Примером прямого запроса может быть вопрос, заданный Лерой Кудрявцевой в соответствии с форматом ее телепрограммы «Секрет на миллион» актрисе Елене Прокловой. Заметим, что в фокусе внимания оказались не только болезни приглашенной на интервью актрисы, но и самой телеведущей. Возможно, это не случайно: таким образом формируется атмосфера взаимного доверия.
Л. К.: Раскрой секрет / какой диагноз у нас с тобой один на двоих?
Е. П.: О как! У меня два диагноза – это моя астма / но это профессиональное <...> // Но у тебя астмы нет // <...>
Е. П.: Мне кажется / я сейчас вот начинаю понимать / в чем подвох этого вопроса // Мы все переживали сейчас твое состояние / когда ты повредила свой копчик // Горячо? Горячо!
Л. К.: Так //
Е. П.: Я думаю / что да //
Л. К.: А у тебя?
Е. П.: А у меня он сломан дважды //
Косвенный запрос информации осуществляется в условиях, когда интервьюер предполагает, что прямой вопрос может быть воспринят как невежливый, бестактный. Вероятно, к такого рода бестактности может быть отнесена тема пластических операций, особенно в обсуждении с мужчиной. Именно поэтому журналист избегает прямого вопроса, а использует прием «наведения темы» [Иссерс, 2009]. Стимуляцией для откровенного ответа стано- вится информация, которой располагает журналист (я знаю...). Ответы продюсера Иосифа Пригожина и его жены, певицы Валерии, являются, по сути, реакцией на имплицитный вопрос о характере операции – пластической или по медицинским показаниям. Насколько можно судить по реакции героя интервью, имплицируется ответ: я не делал пластических операций, улучшающих мою внешность. Именно этот аспект, по мнению интервьюируемых, более всего интересовал журналиста (см. выделенные реплики).
Л. К.: Ты с носом что-то тут недавно делал / я знаю //
И. П.: Да / я оперировал его // Мне надо было дыхание восстановить // У меня все было свернуто в узелок // Поломанный нос – нормальный мальчиковый нос // Драки и всякое прочее / вот // Естественно мне надо было... // Я пошел за компанию с одной артисткой известной / вот // Ей тоже надо было нос сделать // Ну / думаю / ну ладно / заодно и я сделаю // И ей сделали / и мне сделали // Она переделывала / и я переделывал //
Л. К.: И артистке тоже накосячили ?
И. П.: Ну да // Сейчас я переделал / потому что у меня срослось вот так (показывает) и дышать невозможно // <...> // Ты видишь / я внешне ничего не трогал // Как был переломанный – и все //
В.: Мы решили не трогать внешне // Я говорю: «Зачем? Все к тебе привыкли и так / с таким носом» //
И. П.: Просто я дышу – и все // Конечно / мог бы и поправить // Сделать себе носик // Зачем?
Стремление получить максимально развернутые ответы заставляет журналиста прибегать к приемам интерпретации, усиления высказывания собеседника .
Борис Корчевников – актриса Вера Сотникова:
В. С.: Я пришла в какой-то ресторан / заказала себе водку / я выпила достаточно много // И потом началось то / что бывает после того / когда выпьешь много раз и когда ты беременна...
Б. К.: То есть вам было очень плохо?
Понимая, что границы приемлемости вопроса могут быть нарушены, журналист при запросе о возрасте прибегает к приему «антиискренности» , таким образом делая комплимент адресату.
Лера Кудрявцева – Елена Проклова:
Л. К.: Не могу не спросить // Как сейчас у тебя с личной жизнью?
Е. П.: Через два года мне будет 70 лет //
Л. К.: И что? Не надо никому это говорить // Зачем ты сейчас это вслух сказала?
Е. П.: А что такого страшного я сказала?
Л. К.: Посмотри на себя в зеркало // Зачем?
Е. П.: Объясню / зачем // Потому что многие думают / что это все – такой вот увядающий возраст / когда жизнь надо уже как бы отчеркивать в минус //
Л. К.: Я тоже так хочу – вот так вот //
Е. П.: Поверь мне / это самый лучший возраст / какой может быть // Это возраст / полный какого-то мироощущения со знаком плюс // Это мир благодарности // Это мир / где можно победить твою головную боль //
Приемом преодоления бестактности вопроса может быть передача инициативы в развитии темы собеседнику . В диалоге ниже журналист вводит тему «Как будут жить дети, если ты умрешь?» через редуцированный вопрос:
Лера Кудрявцева – Татьяна Васильева:
Л. К.: Филиппу (сыну. – О. И., А. Г. ) сейчас 44 / а Лизе – 36 // Они в состоянии прожить без твоей финансовой помощи?
Т. В.: Не пробовали // Я об этом очень беспокоюсь // Ну / понимаешь / провести какой-то эксперимент – сказать / ребят / я удаляюсь на какое-то время / поживите-ка сами // Ну я с ума сойду сама / понимаешь / в первую очередь //
Л. К.: Давай / ты меня уж извини за это / но мы все не вечные //
Т. В.: Да //
Л. К.: И?
Т. В.: Да / я думаю об этом / конечно // Думаю / что они придумают что-нибудь // Может быть / придется отказаться от этой профессии / например / Филиппу // Она не кормит //
Л. К.: И найти себе...
Т. В.: Другое дело //
Л. К.: Другое дело / более высокооплачиваемое //
Т. В.: Да //
Маркером нарушения границ личного пространства интервьюером может служить использование эвфемистических обозначений .
Борис Корчевников – певица Юлия Началова:
Б. К.: Ты когда-то сделала эту пластическую операцию и ну... твои формы стали... ну они очень изменились (об увеличении груди. – О. И., А. Г. ) //
Борис Корчевников – актриса Ирина Безрукова:
Б. К.: Вы помните этот момент, когда у мамы диагностировали эту болезнь ? <...> Как Вы с этим жили ? (Об онкологическом диагнозе матери. – О. И., А. Г. )
Юрий Дудь – актер и режиссер Константин Хабенский:
Ю. Д.: А Вы помните эмоции / когда невероятно радостное наслоилось на невероятно плохое ? (Об онкологическом диагнозе жены. – О. И., А. Г. ) <...> Когда все случилось / кто был человеком / который помог вернуться в жизнь?
Приемом эвфемизации сложной для обсуждения темы могут быть и метафорические обозначения ситуации.
Борис Корчевников – Вера Сотникова:
Б. К.: А как Вы жили потом / когда в квартире стало тихо (после развода. – О. И., А. Г. )?
Внедрение в сферу личного пространства и выход за границы принятых, по ощущениям журналиста, коммуникативных норм в публичном интервью могут маркироваться металингвистическими репликами-извинениями .
Юрий Дудь – актер Сергей Бурунов:
Ю. Д.: Простите за этот вопрос / что с Вашим отцом?
Елена Мильчановская – академик РАН Евгений Александров:
Е. М.: Простите за интимный вопрос : а в Бога вы верите?
Борис Корчевников – Ирина Безрукова:
Б. К.: Я боюсь спросить даже / как Вы теперь (после смерти сына. – О. И., А. Г. )?
Как можно судить по рассмотренным примерам побуждения к искренности, арсенал приемов воздействия на собеседника со сто- роны журналиста весьма широк и включает разнообразные тактики запроса и интерпретации информации. В данной статье не рассматриваются провокационные приемы, нацеленные на выведывание информации вопреки желанию собеседника, которые требуют отдельного исследования (см. об этом: [Иссерс, 2009]).
Заключение
Вопрос о коммуникативных тенденциях и нормах тесно связан с представлениями о границах тематической свободы, которые, в свою очередь, определяются представлениями о приличном / допустимом / уместном, присутствующими в массовом сознании. Изменчивость этих представлений обнаруживается в первую очередь в публичной коммуникации, в частности в традиционных и новых медиа. Нарушение тематических табу в журналистских интервью свидетельствует о сдвигах в оценке допустимых для общественного обсуждения вопросов и – опосредованно – об изменении границ «приличного» в массовой речевой культуре.
На фоне размытости границ между сферой личного и общественного пространства, между публичным и приватным общением дискурсивные практики современных медиа задают новые ориентиры в способах взаимодействия с целевой аудиторией, в выборе содержания и формата программ на телевидении и YouTube-каналах. Актуализация «новой искренности» с характерной для нее тональностью открытости, откровенности и даже исповедальности обнаруживается в разнообразии форматов и жанров, предлагаемых в медиа в ответ на социальный запрос.
В жанре журналистского интервью эта тенденция проявляется в использовании стратегически значимых приемов, формирующих отношения доверия между журналистом и интервьюируемым, а также опосредованным адресатом – массовой аудиторией.
Маркерами тенденции к «новой искренности» являются расширение тематического репертуара, допустимого в общении с массовой аудиторией в СМИ, и различные способы побуждения к откровенным высказываниям в интервью: запрос (выведывание)
журналистом информации, приемы эвфеми-зации и импликации смыслов, находящихся на грани публичного и приватного общения. При этом для журналиста важен не столько прием, сколько результат – сформировать у адресата установку на взаимную открытость и доверие.
В медийной коммуникации откровенные интервью в тенденциях «новой искренности» не только решают маркетинговые задачи привлечения целевой аудитории и продажи контента, но и выполняют социально ориентирующую функцию: транслируют для массовой аудитории определенные модели поведения, которые в дальнейшем формируют коммуникативную культуру социума в публичном пространстве.
Список литературы Стратегии интервью в контексте «новой искренности»: «секрет на миллион» и немного меньше
- Десятерик Д., 2014. Новая искренность // Альтернативная культура. Энциклопедия. URL: https://info.wikireading.ru/104422
- Жельвис В. И., 2014. Лингвокультурологический анализ дихотомии «прилично – неприлично» в англоязычных и русской культурах // Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. № 4. С. 101–118.
- Иссерс О. С., 2009. Стратегия речевой провокации в публичном диалоге // Русский язык в научном освещении. № 2 (18). С. 92–104.
- Иссерс О. С., 2020. Грани «новой искренности» в современной политической коммуникации // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. Т. 19, № 6. С. 216–227. DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-6-216-227
- Иссерс О. С., 2021. Коммуникативные стратегии интервьюера Юрия Дудя: взгляд лингвиста на медийный феномен массовой культуры // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Т. 20, № 6: Журналистика. С. 263–277. DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-6-263-277
- Иссерс О. С., 2023. Бестактный вопрос как коммуникативная проблема русской речевой культуры // Русский язык за рубежом. № 5. С. 22–30. DOI: 10.37632/PI.2023.300.5.003
- Корниенко А. В., 2021. Реакция СМИ на «новую политическую искренность» // Медиа в современном мире. 60-е Петербургские чтения: сб. материалов Междунар. науч. форума. В 2 т. Т. 2. СПб.: Медиапапир. С. 206–208.
- Леонтьева Т. В., Щетинина А. В., 2022. Сочетание «новая искренность» в лексикографическом аспекте // Научный диалог. Т. 11, № 6. С. 183–201. DOI: https://doi.org/10.24224/2227-1295-2022-11-6-183-201
- Роггевеен Б., Руттен Э., 2020. Риторика искренности в современной России // Неприкосновенный запас. № 4. С. 43–62. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/132_nz_4_2020/article/22860/
- Савчук В. В., 2000. Идеология постинформационной искренности // Художественный журнал. № 30–31. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/80/article/1741
- Словарь терминов московской концептуальной школы, 1999 / сост. А. Монастырский. М.: Ad Margenem. 222 с.
- Стернин И. А., 2008. Оскорбление и неприличная языковая форма как предмет лингвистической экспертизы (бытовое и юридическое понимание) // Избранные работы. Теоретические и прикладные проблемы языкознания. Воронеж: Истоки. С. 222–232.
- Стрельников А., 2018. Ха-ха, мне грустно. URL: https://medium.com/@alexanderstrelnikov/8C-5a381dbdcd35
- Уоллес Д. Ф., 2018. Бесконечная шутка. М.: АСТ. 1279 с.
- Fitzgerald J. D., 2013. Not Your Mother’s Morals: How the New Sincerity is Changing Pop Culture for the Better. N. Y.: Bondfire Books. 60 p.
- Girlea C., Girju C. R., 2021. Decoding the Perception of Sincerity in Dialogues // IEEE Transactions on Affective Computing. Vol. 12, № 1. P. 2–15. DOI: https://doi.org/10.1109/TAFFC.2018.2854179
- Pototska Yu. I., 2022. Social and Cultural Phenomenon of “New Sincerity” // The Journ al of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Theory of Culture and Pholosophy of Science. № 65. P. 6–12.
- Rutten E., 2017. Sincerity After Communism: A Cultural History. New Haven ; L.: Yale University Press. 288 p.
- Sandlin J. K., Gracyalny M. L., 2018. Seeking Sincerity, Finding Forgiveness: YouTube Apologies as Image Repair // Public Relations Review. Vol. 44, iss. 3. P. 393–406.
- Timmer N., 2010. Do You Feel It Too?: The Post-Postmodern Syndrome in American Fiction at the Turn of the Millennium. Amsterdam ; N. Y.: Rodopi. 390 p.
- Wahl-Jorgensen K., 2020. An Emotional Turn in Journalism Studies? // Digital Journalism. Vol. 8, iss. 2. P. 175–194.
- Zappettini F., Ponton D. M., Larina T. V., 2021. Emotionalisation of Contemporary Media Discourse: A Research Agenda // Russian Journal of Linguistics. Vol. 25, № 3. P. 586–610. DOI: 10.22363/2687-0088- 2021-25-3-586-610