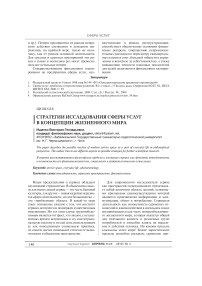Стратегии исследования сферы услуг в концепции жизненного мира
Автор: Ищенко Виктория Геннадьевна
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Сфера услуг
Статья в выпуске: 4 т.4, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются философские пределы и основания сервиса как феномена повседневности и возможности его феноменологического, социального и антропологического осмысления.
Повседневность, сервисное пространство, феноменология
Короткий адрес: https://sciup.org/140209985
IDR: 140209985
Текст научной статьи Стратегии исследования сферы услуг в концепции жизненного мира
Наши представления о сервисе обладают неуловимой странностью. В обыденном смысле для одних людей сервис — это часть бытовой культуры, для других — новая и крайне неразвитая сфера деятельности, но для большинства — это «проблемная» область. В какой-то мере такое положение связано с тем, что институт сервиса историчен и подвержен существенным изменениям. Но и в этом случае труднообъяснимым является тот факт, что людям, с незапамятных времен встроенным в эту институциональную систему и по сей день использующим ее как повседневную социальную практику, не совсем дается понимание степени ее включенности в обыденное пространство.
Для современного исследователя сервис как пространство повседневности представляет собой конечную область знаний, основными признаками самоосуществления которой являются производство информации и коммуникации, обмен и потребление. Сервисная деятельность как совокупность сервисных отношений и взаимодействий в идеальном плане воспроизводится как часть интерсубъективного жизненного мира, которая является общей для отдельного клиента и различных групп потребителей и способна влиять на мышление и действия человека. Но каковы пределы конечности этого мира? Какие эвристические пределы способно раскрыть сервисное про- странство при анализе его структур в концепции повседневности? Каким образом человек способен изменять это пространство, которое, в свою очередь меняет самого человека? Какова степень социального значения сферы услуг как реальности, жизненного мира, пространства повседневности?
Философия и гуманитарные науки с самых разных и противоречивых позиций делают своим предметом мир повседневности. Идея и понятие повседневности в философской феноменологической традиции возникают неслучайно и приобретают в дальнейшем вид стратегической линии культурфилософских исследований. Исследовательский акцент философской феноменологии переносится с повседневности, осмысленной рациональностью, на повседневность, которая не вписывается в прежние объяснительные схемы и обращена к ситуациям межличностного взаимодействия в рамках конституций социальной реальности. Возникает пристальный научный интерес к обыденной ситуативности. Ученых интересуют не только способы, посредством которых индивиды приспосабливаются к меняющимся структурам социального пространства, но и то, как они их варьируют. Для философско-гносеологических и социально-психологических исследований проблемы ментальных структур повседневности, здравого смысла, обыденного сознания, массового сознания становятся традиционными. Обыденное сознание рассматривается как особый модус общественного сознания, обращенного к повседневным практическим заботам.
Большинство исследователей проблемы повседневности понимает под этим термином «нечто привычное, рутинное, нормальное», «обычное ежедневное существование со всем, что окружает человека: его бытом, средой, культурным фоном, языковой лексикой» [6, 10]. «Ничем не примечательное, будничное, обыденное», с легкой руки некоторых авторов, приобретает пренебрежительный оттенок. Однако эта самая жизнь — «изо дня в день», состоящая из мелочей, противостоит «презренному, повторяющемуся, бытовому» более творческими, содержательными, необычными моментами жизни. Повседневность полна разнообразных форм выражения обыденного знания, качественных и смысловых характеристик, подсказывающих исследователю особенности раскрытия не только различных ракурсов бы- тия, наполняющих социокультурные матрицы, но и интеграции сервисного пространства как регулятивной модальности, свойственной современности. Изменения, связанные с формированием новой социальной модели, определяют не только внутреннюю структуру процессов обслуживания, но и иные статусы их экономической и социальной составляющей. Перспективные возможности настоящих исследований в сфере социальных и философских наук позволяют вскрывать многообразные аспекты развития сервиса на фоне эволюции экономической системы.
Сервисология как любая наука на определенном этапе своего становления и развития стремится сконструировать свое гносеологическое пространство, создать категориальный аппарат, матрицу онтологических смыслов. Каждое такое построение — это начало теоретической фазы ее развития, приходящей на смену эмпирической и описательной. Так было в случае со многими гуманитарными науками: историей, социологией, политологией, юриспруденцией, филологией и т. п. Рано или поздно каждая из них приобретает свою онтологию, реальность, социальную значимость, что позволяет окончательно легитимировать и институционализировать их научнодисциплинарный статус.
Сервисология — новая наука, которая уже имеет некоторый опыт философского само-осмысления. Освещение социально-философского ракурса этой науки способствует экспликации социально-ценностных и символических аспектов этой специфической сферы реальности.
Актуальность подобного анализа определяется несколькими факторами. Во-первых, современный сервис (третичный сектор экономики), постепенно занимая лидирующее положение в социальных и культурных процессах, подчиняет все свои экономические составляющие — производство, распределение, обмен и потребление. Гедонистическая этика современного мира с повышенным интересом к модернизирующимся технологиям, моде, окружающему интерьеру и сфере досуга в повседневной жизни характеризуется не столько утилитарным, сколько символическим характером потребления, удовлетворяющего человеческие желания современного индивида как посредством обладания вещами, так и посредством участия в обмене знаково-эстетиче- ской информацией. Именно символический обмен выступает на сцене сервисного пространства как доминирующая практика и вовлекает своих участников в круговорот товаров, услуг и сервисных продуктов.
Во-вторых, феномен сервиса можно рассмотреть в качестве модератора не столько экономических, сколько социальных отношений, что позволит определить модус бытия современного общества как общества потребления или сервисного.
В-третьих, социально-философский анализ сервисной деятельности, включенной в пространство повседневности, становится особенно актуальным в условиях развивающейся высокоинформатизированной культуры, приводящей к тотальному раскрепощению индивидуального сознания человека, потребление и обмен для которого стали одними из самых значимых социальных практик, открывающих перспективы личностного самоо-существления. «Соблазн» потребления, становясь знаком современного общества, способен увлечь каждого, это становится определяющим вектором не только в успешности конструирования идентичности, но и актуализации человеческой самости как ощущения возможности своей инобытийности.
Очевидно, что сфера услуг как индустрия социальных технологий способна выступить сферой успешной социальной интеграции индивида.
Сфера услуг, включая идеологии, стереотипы, убеждения, социальные и культурные паттерны — это, прежде всего, «сфера бытового обслуживания населения», составляющая один из наиболее важных компонентов повседневности быта. Рассмотрение сервиса как пространства повседневности позволяет понять процесс изменений в социуме как поле возникновения и функционирования не только различных систем символов, но и специфического языка.
Говоря о сервисе как пространстве повседневности, мы хотели бы говорить не только о внешней предметной стороне людей, инкорпорированных в это пространство, то есть не только о том, что у каждого работника сферы услуг есть свой жизненный мир, свое рабочее место, круг должностных обязанностей, общения или корпоративный костюм. Сфера услуг — это особое пространство жизни, многомерное и сложноструктурированное, на- полненное разнообразными смысловыми значениями. Здесь существуют свои ценностные приоритеты, легитимируются эталоны поведения, мотивация, иными словами, разнообразные практики, благодаря которым осуществляется сервисная деятельность. Сервисное пространство — это и физическое, и социальное пространство с диспозициями власти и подчинения, сцены и зрительного зала, внешнего и внутреннего, вторгающееся в жизнедеятельность любого индивида и оказывающее на нее влияние. Повседневность человеческой жизни и сфера услуг дополняют друг друга. Сервис обретает бытие именно в повседневном мире людей, находит в нем свое пространство, среду.
Задача философского исследования заключается не только в анализе практического сознания, повседневного опыта, описании повседневности через анализ обыденного и бытийного (бытового), но и в осуществлении попыток обнаружения ценностных смыслов обыденности в повседневной жизни.
Жизненный мир долгое время не изучался специально, и исследователи стремились к преодолению того, что пренебрежительно именовалось «повседневной жизнью». Обыденное сознание трактовалось крайне противоречиво. Во многих исследованиях при указании на значимость повседневного сознания, следовало утверждение, что обыденное сознание относится к низшему уровню отражения действительности. Подобное противоречие присутствовало почти во всех разновидностях классического социального знания (марксизме, фрейдизме, структурном функционализме). Повседневное и неповседневное представлялось принципиально различными онтологическими структурами, а сама повседневная жизнь и практическое сознание подвергались критике и проверке на истинность.
В русской философии первыми опытами «раздумий и всматриваний в жизнь» становятся поздние работы И.А. Ильина. Большинство из затрагиваемых им мотивов берется из будничного миросозерцания. Он отмечает истинные возможности обыденного сознания, подводя философию к мировоззренческому уровню [12].
В советское время философскую традицию повседневности продолжает М.М. Бахтин. Наследие этого мыслителя представляет собой целый проект оригинальных концепций. Рассматривая способы видения мира как «диа- лог сознаний», М.М. Бахтин утверждает идеи «мыслящего человеческого сознания» и «сфер бытия этого сознания» [2]. Диалог у Бахтина — это не только модус бытия в повседневности, но и способ ее узнавания и соприкосновения с ней. В основании диалогической концепции обозначается проблема «я — другой», позволяющая раскрыть архитектонику человеческих взаимоотношений и полифонию постижения бытия.
Понятийная категоризация обыденного сознания происходит на рубеже 50–60-х годов XX века и связана с переосмыслением форм общественного сознания и акцентуацией на сфере быта по сравнению со сферой труда и другими сферами общественного производства. Внепроизводственная сфера жизни индивидов, взятых по отдельности и даже некоторых их групп, начинает играть немаловажную роль. Благодаря обыденному сознанию предполагалось усвоение основной части культурно-идеологических ценностей, «планировалась закладка фундамента личности».
Современные отечественные тенденции философской концептуализации повседневности обозначаются приблизительно к середине 80-х годов XX века. Разнотипность и многоплановость познавательного процесса начинают развиваться одновременно в нескольких философских центрах нашей страны. Институт философии РАН публикует несколько сборников с критическим анализом вненаучного знания, познания и сознания. Их авторами выступают Н.С. Автономова, И.Т. Касавин, В.Н. Порус, В.Л. Рабинович, В.Г. Федотова. Явный поворот к проблемам повседневности обозначается в 1987 году с выходом в свет монографии И.А. Бутенко «Социальные познания и мир повседневности» [5]. В.Г. Федотова одной из первых среди наших философов занималась разработкой целостной концепции социальной природы познания. В ее концепции показаны повседневные истоки познания, отмечена незаменимая роль вненаучного знания как посредника между наукой и практикой [21]. Сообщество исследователей северной столицы рассматривало структуры повседневности в качестве фундаментального условия не только процесса познания, но и всего бытия человека в мире культуры.
Эволюция исследований повседневности сопряжена со сменой парадигм социального знания. Наиболее активно и последовательно проблематику повседневности разрабатывает Н.Н. Козлова [15]. Повседневность понимается этой исследовательницей в процессе неизбежных изменений социума как поле создания и функционирования различных знаково-символических систем и «наивного» языка, с помощью которого реальный мир «переопи-сывается» таким образом, что его структуры выглядят вполне естественными [14]. Учитывая всеобщность, универсальность повседневности, Н.Н. Козлова отмечала ее фундаментальный социально-исторический смысл. Повседневность, — по ее мнению, — одно из пространственно-временных измерений развертывания истории, форма протекания человеческой жизни, область, где возникает надежда на новацию — банальности, перетекая друг в друга, образуют новые миры. Но она же поддерживает стабильность функционирования человеческих обществ. Повседневность — целостный социокультурный мир, как он человеку дан [15, 13]. Структуры повседневности служат материалом для воссоздания и понимания реальных социальных отношений прошлого и настоящего.
Итак, начиная с рубежа 1980–1990-х годов в российской философии складывается многомерная концепция повседневности, утверждаются суждения о природе, структуре и социально-культурных функциях обыденного сознания, познания и знания, разворачивается картина богатого духовного мира, вырабатываются различные универсалии культуры. В современной парадигме повседневное и неповседневное уже не рассматриваются в качестве несопоставимых по своему значению онтологических структур. Эти реальности различны и несоизмеримы лишь постольку, поскольку представляют разные типы опыта. Исследовательский репертуар российских авторов затрагивает самые разные аспекты бытования сознания и осуществления познания в сфере обыденного. Ряд авторов продолжает изучение так называемого неявного личностного знания, роль которого особенно велика именно в бытовых практиках. Здесь исследовательское пространство простирается в область частных практик повседневности, начиная от анализа понятия вещи и переходя в пространство практик, структурируемых вокруг нее. Более всего в этой области преуспел коллектив исследователей Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Западный опыт исследования повседневной жизни имеет более давнюю традицию. В. Дильтей, одним из первых создавая свой проект «критики исторического разума» [9], положил в основу познания жизнь со всеми ее смысловыми импликациями. Он сыграл особую роль в становлении историцистского мировоззрения, считая, в отличие от И. Канта, что разум не является чистым, а зависит от времени и обстоятельств. Ф. Ницше [19] связывает феноменологию культуры с физиологией человеческих инстинктов, становясь, по сути, основоположником «философии жизни» и открывая новую парадигму в философских науках антропологического цикла. Принципиально важные идеи относительно семиотической специфики явлений жизненного мира высказывает основоположник символической антропологии Э. Кассирер [14]. Символическое в его концепции уподобляется общему потоку жизни и мышления, конституируя сознание как синтез многообразного. К теории символа Кассирера восходит целый спектр концепций, в частности, его идеи обозначили пути к проблеме конструирования «символического универсума» П. Бергера и Т. Лукмана [3].
С одной стороны, эти исследования определяют специфику гуманитарных наук конца XIX — первой трети XX века, а с другой — их методология, инициировав интерес к повседневности, обнаруживает «философско-экономическую» архитектонику жизненного мира, еще не включающую в свое содержание своеобразные и неповторимые события обыденности абстрактного индивида, поэтому, разумеется, обычная сфера обслуживания, которая является сегодня одним из наиболее важных компонентов повседневности быта, не могла стать центральным предметом научно-исторического и тем более историографического изучения. Общественное сознание не просто отражает общественное бытие, это отношение оказывается уже недостаточным. Автономность и взаимосвязь этих двух сфер превращают человеческую жизнь в постоянную драму. Теперь сознание изыскивает в бытии недостатки или, напротив, превозносит его достоинства. Смысл сознания абстрактного индивида и всякого вообще — в интеракции и отклонении от бытия, его удваивании и различении, обмене смыслами между разными сферами и их творчестве.
Поворот вектора познания к смысловым основаниям бытия, к соотношению конкретных вещей и их интенциональных истоков открывает новый горизонт интерпретаций повседневного мира. Следующим этапом рационализации идеи жизненного мира становится феноменология Э. Гуссерля [8]. Его концепт «жизненный мир» приобретает вид стратегической линии культурфилософских исследований. Он видит главное свойство разума в способности конституировать собственные предметы, при этом человек жизненно заинтересован в тех предметах, которые он «примеряет на себя» в процессе взаимодействия с ними. Таким образом, в феноменологии Гуссерля жизненный мир представлен в виде смыслового универсума в его жизненно-практическом модусе, иными словами, в виде сферы деятельностных контекстов.
Поставленная им проблема интерсубъективности расширяет сферу феноменологических исследований. Повседневность Гуссерля — это сфера возникновения смысловых пространств, осознаваемая в качестве проблемы описания условий возможности смысловых связей индивидов как духовных сущностей-монад и в качестве проблемы объективного познания, которое достигается в интерсубъективном опыте психофизически и ментально независимых друг от друга субъектов.
Понятие повседневности и повседневной жизни становится одним из центральных понятий представителей «понимающей» социологии. Повседневность понимается ими как конструкт, характеризующий рутинные и повторяющиеся действия и структуры людей, находящиеся друг с другом в ситуациях «лицом-к-лицу» и «здесь-и-сейчас». Повседневная жизнь опосредована паттернами, которые не только регулируют поведение индивидов, но и нарушают внутреннюю логику всего институционального порядка. Цель феноменологической социологии — исследование процесса освоения человеком своего жизненного мира, основной постулат — «взаимопонимание людей возможно лишь в пределах этого жизненного пространства». Конституирование общей среды коммуникации осуществляется только в повседневном жизненном мире.
Жизненный мир — это целостная структура человеческих практик, определяющая не только горизонт, но и содержание всех его целей и проектов, являющая собой публичную сферу производства разнообразных коммуникационных сетей, образцов взаимодействия, формирования общественного мнения. Указанный феноменологический концепт объединяет горизонты жизненно-практических условий временной связи человека и мира в непосредственной данности бытия.
Концепция жизненного мира продолжает развиваться в сфере социологической теории. С обозначением А. Шюцем структур повседневного мира, выступающих в качестве «веера» культурных моделей в различных социальных матрицах, социальные феноменологи развернули гносеологический вектор исследования повседневности в русло его социальной, социально-антропологической и собственно антропологической концептуальности. Шюц сформулировал задачу исследования повседневности в контексте поиска предельных оснований социальной реальности.
Социальная структура мира понимается А. Шюцем как мир повседневной жизни. Основные методологические посылки, указывающие на знаковое содержание социальных взаимодействий и символическую оформлен-ность повседневности, наиболее характерно и убедительно высказаны им в работах «Проблемы природы социальной реальности» [23. С. 401–532] и «Смысловое строение социального мира» [23. С. 685–1022]. Повседневный мир — это жизненный мир человека, который дан ему с самого рождения. В этом мире человек принимает постоянное и неизбежное участие. Это мир, к которому человек ощущает свою причастность, разделяет этот мир и его объекты с другими людьми как события этого мира. Образование смысловых связей происходит благодаря накоплению личного опыта и усвоению опыта других людей. Иными словами, этот мир дается в интерсубъективном опыте, опыте совместного с другими бытия. Интерсубъективности мира А. Шюц уделяет особое внимание. «Мир повседневной жизни — это и сцена, и объект наших действий и взаимодействий» [23. С 403].
Последнее положение представляет собой хорошую метафору для описания сути сервиса, поскольку процесс обслуживания состоит из множества действий, которые не только клиент в определенной мере воспринимает как театральное представление, но и работники сервисных компаний точно так же, как в театре, пишут сценарии, от которых зависят со- гласованность и последовательность действий обеих сторон. Подобный подход к пониманию сути сферы сервиса основан на теории сценариев и ролей И. Гофмана, который посвятил свои наблюдения обычным повседневным приемам, с помощью которых люди поддерживают создаваемые друг у друга впечатления, связанные с презентацией себя перед другими людьми [7]. Участники «социальной драматургии», являясь друг для друга публикой, в зависимости от согласованности своих действий, способны разворачивать спектакль, управляя своими взаимодействиями и, манипулируя смыслами, осуществлять регуляцию доступа к своей субъективности. Вопрос о том, как совершаются социальные действия в мире повседневности, исследуется в этнометодологии (Г. Гарфинкель, Х.-Г. Зефнер, Р. Коек, А. Си-курел).
Перспектива использования концепции жизненного мира открывается в контексте проблематики постмодерна. Постмодернистские концепции формировались на несколько иной по отношению к феноменологии интеллектуальной почве, однако эти различия не устраняют общих точек соприкосновения. Концептуализация сервиса в аспекте исследования жизненного мира может быть интересна исследователю эстетическими качествами предметной среды у Ж. Бодрий-яра и В. Флюссера или ландшафта у Г. Беме и И. Сепанмаа.
Эти и многие другие авторы предлагают целый ряд подходов к анализу повседневности. Сервис, выступая в качестве одной из оппозиций, сторон повседневности, способен обнаружить не только философские, экономические и социально-антропологические основания своего бытия, но и в методологическом плане как результат аналитической процедуры осуществить синхронный срез социальных и культурных проблем.
Сервисная деятельность, осуществляемая в пространстве повседневного бытия и встраиваемая в социальную структуру и наделяемая такими же смысловыми значениями, как и весь мир повседневной реальности, может быть рассмотрена:
-
1) как социальный феномен, выступающий в форме повседневной реальности, и осуществляемый личностью как субъектом деятельности в ее повседневной практике;
-
2) как психологический феномен, это позволяет вскрыть богатый репертуар неизменных поведенческих реакций на меняющееся окружение;
-
3) как антропологический феномен, представляющий собой кумулятивный опыт народа, группы, в котором при осуществлении обычных жизненных ситуаций прослеживается историческая практика традиций и ритуалов, происходит постоянное обновление их содержания.
Исследование сервиса важно для определения степени, места и значимости сервисной модальности в социуме. Выступая в качестве особого символического пространства — сервисного семиозиса культуры, жизненный мир становится доминирующей действительностью человека и определяет стилистику его конструктивной активности. Ситуация кардинального пересмотра стратегических ориентаций человека в пространстве повседневности может быть обусловлена не только стремлением согласовать социокультурные детерминанты в жизни человека с общественно-экономическими условиями человеческой деятельности, но и сервисным вектором современного образа повседневности.
Список литературы Стратегии исследования сферы услуг в концепции жизненного мира
- Барулин В.С. Основы социально-философской антропологии. М.: ИКЦ «Академ-книга», 2002. 455 с.
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. [Электронный ресурс]: http://dustyattic. ru/culture/mmbahtin_ad/? month: int=1. (дата обращения: 15.02.2010).
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. 323 с.
- Бурдье П. Социология социального пространства/Пер. с франц.; Отв. ред. перевода Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб: Алетейя, 2005. 288 с.
- Бутенко И.А. Социальное познание и мир повседневности: Горизонты и тупики феноменологической социологии./Ирина Анатольевна Бутенко; Отв. ред. Л.Г. Ионин; АН СССР, Институт социологических исследований. М.: Наука, 1987. 141 с.
- Д.А. Аманжолова, В.Э. Багдасарян, В.Н. Горлов и др./Введение в специальность: История сервиса: Учебное пособие. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2007. 384 с.
- Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни/Пер. с англ. и вступ. статья А.Д. Ковалева. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. 304 с.
- Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология//Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск: Агентство Сагуна, 1994. С. 49-100.
- Дильтей В. Наброски к критике исторического разума//Вопросы философии. 1988. № 4. С. 135-152.
- Ильин В.И. Быт и бытие молодежи российского мегаполиса: социальная структурация повседневности общества потребления. СПб.: Интерсоцис. 2007. 388 с.
- Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 2006. 256 с.
- Ильин И.А. Собрание сочинений: Статьи. Лекции. Выступления. Рецензии (1906-1954)/Сост. и коммент.Ю.Т. Лисицы; Имен. указ. О.В. Лисицы. М.: Русская книга, 2001. 560 с.
- Касавин И.Т., Щавелев С.П. Анализ повседневности. М.: Канон+, 2004. 432 с.
- Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры//Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарики, 1988. С. 440-722.
- Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской: Голоса из хора. М.: РАН. Ин-т философии, 1996. 216 с.
- Козлова Н.Н. Социализм и сознание масс (Социально-философские проблемы). М., 1989. 158 с. Ее же. «Я так хочу назвать кино»: «Наивное письмо»: опыт лингвосоциологического чтения/Наталья Никитична Козлова; Соавт. Сандомирская И.И. М.: Гнозис: Рус. феноменол. общ-во, 1996. 255 с.
- Козлова Н.Н. Социология повседневности: переоценка ценностей // Общественные науки и современность. 1992. № 3. С. 47-56. Ее же. Крестьянский сын: опыт исследования биографии // Социологические исследования. Июнь. 1994. № 6. С. 112-123.
- Миронов Б.Н. Историческая социология России: Учебное пособие/Под общ. ред. В.В. Козловского. СПб.: Изд. дом С.-Петерб. ун-та; Интерсоцис. 2009. 536 с.
- Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое//Ницше Ф. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1997. С. 232-490.
- Смирнова Н.М. От социальной метафизики к феноменологии «естественной установки» (феноменологические мотивы в современном социальном понимании)./Наталья Михайловна Смирнова. М.: ИФ РАН. 1997.
- Федотова В.Г. Что может и чего не может наука? // Философские науки. 1989. № 12. Ее же. Истина и правда повседневности // Философская и социологическая мысль. Киев, 1990. № 3-4.
- Философия: Энциклопедический словарь/Под ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики, 2004. 1072 с.
- Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом/Пер. с нем. и англ. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 1056 с.
- Щавелев С.П. Практическое познание. Философско-методологические очерки./Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та. 1994. 232 с.