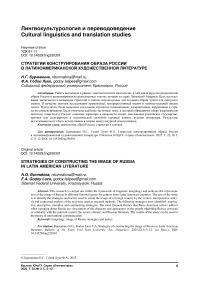Стратегии конструирования образа России в латиноамериканской художественной литературе
Автор: Бурмакина Н.Г., Годой Луко Ф.А.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Лингвокультурология и переводоведение
Статья в выпуске: 3 т.22, 2025 года.
Бесплатный доступ
Работа выполнена в рамках лингвистической имагологии, в ней анализируется репрезентаця образа России в разножанровых художественных текстах авторов из стран Латинской Америки. Цель исследования заключается в выявлении стратегий и тактик, используемых для создания образа чужой для пишущего страны. В качестве методов исследования применялись интерпретативный анализ и контекстуальный анализ текста. В результате были выделены следующие стратегии: номинативная, дескриптивная, нарративная и стратегия комментирования. Были отмечены наиболее частотные темы, к которым обращаются иберо-американские писатели, повествуя о России: описание характера и внешности людей, населяющих российское государство; критика или солидарность с политической системой; суровый климат, русская литература. Результаты исследования могут быть использованы в теории межкультурной коммуникации.
Имагология, образ России, стратегии и тактики
Короткий адрес: https://sciup.org/147252055
IDR: 147252055 | УДК: 81-11 | DOI: 10.14529/ling250301
Текст научной статьи Стратегии конструирования образа России в латиноамериканской художественной литературе
Изучение чужеродности, культурных кодов репрезентации «другого» в художественных текстах является важным источником данных для теории межкультурной коммуникации. Исследования, посвященные описанию образа «другого» и рассмотрению образа своей собственной страны в восприятии других народов на материале художественной литературы (и других письменных источников), объединило исследовательское направление – имагология [13].
Под имагологией понимается научная дисциплина, имеющая предметом изучения стереотипные представления о «других», «чужих» нациях, странах, культурах, инородных для воспринимающего субъекта [10]. Имагология – раздел сравнительного литературоведения, объектом исследования которой являются образы «чужого», способы и особенности их репрезентации и анализа [16].
Предметом исследования имагологии становятся не только характеристики других народов, но и то, как воспринимают нас представители иных культур. Библиография исследований на данную тему на материале различных национальных литератур весьма обширна: Хабибулина, 2014; Пожидаева, 2015; Кубанев, Набилкина, 2019; Дюкин, 2018, Гранцева, 2019; Гевель, 2021; Сун, 2021; Сун, 2023 и др. [2, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 18].
В настоящей статье рассматриваются способы конструирования «другого» на примере репрезентации образа России в художественной литературе ибероамериканских стран (Чили, Никарагуа, Кубы, Мексики, Венесуэлы и Перу).
К теме описания образа России, конструируемого в латиноамериканской художественной литературе, обращались многочисленные авторы: Albuquerque, 2001, Кофман, 2011, Надъярных, 2014, Гарсиа, 2017, Gorrochotegui, 2017, Пешков, 2023, Ханжина, 2017, Garbatzky, 2020, Турыгин, Бахарев, 2022, Годой, 2024 и др. [1, 3, 6, 9, 11, 17, 19, 20, 23, 24]. По данным перечисленных исследователей, взгляд на русский феномен затрагивает такие вопросы, как влияние русских авторов XIX века на мировую литературу, интерес к русской истории, видение латиноамериканскими авторами Советского Союза, а также дореволюционной и постперестроечной России. Были выявлены повторяющиеся темы восхищения русской литературой Золотого века, идеализации Советского Союза, консервативности России, противостояния СССР и США в холодной войне.
Цель настоящей работы видится не собственно в описании образа России в художественных текстах латиноамериканских авторов, а в выявлении стратегий и тактик, используемых для создания этого образа.
В качестве материала для изучения используются произведения художественной литературы на испанском языке различных литературных жанров, а именно: рассказ «La Matuschka (Cuento Ruso)» («Матушка (русский рассказ»)) никарагу- анского писателя Рубена Дарио [21]; травелог «Diario de Moscú y San Petersburgo» («Дневник Москвы и Петербурга») венесуэльского дипломата Франсиско де Миранды [8, 27]; рассказ «Oración a los obreros» («Молитва к работникам») чилийской писательницы Габриэлы Мистраль [30]; очерк «Rusia en 1931. Reflexiones al pie del Kremlin» («Россия в 1931 году. Размышления у подножия Кремля») перуанского писателя Сесара Вальехо [29]; повесть «Siberiana» (Сибирь) кубинского писателя Хесуса Диаса [22]; серия стихов «Descubrimiento de Moscú» («Открытие Москвы»), «¡Stalingrado en pie!» («Сталинград стоит!»), «Los soviéticos» («Советские люди»), «Canto a la paz soviética» («Песня советского мира») мексиканского писателя Эфраина Уэрты [25]; серия стихов «Yuri Gagarin» («Юрий Гагарин»), «Pan caliente» («Горячий Хлеб»), «Hace frío» («Холодно») и «Nieve» («Снег») чилийского писателя Никанора Парры [28]; роман «Otra novelita rusa» («Еще один маленький русский роман») чилийского писателя Гонсало Майера [26].
Рассмотрим некоторые примеры.
Пример 1
«En fin, por senda sin transitables y desnucaderos, aunque el camino aquí no es tan malo como el anterior, avistamos la gran ciudad de Moscú – 32 verstas – cuya meseta de palacios, jardines y chozas todo junto, le da alguna similitud con Constantinopla. Sobre el camino hay varias casas de campo muy bien situadas, con abundancia de árboles, alamedas alrededor, y las cercanías de la ciudad por todas partes parecen sumamente agradables y pintorescas» [27]. (Наконец, продолжив путь по разбитой и тряской дороге, впрочем, уже не такой скверной, как прежний тракт, мы увидели вдали Москву, огромный город – 32 версты – на возвышенности с дворцами, садами и бедными лачугами, все вперемешку, что придает ему некоторое сходство с Константинополем. По дороге встречаются загородные дома, превосходно расположенные, с обилием деревьев и аллей вокруг, и все окрестности города весьма живописны и радуют глаз [8]).
В данной выдержке из работ Ф. де Миранды образ Российского государства создается через знакомство читателя с первыми впечатлениями автора от Москвы XVIII века. В представленном фрагменте используется дескриптивная стратегия создания образа страны, реализованная через тактику описания населенных пунктов. В фокусе внимания оказываются архитектурные особенности одного из наиболее значительных городов империи. Фрагмент содержит восторженные эпитеты «agradables», «pintorescas» (прекрасный, живописный), перечисление составляющих город строений и парков « palacios, jardines y chozas», «casas de campo» (дворцы, сады, бедные лачуги, загородные дома).
Представленное описание не является нейтральным, автор выражает свое отношение к уви- денному, реализуя тактику фактологического комментария (стратегия комментирования). Автор характеризует город как огромный, сравнивает его с Константинополем. Константинополь в данном случае выступает в качестве прецедентного феномена, актуализируются такие его характеристики, как многолюдность, большой размер, имущественное неравенство жителей, важная роль, которую играл данный мегаполис в истории.
Упоминание топонима «Moscú» (Москва) является примером реализации номинативной стратегии репрезентации образа Российской империи. Данный город является одним из символов России, вербализация данного названия актуализирует представления о стране в сознании читателя.
Пример 2
« Leningrado, en general, es una ciudad holgada, limpia, clara y hasta alegre. El zarismo hizo de ella una urbe occidental y casi parisiense, en su plano de conjunto, en su estilo arquitectónico, en su aspecto municipal, en su ornamentación. Residencia de la nobleza y de la alta burguesía rusa, fue dotada de un confort marcadamente occidental, al menos en sus zonas centrales » [29]. (Ленинград, в целом, удобный, чистый, ясный и даже веселый город. Царизм преобразовал его в западный по общему плану, по архитектурному стилю, по городскому облику, по орнаменту напоминающий Париж город. Жизнь дворянства и богатой русской буржуазии не уступала западу в комфорте, по крайней мере, в ее центральных районах).
Настоящий пример также иллюстрирует дескриптивную стратегию, реализуемую тактикой описания населенных пунктов, и стратегию комментирования, выраженную тактикой фактологического комментария. Для описания города используются прилагательные с положительной семантикой «holgada» (удобный), «limpia» (чистый), «clara» (ясный) и «alegre» (веселый). Реализуется сравнение реалий жизни в Ленинграде с европейскими « casi parisiense» (почти парижский), «un confort marcadamente occidental» (настоящий западный комфорт) , констатируется их сопоставимость. Париж выступает в данном случае источником для сравнения, символом великолепия и удобства, Ленинград является мишенью. Констатация их сходства используется в данном случае как похвала. Однако в отрывке присутствуют сразу несколько маркеров умаления « en general», «casi», «al menos» (в целом, почти, по меньшей мере), ослабляющие эффект от представленных положительных характеристик.
Пример 3
«Siberia era un lugar desmesurado, mil veces más grande que México, veinte mil veces más grande que España, cien mil veces más grande que Cuba…» [22]. (Сибирь была громадным местом, в тысячу раз большим, чем Мексика, в двадцать тысяч раз большим, чем Испания, в сто тысяч раз большим, чем Куба...).
Сравнение географических реалий России с другими странами – прием, позволяющий отразить уникальность рассматриваемого государства. В настоящем примере автор в гротескной форме представляет территориальные размеры одного из российских регионов. Троекратный повтор прилагательного «grande» (большой) в сравнительной степени усиливает впечатление, производимое мифологизированно преувеличенным представлением размеров Сибири. Представленный пример иллюстрирует создание образа России через стратегию комментирования описываемых реалий, хотя приводимые комментарии и не являются достоверными. Использование номинации «Siberia» также может быть квалифицировано как номинативная стратегия (тактика называния географических регионов России).
В следующем фрагменте также реализована тактика фактологического комментирования (стратегия комментария):
Пример 4
«Pero, además de ser Moscú un conjunto de ruinas prerrevolucionarias y un conjunto de escombros de la revolución, es la capital del Estado proletario. La urbanización obrera se acelera con ritmo sorprendente» [29]. (Но помимо того, что Москва представляет собой руины дореволюционной жизни, груду осколков революции, она является столицей пролетарского государства. Урбанизация рабочих идет впечатляющими темпами).
Автор изображает в своем произведении послереволюционную Россию, приводит оценивающие комментарии к описываемому. Существительные «ruinas» (руины), «escombros» (осколки) относятся к семантическому полю «разрушение». Эти разрушения не вызывают у автора сожаления, скорее наоборот, создается ощущение революционного пафоса, чему способствует комбинирование данной лексики со словосочетанием «ritmo sorprendente» (впечатляющие темпы) с семантикой положительной оценки, и с лексическими единицами «revolución», «proletario», «urbanización» (революция, пролетарский, урбанизация) из тематического поля «революция».
Тактика называния географических реалий реализуется через номинацию «Moscú» (Москва); для обозначения России в данном фрагменте используется обобщенное название «Estado proletario» (пролетарское государство), отсылающее к коммунистическому проекту.
Пример 5
«Algunos – era imposible distinguir entre los que se mudaban y los que se quedaban – terminaban botellas de vodka por la noche y, poco antes de volver a casa, las arrojaban a las estatuas de Lenin. Algunos aplaudían, otros miraban con reproche, y, desde este punto de vista, el caso era una metáfora modesta pero eficaz: la Unión Soviética estaba pasando por su última borrachera, y cada uno hacía lo que podía» [26] (Некоторые – невозможно было отличить тех, кто уезжал, от тех, кто оставался – вечером допивали бутылки водки и, перед уходом домой, бросали их в статуи Ленина. Кто-то аплодировал, другие смотрели с упреком. Эти сцены служили лаконичной и очень выразительной метафорой: Советский Союз переживал свой последний кутеж, и каждый делал то, что мог).
Настоящий фрагмент представляет сцену социального и политического упадка в стране начала 90-х. Автор использует тактику оценивающего нарратива (нарративная стратегия), он описывает происходящие на его глазах события и приводит свой метавзгляд на происходящее.
Частотно воспроизводимым в латиноамериканской литературе стереотипом о России является холодная погода и суровые климатические условия. Рассмотрим следующий пример, заимствованный из стихотворного текста Никанора Парры:
Пример 6
«Hay que tener paciencia con el sol/ Hacen cuarenta días/ Que no se le ve por ninguna parte» [28]. (С солнцем надо быть терпеливым, / Уже сорок дней/ его нигде не видно).
В примере эксплицируется тема погоды, отмечается отсутствие солнечных дней на протяжении долгого времени (тактика описания климата и погоды, реализующая дескриптивную стратегию). Автор не только констатирует данный метеорологический феномен, но выражает свое к нему отношение « Hay que tener paciencia con el sol» (С солнцем надо быть терпеливым). Данную практику можно интерпретировать как стратегию комментирования.
Описание климата часто реализуется косвенно через перечисление особенностей быта, одежды жителей российских регионов и т. д., что иллюстрирует приведенный далее пример:
Пример 7
«¡Cómo estas gentes, que están obligadas a consumir tanta leña, han podido preservar tantísimos bosques, es cosa que no entiendo» [27]. (Как этим людям, вынужденным сжигать столько дров, удалось сохранить обширнейшие леса, остается для меня загадкой! [8]).
Автор констатирует факт необходимости заготавливать большое количество дров для отопления жилищ жителей Москвы, что косвенно свидетельствует о холодном климате. Это позволяет наряду со стратегией комментирования (автор выражает удивление по поводу увиденного) в данном отрывке выделить тактику косвенного описания климата, реализующую дескриптивную стратегию.
В приведенном далее примере реализуется тактика описания людей, проживающих в Сибири (дескриптивная стратегия), и также приводятся размышления автора о том, каким образом климат влияет на их внешность и характер (стратегия комментирования).
Пример 8
«А Bárbaro le parecía que tanto ella como los demás siberianos eran en extreme rígidos. Solían caminar en silencio, algo inclinados hacia delante, con la cabeza gacha, las mandíbulas apretadas y las manos enlazadas en la espalda, como si la severidad del clima y el peso de las ropas les hubieran contraído los músculos y el espíritu» [22]. (Барбаро показалось, что и она, и другие сибиряки очень жесткие. Они шли молча, слегка наклонившись вперед, опустив голову, сжав челюсти и сцепив руки за спиной, как будто суровость климата и тяжесть одежды сковали их мышцы и дух).
Описание угрюмых, неприветливых людей, проживающих в тяжелых климатических условиях, способствует созданию образа страны мрачной и пугающей.
Пример 9
«Yo, herido, aunque no gravemente, estaba en la ambulancia. Allí se me había vendado el muslo que una bala me atravesó rompiendo el hueso. Yo no sentía mi dolor: la patria rusa estaba victoriosa» [21]. (Я был ранен, но несерьезно, находился в карете скорой помощи. Мне перевязали ногу, пуля пробила бедро, сломав кость. Но я не чувствовал своей боли, русское отечество победило!).
Отрывок иллюстрирует нарративную стратегию создания образа страны, реализованную тактикой констатирующего нарратива. Образ России конструируется в данном фрагменте через перечисление событий, переживаемых самоотверженным русским солдатом. Рассказчик повествует о своем ранении, полученном на поле боя. Эмоции, которые он испытывает в связи с одержанной победой, затмевают для него физическую боль, причиняемую раной. Мужество человека, оказавшегося в трудной ситуации, способно вызывать восхищение у читателя. Тот факт, что представленный литературный герой является представителем российского народа, способствует созданию положительного образа страны, военные которой демонстрируют столь героическое поведение.
Пример 10
«Bregar con aquella naturaleza en la que invierno e infierno eran sinónimos convertía a los nacidos allí en seres física y moralmente superiores» [22]. (Физическое и моральное превосходство людей, рожденных там, ковалось природными условиями, в которых ад и зима составляли тождество).
В настоящем примере образ России конструируется через тактику описания населяющих ее людей (дескриптивная стратегия): « seres física y moralmente superiores» (физически и морально превосходящий). В испанском языке слова «invierno» (зима) и «infierno» (ад) фонетически и орфографически схожи, что использует автор в каламбуре, позволяющем очень выразительно представить климатические условия Сибири. Данный прием можно интерпретировать как тактику фактологического комментария (стратегия комментирования), автор кроме приведения характеристик описываемых им людей включает в текст собственную интерпретацию того, почему, на его взгляд, они обладают данными чертами.
Пример 11
«Las estrellas están muertas de rabia/ Entretanto Yuri Gagarin/ Amo y señor del sistema solar/ se entretiene tirándoles la cola» [28]. (Звезды мертвы от ярости/ Пока Юрий Гагарин / Хозяин и повелитель Солнечной системы / Развлекает себя, бросая им хвост).
Настоящий фрагмент заимствован из стихотворного текста чилийского поэта Никанора Парры. Произведение посвящено первому полету человека в космос. Имя « Yuri Gagarin» (Юрий Гагарин) приобрело статус прецедентного, его вербализация вызывает ассоциации с достижениями советской науки, в данном случае позволяет рассматривать его использование как реализацию тактики называния имен известных личностей, реализующую номинативную стратегию конструирования образа России (Советского Союза).
Проведенное исследование позволяет создать следующую классификацию стратегий и тактик репрезентации образа России в художественных текстах латиноамериканских авторов:
– номинативная стратегия находит выражение в тактике называния важных географических реалий страны (городов, памятников архитектуры Moscú, Leningrado, Stalingrado, Kremlin и др.), тактике называния известных личностей (исторические персоналии, представители культуры и науки, широко известные за пределами России, например, Gagarin, Pushkin, Lenin и др.) и тактике называния ключевого образа (официальные и неофициальные номинации страны в различные исторические периоды, Imperio Ruso, Unión Soviética, URSS, estado proletario и др.);
– дескриптивная стратегия, реализованная тактикой описания людей (их внешности, характера, коммуникативных особенностей), тактикой описания быта (некоторые бытовые реалии воспринимаются как чужеродные, например, русская баня, и получают подробное описание на страницах литературных произведений), тактикой описания населенных пунктов (авторы восхищаются или наоборот, критикуют архитектурные решения в русских городах) и тактикой описания климата и погоды (эксплицитное отображение холода или имплицитное представление климатических особенностей, например, перечисление одежды героев произведений);
– стратегия комментирования реализована тактикой фактологического комментария (авторы, представляя различные реалии из жизни русского народа, выражают к ним свое отношение, например, описывая послереволюционные изменения в Москве, восторгаются ими или выражают критику);
– нарративная стратегия реализуется через тактику констатирующего нарратива и тактику оценивающего нарратива (повествование о происходящих событиях реализуется в нейтральной или оценивающей тональности).
«Всякое изображение инонационального в искусстве опирается (преднамеренно или нет) на стереотип собственного национального восприятия «чужого», и потому создаваемый образ не тождествен реальному прототипу, а творчески преломлен автором. Это свойственно любому виду искусства, берущемуся за изображение «чужого» национального колорита» [10]. Образ России в значительной степени меняется в зависимости от политических взглядов авторов и времени, в которое они работали. Однако есть темы, которые повторяются независимо от периода написания. Анализ литературных произведений позволил выделить наиболее частотные темы, к которым обращаются ибероамериканские писатели, повествуя о России: описание характера и внешности людей, населяющих российское государство; критика или солидарность с политической системой; суровый климат; влияние классической русской литературы на культуру Латинской Америки.