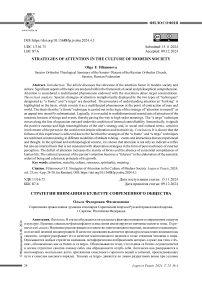Стратегии внимания в культуре современного общества
Автор: Филимонова О.Ф.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье обсуждается актуальность фактора внимания в современном социуме и культуре. В рамках социально-философского осмысления анализируются значимые аспекты темы. Теоретический анализ. Внимание рассматривается в качестве многопланового явления, наделенного максимально плотной целевой концентрацией. В качестве основания выделяется процедура осмысления внимания как «внятия», которое раскрывает его в качестве многопланового явления в точке стяжения человека и мира. Описываются особые стратегии внимания, метафорическим отображением которых служат два типа «техник», обозначенных как «а fronte» и «а tergo». Обосновывается тезис, что техника «а fronte» осуществляется в логике стратегии «внятия самому себе» как обращенности вглубь себя. Логически она раскрывается в многомерных ментальных актах притяжения смыслового горизонта вещей и событий, прокладывающих пути к смыслам высокого порядка. Техника «а tergo» движется по линии разрастания вовне при условии внутренней подконтрольности. Семантически она сигнализирует о положительной сути и высокой осмысленности своей стратегии, а в социальном и культурном плане - о чуткой сопричастности человека миру-событию вопреки отчужденности и нечувствию.
Внимание, социальность, культура, ресурсы, духовность, смысл
Короткий адрес: https://sciup.org/149147299
IDR: 149147299 | УДК: 1/316.75 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.4.3
Текст научной статьи Стратегии внимания в культуре современного общества
DOI:
По словам Б. Вальденфельса, внимание «напоминает соль в супе: она необходима, но ее не замечают» [Вальденфельс 2012, 64]. Частотность повседневных употреблений этого термина обратно пропорциональна его осмыслению, поэтому философская рефлексия внимания является актуальной онто-социальной задачей. В наши дни тематизация проблемы внимания является скорее исключением, нежели эвристикой. Однако не так давно, с конца XIX по XX век, картина была иной. Как известно, в психологических исследованиях стремление к отчетливости представлений о ментальных структурах привело к сведению внимания как психического состояния к сознанию. Позитивистская редукция естественного внимания к любым сходным психическим явлениям, к чему-то, что не есть внимание само по себе (структура восприятия, зрительное поле, сенсорная ясность, установка и т. п.) не является ключом к его содержательному пониманию. Дело в том, что когда задаются вопросом, что такое внимание как процесс или состояние сознания, ответы, даваемые на конкретно-предметном уровне, более пригодны к формулированию функциональных положений, нежели к выяснению внимания с точки зрения его специфики и характеристик.
Философская реабилитация понятия внимания не означает отказ от прежних значительных наработок в экспериментальной психологии и феноменологии, в которых намечен исходный пункт и направления развития темы. В них можно найти полезные сведения о ге- незисе форм внимания (Э. Титченер), его селективной функции (У. Джеймс), социальной (Т. Рибо), волевой (Н. Ланге), активной (Н. Добрынин) природе [Хрестоматия... 1976]. Феноменологическая линия в лице Э. Гуссерля использует понятие внимания как технический термин, прорабатывая его в психофизическом измерении субъекта в качестве функции восприятия, которое, как луч-прожектор, высвечивает предметы, а не содержание опыта [Вальденфельс 2012, 72]. Однако для М. Мерло-Понти внимание обладает смыслообразующей природой и не означает простого высвечивания (согласно представлению о бездействующем субъекте в эмпиризме) предшествующих данных или акта аналитического восприятия данных (имманентная граница знания для интеллектуализма), но означает их новое расчленение, переформирование, установление нового измерения опыта. В такой экзистенциально-онтологической перспективе внимание как интенциональный акт действительно «пробрасывает» свои возможности далеко вперед, открывая бытие как единственное место, где возможен смысл и где рождаются новые смыслы. В своей потенции оно отвечает экзистенциальной потребности в глубокой осмысленности всякого существования и всякого бытия [Мерло-Понти 1999, 57]. Для М. Хайдеггера смысловой основой внимания является «внятие», то, как человек относится к своему бытию, что дает ему эту готовность и усмотрение. Здесь внимание предстает онтологической характеристикой человеческого способа существования, а не отдельной психофизической процедурой и механизмом работы памяти и сознания: «Усматривать бытие помогает лишь собственная готовность внятия» [Хайдеггер 2012, 49].
При этом существуют многочисленные результаты практических наук – нейрофизиологии, кибернетических и когнитивных дисциплин, предлагающих «гибкие» методологические подходы к исследованию функциональных связей между различными локализациями мозга. Однако при всей объективности данных медицинских и когнитивных наук полученные результаты не исчерпывают всей проблемы внимания. Заверения о том, что наука о мозге в силах разрешить многие классические вопросы философии вызывают целый ряд не только научных, но и этических, экзистенциальных, религиозных вопросов. Показательно, как Д. Ваттимо на одной из страниц «Прозрачного общества» говорит о рисках, связанных с пренебрежением иными когнициями, заключающемся в стремлении «распространять на все бытие модели “научной” объективности, способ мышления, которому для господства и возможности строго все организовывать необходимо низвести это “все” к уровню чистых представлений – измеряемых, поддающихся манипуляциям, заменяемых, – и, в конце концов, свести к этому уровню и самого человека, и его внутренний мир, и его историчность» [Ваттимо 2002, 15].
Современная гуманитаристика предлагает более широкий подход. Философская оптика, включающая герменевтический анализ и полисемантику толкований [Петров 2004, 25], востребована в исследованиях, посвященных вопросам внимания как дефицитного ресурса экономики, политики, управления и медиакультуры [Kolesnikova 2019]. В размышлениях об опыте современные исследователи подчеркивают единство человека с миром, где нет жесткой строгости, задающей разделение и границы. Это та смутная тотальность, в которой всё пребывает вместе и в которой быстрая ориентация требует включения различных видов внимания – от волевых решений до событийных его измерений.
Значимость внимания как этической и педагогической практики культуры требует движения от простого внимания к глубокому пониманию. В конечном итоге, внимание не есть только действующий инструмент, но способ конституирования себя и мира, и проникновение в эту проблему позволяет найти удобные форматы для обсуждения многих связанных с современностью вопросов. Целью статьи является поиск релевантных процедур для расширительного понимания внимания, позволяющих сосредоточиться на менее изученных аспектах – социальном и культурном. В этом плане удобным форматом исследования могут стать два типа стратегий, обозначенных нами в виде техник «а fronte» (от лат. frons – лоб) и «а tergo» (от лат. tergo – спина). Попробуем кратко объяснить, что имеем в виду.
Теоретический анализ
Техника «а fronte». В русском языке понятие «внимание» – производное от старославянского слова «имати» – брать; «вни-мати» – слушать (В. Даль). Полагаем, что в своей интенции техника внимания «а fronte» раскрывается в стратегии «внятия самому себе», демонстрируя стяжение усилий в бытийном измерении личной культуры как ресурса внимания. «Внятие самому себе» означает взгляд вглубь себя, обращенность, охватывающую все человеческое существо. Такого рода «внутреннее внимание» наделено слабо операционализированными характеристиками – глубиной, полнотой, широтой [Петров 2004, 30]. Как выражение непринудительного вслушивания в тонусе свободного внутреннего акта, оно являет собой очевидное недеяние, которое может быть столь же действенной силой.
В социальных практиках культуры внимание в технике «а fronte» является неотъемлемой составляющей воспитания ума, чувств, характера, тела (тренировка которого как инструмента духа не менее важна) с предварительно определенной целью и в этом качестве прокладывает пути к выявлению смыслов высшего порядка, где перестает быть служебной характеристикой делания, но приобретает холическую природу. Так мы можем сказать о предельном внимании: «я весь – слух», «я весь – зрение». Такой опыт является онтологическим, он ведет к изменению человеческого естества, восстановлению правильной оптики восприятия и понимания мира в измерении синергии. Сюжет духовного предстояния здесь не случаен. Молитва является чистым способом такого полного осуществленного внимания. П.А. Флоренский дает религиозно-философское понимание молитвы как действия, в котором человек соединяется с Богом. Такой онтологический призыв не только сосредоточивает наше внимание на призываемом, но «...собирает на нем все силовые нити нашего онтологического отношения к бытию...» [Флоренский 2004, 394].
Духовные практики хорошо иллюстрируют этот процесс внимательного, бытийного отношения, когда совершается обращенность, всецело охватывающая человеческое существо. Перемена происходит не в предмете нашего внимания, а внутри человека. С.С. Хоружий подчеркивает направленность внимания, его телос, поскольку главная цель – не внимание как таковое, а трансцендирование, обо-жение: «С приближением к телосу, на подступах к онтологической трансформации начинают меняться конститутивные предикаты человеческого существования, трансформируется активность внимания» [Хоружий 2011, 18].
Логика усилия «внять себе» генерирует духовную работу по трансцендированию в сферы сверх наличного бытия, в созерцание идеальных начал. В своем потенциале оно может быть гарантом и «учредителем» почвы, на основе которой открывается возможность усматривать подлинно сущее в бытии мира, людей и вещей, открывать в себе и для себя, а шире – в других и для других то, что ранее было непостижимо. Без расширения человеческого бытия в его глубины, без способности «без предела» быть в соприкосновении с «предельным» не было бы дальнейшего разветвления духа, мысли и чувства. Не было бы новых возможностей и вариантов творческой переработки реальности, что предполагает свободу как повод испробовать себя в самом трудном и напряженном, требующем таких усилий, которые не можешь потребовать от других, а только от самого себя. Такая работа осуществляется лично, то есть по свободному произволению, а не по необходимости, вне понуждений и инструкций извне. Не предусматривает она и единообразия, поскольку каждый живет по своей «природе», изъясняет себя «в меру вместимости» даро- ваний духа и опыта, следовательно, всякий суверенен внутри своего дела.
Все, что притягивает, беспокоит внимание, зависит не только от извне поступающего, но и от внимательного, то есть продуманного отбора поступающих сообщений, соответствующих всему нашему духовному существу. Не случайно благоприятствующие развитию внимательности духовные практики (молитва, медитация, чтение и др.) и виды деятельности (религиозная, художественная, педагогическая, политико-правовая и др.), отмечены высокой нравственной ценностью для общества. Внимательность в этическом измерении не является в высшем смысле выражением формальным (институциональным), но выступает явлением экзистенциальным, своеобразным установлением соразмерности человека и культуры, глубокой адекватности конкретности бытия. Внимательность в разных своих модальностях располагает тонкими возможностями причастности к бытию-событию, обогащающих, а не обобщающих его – например, доверия, доброжелательности, сопереживания, благодарности и т.п., когда речь идет не о признательности за выполнение должностных инструкций, а о глубинном интересе, который является ответом или участливым вниманием.
Техника «а tergo». Градус владения своим вниманием различен. Владеть вниманием – значит направлять его. Техника «а tergo» – это не ориентировочный рефлекс внешнего «скользящего» распределения внимания, но четкая линия разрастания координации его настроенности в условиях внутренней подконтрольности. Вот почему в своей расширительной интенции вовне она взаимосообщается со стратегией техники «а fronte».
Н.О. Лосский подчеркивал, что настроенность внимания не пассивно наложена на субъективное начало, а составляет его живые произволения и возможность в некотором смысле «жить предметом», выйти за пределы индивидуальности [Лосский 1999, 154]. Вступление предмета в поле притяжения внимания не является лапидарным превращением «чужого бытия в мое состояние, в мой психический процесс», но предполагает настроенность как некую единственность, которую надо пережить, промыслить всем своим бытием. Этическая феноменальность настроенного внимания может выражаться в тонусе личного участия, заинтересованности, ответственности, заботы.
Для М. Хайдеггера направленность внимания есть событие и в качестве экзистенциального отклика равноценно состоянию «стать чем-то полностью захваченным». Быть «полностью захваченным» означает не «раство-рять-себя» (как сахар в воде), а растворяться «в том, что прямо меня касается», вовлекать себя «в то, что меня касается» [Хайдеггер 2012, 235]. Заботливо, то есть «в своей задаче» растраченное внимание, с точки зрения идеи прибыльности (прироста) бытия, парадоксальным образом себя приумножает. Неконтролируемая его растрата опасна, а в ситуациях пустого интереса или бесцельного любопытства губительна, ибо не производит ничего жизненно ценного и допускает возможность «вести-себя-зло».
Внимание интенсифицирует любые способности к восприятию, и чем более устойчиво оно в своей направленности, тем больше его воспитательная ценность. Внимание является центральной проблемой всякого образовательного процесса. Способы формирования и развития умения «владеть своим вниманием» заложены в педагогических целях. Действительно, свойственная сознанию склонность к наблюдению (равно как и проявление удивительной «слепоты»), всегда определяется также факторами, влияющими на личностное развитие (правовое, этическое, эстетическое и др.), то есть раскрытие в каждом обучаемом потенциально заложенных возможностей. То, что предполагается таким требованием, мы можем называть педагогикой внимания.
В социальной практике внимание всегда событийно и в полноте своей реальности противопоставлено равнодушию и невниманию. Невнимание в виде эгоистической позиции или бесцельного внимания – предпосылки его дефицита. Дефицит внимания наращивает бессодержательность форм и отсутствие экзистенциальной полноты человеческого бытия. Пожалуй, истинная причина невнимания заключается не в том, что нам неинтересен предмет, а в том, что он остается для нас нам ино-родным. Мы не захвачены им не в смысле «одержимости» бытия, но в конечном, смысловом измерении любви, ответственности, отзывчивости, благодарности. Внимание без энергии участно-действенного переживания есть, в лучшем случае, беспристрастное наблюдение, где человек выключен, лишен прямого ценностноэмоционального контакта с окружением. Так оно фиксирует собственную негативную актуальность в качестве апатичных, безучастных, случайных и рассеянных реакций.
Нечуткая наблюдательная стратегия, когда интерес оплодотворен только пользой и рациональной калькуляцией, может дать превосходные результаты и не мыслится как отрицательная стратегия. Она делает мир правильным, отрефлексированным в понятии, но формальным, безжизненным. В худшем случае это подглядывание и подслушивание, при котором напряжение внимания нацелено на выявление теневой стороны жизни и коррелирует с телосом неблагодарности и нелюбви к миру. Наиболее явственно нечуткость проступает там, где стремятся добиться вещей ничтожных, пустых, бесполезных, нелепых, одним словом, дурных. Моменты нечувственного безразличия, механического действия или равнодушного бездействия, когда чье-то подлинное переживание не вступает в поле нашего внимания, когда живая содержательность остается в непроглядной мутности, а дух и вера истощены, образуют мир пустого общего.
Напротив, положительный опыт внимательности к окружающему живет не психикой, а условием ответственного сознания как фактом моего бытия, позволяющего улавливать ассоциативную смежность и взаимную связь даже удаленных друг от друга вещей, и, очевидно, требует определенной основы, формируемой педагогикой воли, чувства и мысли. На этой почве взрастает этос культуры личности, в тональности бытия которой внимание делается частью мира-события, а главное, позволяет улавливать и высветлять сущностное, касаясь всех модальностей реализации восприятия.
Заключение
Мы является распорядителями – активными или пассивными – своего внимания, однако, внимание – не инструмент или прибор для смены оптики видения (сосредоточения и рас- пределения), но реальность, взятая вместе с условиями ее собственного производства. Отсюда – важность прохождения всего пути, маркерами которого являются человеческие экзистенциалы как точки вхождения в это пространство. Техника «а fronte» раскрывается в стратегии «внятия самому себе», понимаемого как обращенность внутрь себя, охватывающая все человеческое существо. Логика ее осуществления не замыкается одномерно на личностно-интимном, но открывается расширительными перспективами для содержательно-смысловых претворений в действительности, генерирует многомерную духовную работу, прокладывая пути к смыслам высокого порядка. Благодаря этому возможно достигать полноты понимания впечатлений, обогащать сферу субъективного бытия и потенциал культурного обихода. Техника «а tergo» движется по линии разрастания координации внимания вовне в условиях внутренней подконтрольности, демонстрируя положительную суть и высокую осмысленность расширенной стратегии. Этот опыт достигается в силу того, что техники «а fronte» и «а tergo» объединяются, сообщаясь в разных модальностях сопричастности к бытию. Тогда внимание разворачивается в процесс, развивается от простого внимания к глубокому пониманию и в качестве культурного ресурса участвует в проработке смысловых порядков бытия, становясь динамическим принципом его прироста.
Список литературы Стратегии внимания в культуре современного общества
- Вальденфельс 2012 - Вальденфельс Б. В поисках внимания // Топос. 2012. № 4. С. 62-76.
- Ваттимо 2002 - Ваттимо Дж. Прозрачное общество. М.: Логос, 2002.
- Лосский 1999 - Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М.: ТЕРРА-Книжный клуб: Республика, 1999.
- Мерло-Понти 1999 - Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Наука, 1999. EDN: QWJLFB
- Петров 2004 - Петров Н.И. Герменевтика внимания в православном опыте. Саратов: СГСЭУ, 2004. EDN: QTTOQF
- Флоренский 2004 - Флоренский П.А., св. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). М.: Мысль, 2004.
- Хайдеггер 2012 - Хайдеггер М. Цолликоновские семинары. Вильнюс: ЕГУ, 2012.
- Хоружий 2011 - Хоружий С.С. Три школы внимания: Гурджиев, Гуссерль, исихазм // Русский мир и Латвия. Альманах. Вып. 25: Три школы внимания. Рига: Seminarium Hortus Humanitatis, 2011. C. 9-22.
- Хрестоматия... 1976 - Хрестоматия по вниманию. М.: МГУ, 1976.
- Kolesnikova 2019 - Kolesnikova D.A. The Economy of Attention in the Age of Mental Capitalism // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2019. Т. 35, вып. 4. С. 563-568. DOI: 10.21638/spbu17.2019.403 EDN: NVCTXG