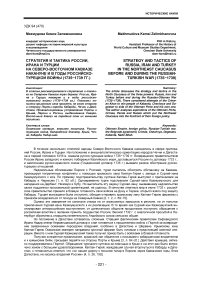Стратегия и тактика России, Ирана и Турции на Северо-Восточном Кавказе накануне и в годы российско-турецкой войны (1735-1739 гг.)
Автор: Махмудова Кемси Зелимхановна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается стратегия и тактика на Северном Кавказе трех держав: России, Ирана и Турции накануне и в годы российско-османской войны (1735-1739 гг.). Показаны попытки крымского хана привлечь на свою сторону и сторону Порты народы Кабарды, Чечни и Дагестана. Проанализированы устремления Порты и Крыма, Персии и России, выдвигавшие СевероВосточный Кавказ на передний план их внешней политики.
Османская империя, внешняя политика, русско-турецкая война, белградский договор, крым, чечня, кабарда, надир-шах
Короткий адрес: https://sciup.org/14934735
IDR: 14934735 | УДК: 94
Текст научной статьи Стратегия и тактика России, Ирана и Турции на Северо-Восточном Кавказе накануне и в годы российско-турецкой войны (1735-1739 гг.)
В течение нескольких столетий народы Северо-Восточного Кавказа находились в сфере притязаний России, Ирана и Турции. На положение и внешнеполитическую ориентацию народов Чечни и Дагестана в первой половине ХVIII в. оказала русско-турецкая война 1735-1739 гг. Возвращение правительством России Ирану западного и южного побережья Каспийского моря, доставшегося России по договору 1723 г., и заключение русско-иранского союза (Гянджинский договор 1735 г.) вызвали резкое обострение русско-турецких отношений.
Недовольные сближением Персии с Россией, турки пытались обострять обстановку на Кавказе, провоцируя пограничные конфликты с помощью крымского хана Каплан-Гирея с запада и Сурхай-хана Казикумухского с юга. По прямому подстрекательству султана Каплан-Гирей выступил с претензиями на Кабарду и Черкесию [1, л. 82 об.]. Одновременно турки подстрекали Сурхай-хана Казикумухского для нападения на Дербент, Низовую и Кубу. Но выполнить эту задачу Сурхай-хану, вызвавшему недовольство своих подданных проосманской ориентацией, не удалось. В качестве ответных мер в июне 1732 г. российское правительство привело в боевую готовность свои войска на Дону и Тереке, открыто взяло под защиту Кабарду. Турция вынуждена была отступить, обещая отправить крымскому хану Каплан-Гирею фирманы с приказом воздержаться от похода на Северный Кавказ [2, т. 2, с. 69-70].
Однако эти заверения не означали отказа ни от агрессивных замыслов в регионе, ни от попыток привлечения Сурхай-хана Казикумухского к их реализации. В то время как Сурхай-хан Казикумухский инспирировал антироссийские выступления, от дагестанских обществ продолжали поступать обращения к российским властям о желании принять подданство России. Весной 1732 г. с аналогичной просьбой в Петербург обратились старшины влиятельного Андийского союза сельских общин.
Но положение в Дагестане оставалось сложным. Ставший фактическим правителем Сефевидского Ирана Надир отверг Керманшахский договор и стал готовиться к продолжению войны с Портой за возвращение захваченных османами персидских владений, особенно в Дагестане и Ширване. Крымскому хану Каплан-Гирею Османская империя направила срочный фирман быть готовым к предстоящей военной операции. Вместе с ним Сурхай Казикумухский также получил приказ быть с войсками в боевой готовности.
Получив конкретное предписание, крымский хан обратился с письмами к кабардинским владетелям и к кумыкским биям, призывая перейти на сторону Порты и Крыма [3, л. 64 об.]. Действия крымцев, активно поддерживались Портой. Обращение турецкого султана за помощью в Крым и на этот раз было встречено ханом с большим удовлетворением. Каплан-Гирей, жаждавший случая вторгнуться в Кабарду и Дагестан, с готовностью ответил, что «он нашел дорогу к посылке татар в Персию через Кавказские горы, близ Дагестана, не касаясь владений России» [4, л. 26, 158].
Заключив перемирие с Надиром-шахом, османы стали форсировать поход крымцев через Дагестан. Сознавая, что крымские войска должны пройти через российские владения или владения подвластных России кабардинских, чеченских и дагестанских владетелей, что противоречило Стамбульскому договору 1724 г., султан послал фирман крымскому хану, «чтоб посылал татар в Персию тем путем, который он… усмотрел чрез кавказские горы» [5, с. 77].
Несмотря на двукратное предупреждение российского резидента, что намеченное предприятие будет рассматриваться как враждебный акт против России, султан решил не откладывать поход [6, л. 227-229].
Предвидя нелегкую борьбу с Россией, правители Порты и Крыма пытались заблаговременно заручиться поддержкой северокавказских владетелей. В конце марта – начале апреля 1733 г. крымский хан Каплан-Гирей и калга Фетхи-Гирей от имени турецкого султана Махмуда обратились с воззваниями к владетелям Кабарды, Дагестана и Чечни, склоняя их на свою сторону для оказания помощи в проходе крымского войска через их владения.
Однако эти воззвания не встретили поддержки среди местного населения, стремившегося найти защиту от агрессии крымцев под покровительством России, о чем свидетельствуют донесения главнокомандующего российскими войсками на Кавказе ген. В.Я. Левашова и грузинского царя Вахтанга VI в апреле и мае 1733 г. Воззвания, адресованные кабардинским, чеченским и кумыкским владельцам, были вручены ген. Левашову, который отправил их оригиналы в Петербург, а копии и переводы с них – резиденту И.И. Неплюеву в Стамбул [7, с. 120]. И.И. Неплюев представил изобличающие документы, расценив действия крымского хана Каплан-Гирея как акт агрессии, противоречащий Стамбульскому договору 1724 г. [8, л. 13, 17-18, 35, 37 об.]
-
4 июня 1733 г. сопровождавший крымское войско Мустафа Ага обратился к ген. Д.Ф. Еропкину с требованием пропустить крымский корпус. Получив отказ от российского командования, крымцам пришлось двигаться зигзагами, переправившись во владения чеченских владетелей через Терек выше гре-бенских городов. На повторное требование российского командования прекратить поход Фетхи-Гирей ответил отказом. Крымцы остановились в чеченских землях, настраивая местных жителей против России. А Фетхи-Гирей договорился с кайтагским уцмием Ахмед-ханом, который провел «крымцов и кубанцов через свое владенье за Дербент к Шемяхе» [9, л. 114].
В целом же, хотя предводители крымцев от имени турецкого султана и хана Каплан-Гирея раздавали наиболее влиятельным светским и духовным местным владетелям пышные титулы, денежные награды и щедрые подарки, активно привлечь их на свою сторону они не смогли [10, с. 127].
Со своей стороны Россией были предприняты определенные меры для восстановления своих позиций на Северо-Восточном Кавказе. Против изменившего кайтагского уцмия был направлен отряд под командой полковника Лошана, который занял и сжег резиденцию уцмия Башлы. Главнокомандующим российскими войсками на Кавказе вновь был назначен В.Я. Левашов. Прибыв на Сулак, действуя дипломатией и силой оружия, он привел к покорности России «мятежных» владетелей.
Стабилизация позиций России в регионе вызвала резонанс в правительственных кругах Стамбула, Петербурга, Лондона и Парижа. Осложняя положение России на западе и на востоке, английская и французская дипломатия подталкивала Порту на войну с ней, отказываясь, в противном случае, «защищать» интересы султанской Турции. Ввиду этого, великий визирь заявил протест И.И. Неплюеву, обвинив Россию в нарушении Стамбульского договора 1724 г. и уничтожении крымского войска. Петербург, опасаясь иранотурецкого договора против России, делал Надиру далеко идущие уступки. В апреле 1734 г. шахскому послу в России Мирзе Касиму официально было объявлено о готовности российского правительства к возврату Персии Прикаспийских провинций, в случае гарантии их от захвата со стороны Порты. Надир заявил, что намерен заключить договор с Портой, если Россия немедленно не возвратит Персии Прикаспийские провинции и Дербент сверх Рештского договора. [11, кн. 10, т. 20, с. 396-397]. Спустя некоторое время под влиянием Англии и Франции султан Махмуд ратифицировал персидско-османский договор 1733 г. о возвращении шахскому Ирану захваченных провинций, подписанный Ахмед-пашой под Багдадом [12, с. 84].
С этого времени вплоть до своей гибели Надир придавал огромное значение созданию кавказского плацдарма для борьбы против России и Османской империи. 6 августа 1734 г. он прибыл на Куру, откуда обратился к кайтагскому уцмию Ахмед-хану, сыну Адиль-Гирея Хасбулату и к другим владетелям с призывом: если в течение трех месяцев «с российской стороны завоеванные городы в персицкую сторону возвращены не будут, то соединится с ним Тахмас ханом и отбирать их сильно» [13, ч. 2, л. 415].
Но Надиру не удалось добиться этой цели. Никто из дагестанских владетелей не выступил против России [14, с. 126].
Положение персидских завоевателей в Дагестане оставалось тревожным. Повсюду на них нападали поддерживавшие Сурхай-хана дагестанцы, азербайджанцы и джарцы. Учитывая сложившуюся обстановку, в конце сентября с оставшимися силами Надир двинулся в Персию. Но перед отступлением из Дагестана, стараясь сохранить здесь опору, он восстановил титул шамхала, передав эту власть сыну Адиль-Гирея Хасбулату [15, т. 1, с. 439].
К этому времени российско-иранские переговоры о возвращении шахскому Ирану Прикаспийских областей и Дагестана шли к завершению. Оказавшись перед перспективой враждебной деятельности коалиции некоторых европейских держав на западе и угрозой антироссийского персидско-османского союза на востоке, петербургский двор решил вывести свои войска из этих областей, чтобы избежать войны на два фронта и превратить Персию из потенциального противника в своего союзника. 10 марта 1735 г. ген. В.Я. Левашов и кн. В.Д. Голицын с одобрения российского правительства подписали с Надиром Гянджинский договор о возвращении шахскому Ирану Прикаспийских областей и части Дагестана с отводом российских войск за р. Сулак [16, с. 202-207].
Выполнение условий Гянджинского договора резко ухудшило геополитическое положение СевероВосточного Кавказа и Прикаспийских областей. Положение усугублялось тем, что отход российских войск из Дагестана и угроза персидского порабощения усилили проосманские настроения среди части местных владетелей.
Несмотря на протесты российской стороны, султан продолжал отстаивать свои притязания на Северо-Восточный Кавказ. Прикрывая подлинные замыслы Порты, в письме к А. Остерману от 25 мая 1735 г. великий визирь пытался убедить его в том, что оказавшись под угрозой персидского нашествия, дагестанцы обратились за помощью к Порте, ввиду чего султан решил направить на спасение единоверных мусульман крымского хана против персов, жаждущих захватить «турецкие владения дагестанские, Шемаху и Ширвань, губя и разоряя тамошних мусульман» [17, л. 14 об.].
Удержать османов от намеченного похода одними дипломатическими мерами России не удалось. В середине мая в Стамбуле стало известно, что диван принял решение отправить в поход крымского хана Каплан-Гирея с 60-тыс. конным корпусом.
Это решение османского правительства привело к нарушению Стамбульского договора 1724 г. и стало поводом для начала российско-османской войны 1735-1739 гг. [18, с. 28].
Оттоманская Порта объявила себя «покровительницей Дагестана» (под которым турки понимали и Чечню) и направила через Северный Кавказ к Ирану новую армию. Игнорируя предупреждения российского командования, к концу августа крымский хан Каплан-Гирей оккупировал всю Кабарду. Крымцы подошли к границам Чечни, откуда хан Каплан-Гирей обратился с воззваниями к чеченским владетелям, требуя перехода на его сторону и беспрекословного признания своей власти. Особые надежды Каплан-Гирей возлагал на старшего чеченского князя Айдемира Бартыханова, оказавшего содействие крымским войскам в 1733 г. Требования дани и покорности вызвали всеобщее возмущение со стороны чеченцев. Даже князь Айдемир, присягнул на верность России. Каплан-Гирей решил вторгнуться на Чеченскую равнину для захвата чеченских аулов через ущелье Хан-Кала на Сунженском хребте, но военные силы, стянутые со всей Чечни, закрыли проход. Попытка крымцев беспрепятственно пройти через Чечню по ущелью, расположенному между аулами Алды и Чечен, полностью провалилась. Ущелье, поглотившее, по некоторым данным, около 10 тыс. крымцев [19, с. 326], сохранилась под примечательным названием «Han Bogasi» [20, s. 356] (ханская глотка). В память об этой победе чеченцы поставили там каменную башню «Хан-Кале», отчего и само ущелье получило название «Ханкальское» [21, т. 1, с. 48].
Однако при поддержке эндиреевских владетелей Айдемира и Алиша Хамзина и кайтагского уцмия Ахмед-хана двум корпусам крымского войска удалось обойти это ущелье и подойти к границам Дагестана, где для них сложилась благоприятная обстановка. Так как 13 сентября 1736 г. российские войска перешли на левую сторону Терека, где была основана крепость Кизляр.
-
28 сентября в станицу Старогладковскую прибыл ханский курьер, который был принят ген. В.Я. Левашовым. От имени крымского хана Каплан-Гирея он потребовал свободного пропуска крымских войск, предупредив, что в противном случае они пробьются силой. В.Я. Левашов не имел достаточных сил для сопротивления 80 тыс. армии и был вынужден пропустить крымцев, после чего они двинулись к Дербенту [22, с. 85]. Недалеко от Дербента произошло сражение между крымцами и тарковским шамхалом Хасбулатом, который был разбит и бежал в горы, но крымский хан вынужден был остановиться ввиду изменения соотношения сил между Персией и Османской империей, с одной стороны, и между Россией и Портой - с другой.
В середине июля 1735 г. персидские войска разгромили османов под Карсом и Ереваном, заставив капитулировать их гарнизоны в Тбилиси, Ереване, Гяндже и Тебризе. В конце сентября в Крым был направлен 20-тыс. корпус под командованием ген. А.А. Леонтьева. Российские войска перешли границы Крымского ханства, разбили ногайцев и заняли станицы запорожских казаков. Получив сведения об этих событиях, султан отправил фирман Каплан-Гирею, чтобы он не предпринимал поход в Персию.
-
1736 г. не внес существенных изменений в политику соперничавших на Кавказе держав, хотя активность этой политики несколько ослабла. В то время как Надир-шах одерживал блистательные победы на Востоке, в Дагестане и Азербайджане начались массовые и длительные антииранские восстания. Попытки их подавления обернулись для захватчиков огромными потерями.
Эти факторы внутреннего и международного порядка были использованы Англией и Францией, чтобы сблизить шахский Иран и султанскую Турцию, спасти Османскую империю от военного разгрома и подчинить своему влиянию. Под влиянием этих держав в сентябре 1736 г. был подписан Эрзерумский мирный договор, по которому, возвращая Персии Грузию, Армению и Азербайджан, Османская империя добивалась нейтрализации статей российско-иранского Гянджинского договора 1735 г., предусматривающего совместное ирано-российское взаимодействие в борьбе против экспансии Порты [23, с. 328].
Русско-турецкая война была Россией выиграна, и в 1739 г. был заключен Белградский мир, усиливший ее позиции на Северном Кавказе и имевший большие политические последствия для его народов. Белградский договор фактически узаконил план «нейтрализации» Кабарды, давно вынашиваемый Османской империей. В то же время «вольная» Кабарда должна была служить своеобразным барьером между зонами влияния Османской империи и России в этом регионе. Однако Белградский трактат 1739 г. осложнял наладившиеся экономические и политические связи России с Северным Кавказом и Закавказьем и в целом ухудшил ситуацию в регионе накануне Дагестанской кампании Надир-шаха. Несмотря на то, что в целом ситуация оставалась сложной, в регионе усилилась прорусская политическая ориентация плоскостной Чечни. Так, влиятельный чеченский князь Айдемир принял «подданство» России и в залог верности своим обязательством дал в аманаты сына Бардыхана, а другой чеченский князь Алисултан Казбула-тов отдал брата своего Бамата. Князья и их уздени стали даже получать денежное довольствие от российского правительства, что говорило об усиливавшемся Российском влиянии и присутствии в регионе.
Ссылки:
-
1. Архив внешней политики России МИД РФ (Далее – АВПРИ). Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 90/I. 1732 г. Св. 33/в. Столб 1. Д. 7.
-
2. Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв. В 2-х т. М., 1957.
-
3. АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/I. 1732 г. Д. 12.
-
4. АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/I. 1732 г. Д. 5.
-
5. Гаджиев В.Г. Разгром Надир-шаха в Дагестане. Махачкала, 1996.
-
6. АВПРИ. Ф. 89. Сношения России с Турцией. 1733. Д. 5.
-
7. Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв. В 2-х т. М., 1957.
-
8. АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/I. 1733 г. Д. 10.
-
9. АВПРИ. Ф. Сношения России с Персией. Оп. 77/I. 1734 г. Д. 7.
-
10. Сотавов Н.А. Северный Кавказ в кавказской политике России, Ирана и Турции в первой пол. XVIII века. Махачкала,
-
11. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн. М., 1993.
-
12. Сотавов Н.А., Касумов Р.М. Дагестан и Каспий в международной политике эпохи Петра I и Надир-шаха Афшара. Махачкала, 2008.
-
13. АВПРИ. Ф. Сношения России с Персией. Оп. 77/I. 1734 г. Д. 7.
-
14. Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана. М.,1965.
-
15. История Дагестана с древнейших времен до наших дней. М., 2004.
-
16. Договоры России с Востоком политические и торговые. Собрал и издал Т. Юзефович. СПб., 1868.
-
17. АВПРИ. Ф. Азиатские дела. Оп. 103. 1724-1735 гг. Д. 3.
-
18. Михнева Р.А. Россия и Османская империя в середине ХVIII в. (1739-1756 гг.). М., 1985.
-
19. Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времен до конца ХVIII в. М., 2001.
-
20. Berkok Ismail. Tarihte Kafkasya. Istambul, 1958.
-
21. Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах и лицах. В 5 т. СПб., 1885.
-
22. Лерх И.Я. Выписка из путешествия Иоанна Лерха, продолжавшегося от 1733 по 1735 год из Москвы до Астрахани,
а оттуда по странам, лежащим на западном берегу Каспийского моря // Новые ежемесячные сочинения. СПб., 1790. Ч. 45.
-
-
23. Ахмадов Я.З. Очерк исторической географии и этнополитического развития Чечни в XVI-XVIII веках. М., 2009.