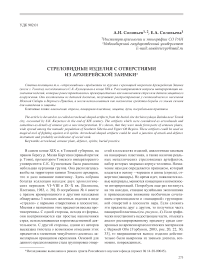Стреловидные изделия с отверстиями из Архиерейской Заимки
Автор: Соловьев А.И., Соловьева Е.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XX, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена т.н. «стреловидным» предметам из кургана с кремацией некрополя Архиерейская Заимка (возле г. Томска), исследованного С.К. Кузнецовым в конце XIX в. Рассматриваются вопросы интерпретации назначения изделий, которые ранее трактовались преимущественно как наконечники стрел или детали защитного вооружения. Они изготовлены из деталей доспехов, получивших распространение у скотоводческого населения Южной Сибири и Верхнего Приобья, и могли использоваться как магические средства борьбы со злыми силами для нападения и защиты.
Наконечник стрелы, панцирная пластина, защита, духи, погребальная практика
Короткий адрес: https://sciup.org/14522117
IDR: 14522117 | УДК: 902.01
Текст научной статьи Стреловидные изделия с отверстиями из Архиерейской Заимки
В самом конце XIX в. в Томской губернии, на правом берегу р. Малая Киргизка (правый приток р. Томи), прозектором Томского императорского университета С.К. Кузнецовым была раскопана небольшая курганная группа. Она располагалась якобы на территории заимки Томского архиерея, что и дало название памятнику. Здесь собрана богатая коллекция находок двух хронологических периодов: VI–VIII и IX–X вв. [Беликова, Плетнева, 1983, с. 38]. В погребении № 4 вместе с прахом кремированного и другими находками обнаружены 3 плоских железных изделия в виде «стрелок» с парными отверстиями в плоскостях. Мнения о назначении этих предметов весьма противоречивы. С одной стороны, исходя из формы, они воспринимаются как простые наконечники стрел, использовавшиеся в производственной деятельности. С другой стороны, одним из авторов высказана гипотеза о возможном отнесении этих предметов к элементам чешуйчатого доспеха с ламеллярным принципом скрепления. Основой для данного предположения стала группировка отвер- стий в плоскостях изделий, аналогичная таковым на панцирных пластинах, а также наличие реальных металлических стреловидных артефактов, набор которых закрывал корпус человека. Назначение находок определяется признаком, который кладется в основу – черешок и шипы (стрела), отверстия (панцирь). Но время идет, появляются новые материалы, меняются концепции и возможности интерпретаций. Попробуем еще раз взглянуть на эти находки, ставшие музейными экспонатами и привлекающие внимание необычным сочетанием стреловидности и «панцирной» группировкой отверстий в плоскости пера. Если сложить эти предметы друг с другом, то получится часть панцирной пластины (см. рисунок, 4). Если графически восстановить недостающие части, отыскать аналог реставрированному предмету среди синхронных во времени археологических материалов с Верхней Оби [Горбунов, 2003, рис. 20, 22, 30, 33], то напрашивается вывод: изделия действительно были выкроены из звеньев доспеха, возможно, поврежденных.
Металлические пластинки из погребения № 4 Архиерейской Заимки ( 1–3 ), пример ремонта ( 4 ) и варианты раскроя изделий из панцирных пластин ( 7–9 ), а также аналогичные панцирные пластины из Ближних Ел-бан XIV ( 5 ) и Кудыргэ ( 6 ) ( 5, 6 – по: [Горбунов, 2003, рис. 20, 22]).
В нижней трети одной из «стрелок», поперек продольной оси, пробиты 2 небольших отверстия. Они подобны тем, что встречаются на небольших плоских треугольных металлических (по большей части бронзовых) предметах со средневековых памятников лесного населения. Эти изделия ассоциируются с наконечниками стрел и служили для соединения наконечника с древком.
Панцирные пластины часто употреблялись не по прямому назначению: для ремонта и украшения, укрепления колчана и пр. [Молодин, Соловьев, 2004, с. 42]. Допустима мысль о наличии здесь магического аспекта, транслирующего свойства одного предмета на другой. В данном случае детали панцирей в колчанном наборе выполняли не только прагматическую, но и магическую функцию. Согласно известным постулатам архаичного мировоззрения, целое в «свернутом», сжатом виде «существует внутри наделенного смыслом фрагмента бытия ... потому, что любой обладающий смыслом фрагмент реальности воспроизводит целое» [Элиаде, 1999, с. 93]. Так, панцирная пластина в сакральной (в т.ч. погребальной) практике будет семантически тождественна доспеху и способна магически осуществлять присущую ему защиту. 274
Скорее всего, защита будет осуществляться и в случае, когда панцирная пластина разделена на части, т.к. согласно указанным принципам, дробление целого на более мелкие части не заставляет их утрачивать его свойства. Классический пример такого плана можно найти в шаманской практике народов Западной и Южной Сибири. Костюм «избранников духов» не осуществляет сплошного бронирования. Вопрос этот разобран С.В. Ивановым, который показал, что защитное сакральное вооружение шамана представляло собой серию небольших металлических подвесок, генетически связанных с панцирем (а в прошлом, вероятно, представлявших его отдельные части) и дававших их обладателю магическую неуязвимость [1978]. Вероятно, стреловидные пластины из Архиерейской Заимки связанны с личной воинской магией, т.е. служили нашивками, дающими владельцу сакральную неуязвимость. Не случайно им придана форма, сочетающая характеристики орудия нападения и средства защиты, что не редкость в военном деле и шаманской практике.
Возникает вопрос: всегда ли треугольные металлические пластинки-наконечники с парными отверстиями использовались в качестве заурядных проникателей стрел? Ведь парное «пуговичное» расположение дырочек крайне удобно и для пришивания предметов на мягкую основу.
К сожалению, многие аспекты традиционных представлений сибирских аборигенов, особенно связанные с военной сферой, прошли через пресс государства, стремившегося снизить накал военного противостояния в регионе и «замирить» враждующих инородцев, используя всю силу административного аппарата и авторитет религии. «Чистоты» отражения идеологии военно-потестар-ного прошлого, которая сохранилась в этнографии индейцев Северной Америки, здесь нет. Думается, что ряд типологически близких мировоззренческих установок, присущих представителям лесной полосы Нового Света, существовал и у западносибирских аборигенов. Тем более, что близки их уровень общественного развития (военно-потес-тарные структуры), многие черты хозяйственной деятельности и ряд типологически родственных представлений.
Самым сильным защитным боевым средством у местных воинов считались «прозрачные» щиты, представлявшие собой «паутинки» из тонких ремней или волос на деревянном каркасе. Основная сила щита заключалась не в толщине кожи, а в тех магических силах, которые ему придавались [Котенко, 1997, с. 112; Стукалин, 2008, с. 309]. Чтобы сообщить оружию такую сверхъестественную мощь, предпринимались разного рода «колдов- ские» меры, которые заключались в снабжении его различными прикладами и амулетами. Средства магической защиты и различные обереги составляли важнейший атрибут подготовки к военным действиям. Без них просто не отправлялись в поход [Котенко, 1997, с. 112; Стукалин, 2008, с. 309; Шульц, 1965, с. 54]. Предметы воинской магии бережно прятали от чужих глаз. Как правило, в мирное время они помещались в специальные мешочки, с которыми хозяин никогда не расставался. Похоже, что именно такие хранилища с личными сакральными предметами обнаружены в погребениях курганного могильника Усть-Изес-1. Среди них есть треугольные предметы из бронзы с отверстием и плоские аморфные фрагменты бронзы с дырочкой. Если первые могли служить наконечниками стрел, то баллистика вторых не поддается обсуждению. Похоже, здесь ключевыми сакральными моментами оказались и сам материал, и отверстия в нем.
Можно ли использовать рассматриваемые находки в качестве наконечников стрел? В сибирском средневековье хорошо известны разнообразные отверстия в плоскостях железных наконечников стрел. Ю.А. Плотников пришел к выводу, что их делали, чтобы придать метательным снарядам особые магические свойства, сделать их всевидящими, думающими, способными предпринимать самостоятельные действия, служить проводником и отпугивать злых духов. Исследователь отмечает, что такие «глазастые» стрелы, известные в преданиях сибирских народов, тесно связаны с воинским мировоззрением, являя пример одушевления оружия [Плотников, 2001, с. 83–88]. В круге идей подобного рода оказались и лесные области Западной Сибири, где на культовых местах встречаются плоские и трехлопастные наконечники стрел с отверстиями в лопастях (Парабельская и Елыкаев-ская коллекции, культовый комплекс некрополя Усть-Изес и т.д.). Есть среди них экземпляры с такой же комбинацией парных дырочек, как на находках из Архиерейской Заимки. Несложно сделать вывод: пары первичных технологических отверстий вполне могли выполнять функции «глаз», «одушевляя» метательные снаряды, делая их всевидящими, придавали сакральные силы, которые усиливались особыми свойствами материала, происходящего от «одежды, спасающей душу», т.е. от почитаемого в устной традиции доспеха.
Подбор данных о стреле как магическом предмете и обереге сделан Ю.И. Ожередовым. Со ссылкой на сообщение В.М. Кулемзина, он приводит данные устной традиции, согласно которым отверстие в метательном снаряде (в данном случае наконечнике) не позволяло дыханию злых духов отклонить его в сторону [Ожередов, 1999, с. 102]. Автор отмечает, что сакральность материала для наконечника стрелы, являлась «определяющим фактором в борьбе с потусторонними силами». Хотя речь идет о бронзе, происхождение наших предметов от панциря придавало глубокий сакральный смысл. Таким образом, если рассматриваемые изделия использовались в качестве наконечников, то они должны были относиться к категории апотропеев, предназначенных для противодействия козням потусторонних сущностей, что особенно важно было в момент заупокойных странствий усопших. Возвращаясь к опыту традиционных верований, можно отметить, что действенные амулеты высоко ценились, а обладание ими в воинской среде связывали с высоким статусом владельца. Возможно, находка бронзовых треугольных проникателей в погребальном комплексе может служить косвенным указанием на нерядовой статус его владельца. В районах предтаежного Обь-Иртышья они обнаружены в заметных в имущественном плане погребениях (Крючное-6, Усть-Изес-1).
Список литературы Стреловидные изделия с отверстиями из Архиерейской Заимки
- Беликова О.Б., Плетнева Л.М. Памятники Томского Приобья в V-VIII вв. н.э. -Томск: Изд-во ТГУ, 1983. -245 с.
- Горбунов В.В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. -Барнаул: Изд-во АГУ, 2003. -Ч. I: Оборонительное вооружение (доспех). -174 с.
- Иванов С.В. Элементы защитного вооружения в шаманской одежде народов Западной Южной Сибири//Этнография народов Алтая и Западной Сибири. -Новосибирск: Наука, 1987. -С. 136-245.
- Котенко Ю.В. Индейцы Великих равнин. -М.: Изд. дом «Техника молодежи», 1997. -158 с.
- Молодин В.И., Соловьев А.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. -Т. 2: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи средневековья. -184 с.
- Ожередов Ю.И. Сакральные стрелы южных селькупов//Приобье глазами археологов и этнографов: мат-лы и исслед. к «Энциклопедии Томской области». -Томск: Изд-во ТГУ, 1999. -С. 77-119.
- Плотников Ю.А. О назначении отверстий в лопастях стрел//Вопросы военного дела и демографии Сибири в эпоху средневековья. -Новосибирск: Изд-во НГУ, 2001. -С. 79-95.
- Стукалин Ю.В. Энциклопедия военного искусства индейцев Дикого Запада. -М.: Яуза; Эксмо, 2008. -688. -(Войны Дикого Запада).
- Шульц Д. В. Моя жизнь среди индейцев. -М.: Мысль, 1965. -360 с.
- Элиаде М. Трактат по истории религий. -СПб.: Алетейя, 1999. -Т. 1. -394 с.