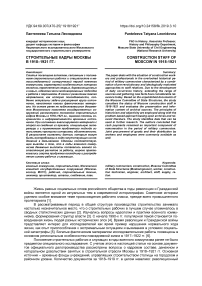Строительные кадры Москвы в 1918-1921 гг
Автор: Пантелеева Татьяна Леонидовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена аспектам, связанным с положением строительных рабочих и специалистов в малоисследованный исторический период военного коммунизма, характерной особенностью которого являлось переплетение старых, дореволюционных и новых, идеологически мотивированных подходов к работе с персоналом. В связи с развитием такого направления, как история повседневности, особенно актуальны задачи расширения круга источников, накопления нового фактического материала. На основе ранее не публиковавшихся документов Московского комитета государственных сооружений рассмотрено положение строительных кадров Москвы в 1918-1921 гг., оценена степень сохранности и информативности архивных источников. При изложении анализируемого материала с опорой на сведения из архивов, специальную литературу и с применением проблемного подхода использованы принципы историзма, объективности. В результате выявлены данные, которые могут быть востребованы в ходе сопутствующих исследований в дальнейшем. Сделаны соответствующие выводы о том, что в годы военного коммунизма денежные выплаты оставались важной составляющей расчетов за работу, широко практиковались закупка продуктов вскладчину и распределение силами рабочих и служащих.
Военный коммунизм, строительство, московский комитет государственных сооружений (москомгосоор, мкгс), рабочий, строительный техник, инженер, архитектор, штаты, снабжение, паек
Короткий адрес: https://sciup.org/149133942
IDR: 149133942 | УДК: 94:69.007(470-25)“1918/1921” | DOI: 10.24158/fik.2019.3.10
Текст научной статьи Строительные кадры Москвы в 1918-1921 гг
Пантелеева Татьяна Леонидовна
Жизнь разных социальных слоев российского общества в годы революции и Гражданской войны является одной из актуальных тем в современной историографии. Советские историки уделяли особое внимание теме происхождения рабочего класса, прежде всего промышленного пролетариата [1].
В рассматриваемый период в общей структуре производства строительство занимало настолько незначительное место, что о строительных рабочих в лучшем случае упоминалось в сводных статистических данных [2]. Изучались вопросы идеологии и практики военного коммунизма, формирования структур власти [3]. C начала 1990-х гг. популярной темой становится повседневная жизнь людей разных исторических эпох [4]. Время революции и Гражданской войны представляет интерес для исследователей как яркий пример нарушения нормального хода жизни, как опыт приспособления к экстремальным ситуациям и выживания в условиях социальной катастрофы [5]. Богатые фактическим материалом исследовательские работы посвящены в основном региональным особенностям повседневной жизни в 1917–1922 гг. [6].
Положение строительных рабочих и служащих в годы военного коммунизма ранее не было предметом специального исследования. С учетом этого в настоящей статье на основе документов официального делопроизводства рассмотрены вопросы о кадровом составе, денежном и натуральном довольствии занятых в строительной отрасли Москвы в 1918–1921 гг. Основной источник – архивные фонды учреждений, управлявших строительством столицы на городском и районном уровне. Количество документов за 1918–1919 гг. в целом невелико: революционный нигилизм, недостаток специалистов и острый дефицит бумаги сократили делопроизводство до минимума. В 1920–1921 гг. постепенно налажен контроль и учет, в том числе со стороны инспекторов Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ). Материалы официального делопроизводства содержат разнообразную информацию о численности и персональном составе работников, отчеты о производственных совещаниях, протоколы общих собраний рабочих и др.
Необходимо отметить, что за редким исключением фонды районных отделов сохранились фрагментарно. Кроме того, внутренняя структура советских учреждений (отделы, подотделы и пр.) непрерывно менялась. Справедливо заметил один из инспекторов РКИ во время ревизии: «Вместо отдела с 7 отделениями обнаружился отдел с 12 отделениями, ни проекта положения, ни сведений о личном составе дано не было, и отдел до сих пор сохраняет свою таинственность» [7]. Для более полного представления и в целях репрезентативной выборки используются фонды не только городского отдела МКГС (ЦГА Москвы. Ф. Р-2051), но и районных, среди которых особой насыщенностью и разнообразием материалов отличается фонд Сокольнического районного строительного отдела (ЦГА Москвы. Ф. Р-2309). Живой человеческий голос, неожиданно звучащий со страниц официального заключения, – самое интересное, что встречается в документах.
Строительная отрасль в 1918–1921 гг., как и экономика России в целом, находилась в тяжелейшем положении: резко сократился объем работ, производство строительных материалов. Продовольственное снабжение и распределение других материальных ресурсов, необходимых для жизни людей, оказалось сосредоточено в руках советских учреждений разного уровня. Общее руководство строительной деятельностью с мая 1918 г. осуществлял комитет государственных сооружений при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) и его территориальные подразделения.
В июне – июле 1918 г. в столице нашего государства, помимо городского комитета государственных сооружений, создано 7 районных отделений. Решением вопросов строительства занимались также отделы благоустройства при районных советах депутатов. Столичный статус Москвы (с 12 марта 1918 г.) давал преимущества в снабжении, строительные работы не прекращались даже в самые тяжелые периоды Гражданской войны. При этом основным видом работ стало приспособление зданий для нужд многочисленных советских учреждений и ремонт. Существенно важен и тот факт, что именно в столице «красногвардейская атака на капитал» проводилась последовательно и под непосредственным контролем центрального партийно-государственного аппарата.
До революции строительство осуществлялось силами частных артелей под контролем государственных и общественных учреждений. В Москве согласование проектов, надзор за исполнением строительного устава, иные задачи выполнял технический отдел при Городской думе. После революции главным заказчиком и организатором строительства стало пролетарское государство, однако полностью ликвидировать частный (по терминологии тех лет – «подрядный») способ строительства не удавалось вплоть до начала 1921 г. [8].
Наиболее квалифицированные специалисты сосредоточились в центральном аппарате Москомгосоора. Среди его сотрудников – именитые архитекторы и инженеры: Г.Б. Бархин, Н.Н. Благовещенский, Л.О. Васильев, П.А. Заруцкий, Н.Г. Лазарев, А.Ф. Мейснер, К.Л. Розенкампф, М.И. Сегаль и другие. В соответствии с одним из вариантов росписи должностей (1921 г.) отдел здравоохранения и санобеспечения возглавлял З.И. Иванов, под его началом работали И.Н. Шибанов, С.Ф. Воскресенский и несколько делопроизводителей. Руководителем отдела культурнопросветительских сооружений был И.П. Машков, среди его сотрудников – более десяти специалистов, в том числе М.К. Геппенер, С.Ф. Кулагин, И.И. Рерберг. Отделом поселкового строительства, в котором трудились секретарь, делопроизводитель и курьер, заведовал Ф.О. Шехтель. Практически половину центрального аппарата Москомгосоора составляли служащие канцелярии и представители иного вспомогательного персонала [9]. Поскольку основным видом строительных работ того времени стал мелкий ремонт, то архитекторы и инженеры центрального аппарата МКГС занимались проверкой смет, иногда выходили на объекты. По оценке инспекторов РКИ, число осмотров можно было считать ничтожным, работу специалистов малоэффективной.
Существовала огромная разница между списочным составом МКГС и штатным расписанием. В марте 1921 г. в 16 отделах центрального аппарата числилось 419 штатных единиц, из них занято всего 168 мест (40 %). Из 91 человека (инженеров и архитекторов) совместителями являлись 28 (31 %), а некоторые занимали в МКГС два места [10]. Главная причина огромного количества вакансий – острая нехватка строительных техников и десятников. Факт обилия отделов и подотделов можно объяснить тем, что должности заведующих отделами и заместителей оплачивались по более высокой тарифной ставке.
Уравниловки в денежных выплатах не было. На протяжении рассматриваемого периода ориентиром для составления смет и расчетов оставались прейскуранты 1913–1914 гг. с поправкой на инфляцию, новые коэффициенты объявлялись каждые два-три месяца. В марте 1919 г. заведующий отделом получал 1 500 р., его помощник – 1 000 р., районные инженеры и техники – 940 р., основная масса служащих – 600–700 р., а минимальная зарплата составляла 400 р. Через два месяца ставки увеличились в 2–2,3 раза [11]. С 1 сентября 1920 г. жалованье районного инженера составляло 4 800 р., техника – 4 350 р. [12], а с 1 января 1921 г. заведующий отделом получал 7 200 р., инженеры и архитекторы – 6 525 р., техники – 6 075 р. при минимальной зарплате 2 310 р. (курьеры, уборщики) [13].
До тех пор пока существовали частные строительные артели, у архитекторов и инженеров Москомгосоора оставалась возможность получения дополнительного заработка помимо казенного жалованья. За надзор над работами по реконструкции Малого театра, выполненными подрядным способом, инженер И.И. Рерберг, архитекторы С.Ф. Воскресенский и В.В. Воейков должны были получить 2 % от израсходованной на ремонт суммы, что составляло 2 016 000 р. (общая сумма – 100 800 000 р.). Своеобразие ситуации состояло в том, что заказчиком работ выступал Москомго-соор. Договор одобрен в июле 1920 г., в марте 1921 г. контрагентам деньги выплатили, а о специалистах забыли. Рерберг обратился с жалобой, в которой отмечал, что в течение 9 месяцев он и его помощники ежедневно во внеслужебное время посещали строительную площадку, составляли чертежи и сметы, а им даже не возместили расходы на транспорт, чертежные и канцелярские работы, а также на изношенную обувь и платье [14]. В документах, к сожалению, отсутствует решение по этому делу. Но очевидно, что сверхдоходы не соответствовали новой государственной идеологии.
В ноябре 1920 г. заведующий отделом сооружений Сокольнического района решил пригласить опытного бухгалтера в целях наведения порядка в делопроизводстве. Работа предстояла большая, общая сумма выплат должна была составить 481 000 р., из них большую часть – 325 000 р. – бухгалтер рассчитывал получить в первый месяц. Однако подготовленный договор аннулировали по требованию Рабоче-крестьянской инспекции как противозаконный, неприемлемый по существу, подрывающий тарифную политику, позволяющий наживаться отдельным лицам за счет государства [15]. Возмущение инспекторов РКИ было настолько велико, что они составили специальный доклад по поводу инцидента с бухгалтером и необходимости уничтожить капитализм во всех его проявлениях [16].
В течение рассматриваемого периода строители жаловались на острую нехватку кадров, их недостаточную квалификацию, а проверяющие органы требовали эффективности, указывали на то, что «рабочие недостаточно хорошо эксплоатируются», много прогульных дней и прочее. Кампании по сокращению штатов не меняли существенно количественный и качественный состав сотрудников, но ликвидация важных структурных подразделений в районах (например, архитектурных мастерских) и передача техперсонала в центр лишала районные отделы специалистов. В марте – апреле 1921 г. во всех 7 районах Москвы насчиталось 34 человека высшего технического персонала (архитекторы, инженеры), 78 техников, 87 монтеров и десятников, 1 970 рабочих [17]. Но по районам эти силы распределены неравномерно.
В Алексеево-Ростокинском районе в начале 1921 г. трудились техник, 9 служащих и 65 рабочих. В городской комитет отправили мотивированную просьбу: «Единственному в районе технику нет возможности все проследить и проверить в натуре. Для пользы дела необходимо увеличить штат до 3–4 чел.» [18]. Однако в связи с очередной кампанией из центра пришло требование о сокращении штатов и угроза, что отказ будет рассматриваться как «нарушение союзной дисциплины» [19].
Первыми кандидатами на увольнение были не специалисты и рабочие, а служащие. В электротехническом отделе МКГС даже составили бланк, в который оставалось только вписать фамилию: «Ввиду того, что моя работа (указывается должность) при подотделе не является необходимой для производства и имеется возможность обойтись без нее, прошу считать меня уволенной (указано, с какого числа), дабы я смогла в двухнедельный срок закончить без ущерба делу возложенную на меня работу, чем и дадите мне возможность работать там, где в моем труде ощущается большая потребность и моя работа будет необходима» [20]. Несмотря на усиленную борьбу с бюрократизмом, количество служащих неуклонно увеличивалось, хотя денежным и натуральным довольствием их обеспечивали по остаточному принципу.
Решением коллегии КГС персонал разделили на три категории: 1) руководящий состав получал паек «безусловно»; 2) специалисты и рабочие – на время проведения работ; 3) служащие не получали паек. К служащим отнесены работники канцелярии, курьеры, уборщицы, кладовщики и сторожа при складах, телефонистки, иной вспомогательный персонал [21]. Иногда и среди этих сотрудников распределяли кое-какие продукты, полученные через продовольственную комиссию Моссовета, например свежие огурцы или рыбу [22]. Но главным способом поддержать служащих были коллективные закупки. Из числа активистов профсоюза выбирали продовольственную комиссию, которая ведала сбором денег с сотрудников, покупкой и распределением продуктов, организацией специальных магазинов или лавок для своих работников. На общих собраниях рабочих и служащих регулярно заслушивали отчеты комиссии. Известны факты о том, что привезенные продукты не разбирали, и они портились, а также зафиксированы случаи воровства или, по меткому определению одного из активистов, «быстрого улетучивания, благодаря таинственной, систематической пропаже товара» [23]. Но в целом сложилась система дополнительного снабжения, которая сочетала торговлю и распределение. Правда, на закупку и провоз больших объемов продуктов (900 пудов картофеля, вагон муки) требовалось особое разрешение.
Положение строительных рабочих всегда имело некоторые особенности в сравнении с постоянными работниками. С учетом сезонного характера строительных работ наем рабочих осуществлялся с 1 апреля по 1 ноября. Прослужившие непрерывно три месяца имели право на двухнедельный отпуск без сохранения содержания для полевых работ. Среди разнорабочих было много крестьян, которые, отправляясь в город, надеялись поддержать собственное хозяйство. Согласно договору найма на строительный сезон 1919 г., оплата труда рабочих состояла из следующих показателей: ежемесячного оклада, точный размер которого должен выработать профсоюз; 50 % ежемесячной надбавки на оклад; сдельной оплаты по довоенным расценкам, увеличенным в 30 раз. При этом 20 % заработной платы обещали выдавать натурой в виде обмундирования, обуви и мануфактуры. В последнем пункте было два характерных уточнения: «по себестоимости» и «по возможности». Если рабочий уходил, не исполнив договор, то администрации предоставлялось право выбора соответствующих действий: либо отобрать вещи, либо взыскать их стоимость. На период работы предоставлялось жилье и питание – обед и ужин, за которые удерживали деньги из жалованья [24].
Строительные рабочие, а также десятники и монтеры получали хлебный паек и дополнительный паек по особым спискам. Разъяснялось, что усиленное питание положено только тем, кто трудится на стройке, не выбранные по каким-либо причинам хлебные паи нельзя было передавать служащим. Именные списки на получение продуктов содержат наиболее полную информацию о движении рабочей силы. Так, в марте 1919 г. в Сокольническом районном отделе числился всего 31 рабочий, в начале апреля – 197 рабочих, 18 десятников и 5 монтеров, в середине апреля из провинции прибыло еще 109 человек. Последние не получили своевременно карточки, и, запрашивая для них полный пакет снабжения по первой категории, из района писали, видимо, для ускорения процесса, что промедление грозит развитием тифозной эпидемии [25]. В целом снабжение рабочих находилось под постоянным контролем, но ни продовольствия, ни спецодежды не хватало.
Характерная примета времени – ордер на получение тех или иных товаров либо услуг за наличный расчет, т. е. одновременно и распределение, и торговля. При выдаче ордера нередко указывали причину, по которой необходимо было срочно выполнить требование. Сохранились ордера на обед в столовой. Их содержание свидетельствует о том, что летом и осенью 1919 г. обед для рабочих состоял из двух блюд и 1 фунта хлеба (450 г), причем в одном ордере могла быть просьба отпустить определенное количество обедов 1) по карточкам; 2) за счет отдела сооружений; 3) за наличный расчет. Как правило, эти цифры объяснялись служебными командировками или использованием дополнительной рабочей силы, например военнопленных, которые разбирали ветхие здания [26].
Рабочие, прибывшие из деревни, могли поехать за продуктами домой, но для этого нужно было получить пропуск. Беспорядочное самообеспечение грозило срывом производственных заданий, поэтому отпускали за продуктами не более 15 % контингента, а самовольный отъезд расценивали как дезертирство. В августе 1919 г. во время уборки урожая рабочие на собрании поставили вопрос о праве на поездку за продовольствием для всех. Решено одновременно отпустить на два-три дня 50 % рабочих, а после их возвращения еще столько же. При этом признавалось желательным отправить по полученным пропускам родственников, а самим остаться на рабочем месте, «дабы соблюсти интересы Строительства Республики» [27].
Таким образом, причудливое переплетение старых, дореволюционных и новых, идеологически мотивированных подходов к работе с персоналом являлось характерной особенностью периода военного коммунизма. При всей революционной нетерпимости к рынку денежные выплаты оставались важной составляющей расчетов за работу, заметную роль в обеспечении продуктами и вещами играли закупки вскладчину и распределение силами самих рабочих и служащих.
Ссылки:
-
1. Рабочий класс в Октябрьской революции и на защите ее завоеваний 1917–1920 гг. // История советского рабочего класса : в 6 т. Т. 1. М., 1984. 495 с.
-
2. Поляков Ю.А . Советская страна после окончания Гражданской войны: территория и население. М., 1986. 270 с.
-
3. Гимпельсон Е.Г. Становление и эволюция советского государственного аппарата управления. 1917–1930. М., 2003. 224 с. ; Павлюченков С.А. Военный коммунизм в России: власть и массы. М., 1997. 270 с. ; Malle S . The Economic Organization of War Communism. 1918–1921. Cambridge, 1985. 548 p.
-
4. Пушкарева Н.Л . Предмет и методы изучения «истории повседневности» // Этнографическое обозрение. 2004. № 5. С. 3–19.
-
5. Бригадина О.В. Быт, нравы, поведение в годы революции и Гражданской войны в России (1919–1922 гг.) // Этнос и культура: развитие и взаимодействие темы : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 2016. С. 35–40 ; Лебина Н.Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю. М., 2018. 488 с. ; Революция и человек: быт, нравы, поведение : сб. ст. / под ред. П.В. Волобуева. М., 1997. 223 с. ; Федоров А.Н. Повседневные настроения российского горожанина в условиях революционных перемен (1917–1920 гг.) // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2009. № 51. С. 37–40 ; Федюк В.П . Российский обыватель в годы Гражданской войны: социокультурные аспекты повседневности // Ярославский педагогический вестник. 2015. № 3. С. 312–318.
-
6. Аксенов В.Б. Повседневная жизнь Петрограда и Москвы в 1917 году : дис. … канд. ист. наук. М., 2002. 234 с. ; Курам-шина А.В. Повседневность рабочих Пермской губернии. 1917–1922 гг. // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 34 (288). С. 67–72 ; Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 2001. 632 с. ; Попов В.Ж . Повседневная жизнь различных категорий городского населения Украины в 1917– 1920 гг. // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2013. Т. 19, № 3. С. 36–39.
-
7. Центральный государственный архив города Москвы (ЦГА Москвы). Ф. Р-2051. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.
-
8. Пантелеева Т.Л. Строительное дело в Москве в 1918–1921 гг. // Строительство: наука и образование. 2018. Т. 8,
-
9. ЦГА Москвы. Ф. Р-2051. Оп. 1. Д. 14. Л. 1–5.
-
10. Там же. Д. 7. Л. 4.
-
11. Там же. Ф. Р-2309. Оп. 1. Д. 1. Л. 60, 84.
-
12. Там же. Ф. Р-2051. Оп. 1. Д. 13. Л. 15.
-
13. Там же. Ф. Р-2309. Оп. 1. Д. 22. Л. 28–33.
-
14. Там же. Ф. Р-2051. Оп. 1. Д. 7. Л. 249 об.
-
15. Там же. Ф. Р-2309. Оп. 1. Д. 1. Л. 27–27 об.
-
16. Там же. Д. 4. Л. 23–24.
-
17. Там же. Ф. Р-2051. Оп. 1. Д. 7. Л. 8 об.
-
18. Там же. Ф. Р-2495. Оп. 1. Д. 4. Л. 10, 15, 41.
-
19. Там же. Л. 74.
-
20. Там же. Ф. Р-2051. Оп. 1. Д. 13. Л. 85.
-
21. Там же. Ф. Р-2309. Оп. 1. Д. 2. Л. 9.
-
22. Там же. Д. 31. Л. 21.
-
23. Там же. Д. 3. Л. 11, 18.
-
24. Там же. Д. 16. Л. 48.
-
25. Там же. Д. 31. Л. 6, 8–11, 25, 33, 42, 64.
-
26. Там же. Д. 31. Л. 1–4, 122–134.
-
27. Там же. Д. 3. Л. 13–13 об.
№ 1 (27). С. 26–39.
Список литературы Строительные кадры Москвы в 1918-1921 гг
- Рабочий класс в Октябрьской революции и на защите ее завоеваний 1917-1920 гг. // История советского рабочего класса: в 6 т. Т. 1. М., 1984. 495 с.
- Поляков Ю.А. Советская страна после окончания Гражданской войны: территория и население. М., 1986. 270 с.
- Гимпельсон Е.Г. Становление и эволюция советского государственного аппарата управления. 1917-1930. М., 2003. 224 с.
- Павлюченков С.А. Военный коммунизм в России: власть и массы. М., 1997. 270 с.
- Malle S. The Economic Organization of War Communism. 1918-1921. Cambridge, 1985. 548 p.
- Пушкарева Н.Л. Предмет и методы изучения «истории повседневности» // Этнографическое обозрение. 2004. № 5. С. 3-19.
- Бригадина О.В. Быт, нравы, поведение в годы революции и Гражданской войны в России (1919-1922 гг.) // Этнос и культура: развитие и взаимодействие темы: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 2016. С. 35-40.
- Лебина Н.Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю. М., 2018. 488 с.
- Революция и человек: быт, нравы, поведение: сб. ст. / под ред. П.В. Волобуева. М., 1997. 223 с.
- Федоров А.Н. Повседневные настроения российского горожанина в условиях революционных перемен (1917-1920 гг.) // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2009. № 51. С. 37-40.
- Федюк В.П. Российский обыватель в годы Гражданской войны: социокультурные аспекты повседневности // Ярославский педагогический вестник. 2015. № 3. С. 312-318.
- Аксенов В.Б. Повседневная жизнь Петрограда и Москвы в 1917 году: дис. … канд. ист. наук. М., 2002. 234 с.
- Курамшина А.В. Повседневность рабочих Пермской губернии. 1917-1922 гг. // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 34 (288). С. 67-72.
- Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: будни населения Урала в 1917-1922 гг. М., 2001. 632 с.
- Попов В.Ж. Повседневная жизнь различных категорий городского населения Украины в 1917-1920 гг. // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2013. Т. 19, № 3. С. 36-39.
- Центральный государственный архив города Москвы (ЦГА Москвы). Ф. Р-2051. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.
- Пантелеева Т.Л. Строительное дело в Москве в 1918-1921 гг. // Строительство: наука и образование. 2018. Т. 8, № 1 (27). С. 26-39.
- ЦГА Москвы. Ф. Р-2051. Оп. 1. Д. 14. Л. 1-5.