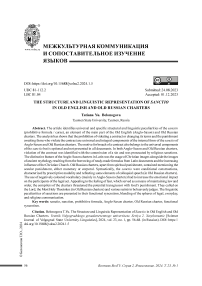Структура и языковая репрезентация sanctio в древнеанглийских и древнерусских грамотах
Автор: Белоногова Т.Ю.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 1 т.26, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье описаны универсальные и специфические структурные и языковые черты sanctio (запретительной формулы / формулы заклятья) - значимого элемента древнеанглийских (англосаксонских) и древнерусских грамот. Запрет на нарушение договора или изменение его условий и наказание, ожидающее того, кто нарушит договор, являются универсальными и обязательными компонентами внутренней формы sanctio англосаксонских и древнерусских грамот; мотив нарушения договора, будучи универсальным компонентом, представлен факультативно. Показано, что в грамотах нарушение договора отождествляется с совершением греха и преследуется религиозными санкциями. В англосаксонских грамотах на латинском языке обнаружено смешение Христианских образов и образов античной мифологии, возникающее в результате заимствования из латинских документов готовых формул и усиливающегося влияния Христианской церкви, в древнерусских грамотах наряду с духовным наказанием - упоминание мирского наказания (телесного или денежного). Определено, что синтаксически sanctio - условные конструкции, характеризующиеся прескриптивной модальностью, которая реализуется глагольными формами и категориями, и в древнерусских грамотах отражающие разговорные элементы. Выявлено, что использование негативно окрашенной лексики (преимущественно в англосаксонских грамотах) усиливало эмоциональное воздействие на участников юридического акта. Апеллируя к чувству страха как средству поддержания законопорядка, составители грамот грозили Божьей карой и призывали в небесные судьи Господа, Пресвятую Богородицу (в древнерусских грамотах), различных святых. Установлено, что языковая специфика санкций обусловлена их функциональным синкретизмом, смешением сфер правовой, бытовой, религиозной коммуникации.
Sanctio, санкция, запретительная формула, древнеанглийская грамота, древнерусская грамота, функциональный синкретизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149145770
IDR: 149145770 | УДК: 81-112.2 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.1.5
Текст научной статьи Структура и языковая репрезентация sanctio в древнеанглийских и древнерусских грамотах
DOI:
Статья посвящена рассмотрению структурной и языковой специфики одного из важнейших элементов композиционной структуры древнеанглийских (англосаксонских) и древнерусских грамот – санкции (от лат. sanctio ), представляющей собой запрет на нарушение условий документа и предусматривающей ту или иную меру ответственности за невыполнение договора.
Англосаксонскими грамотами, или хартиями (англ. charter) называются различные по назначению документы, которые предоставляли какие-либо права или привилегии, фиксировали сделки и оформляли правоотношения между контрагентами. Они представлены королевскими и частными хартиями, земельными пожалованиями, договорами аренды, завещаниями [Keynes, 2001, p. 99]. Для номинации такого документа в текстах древнеанглийского периода использовались лексемы bóc «документ, грамота, устанавливающая право собственности» или ge-writ «письменный документ, грамота»:
-
(1) др.-англ. Ðis is seó bóc, ðe Æðelstán cing gebócode Friþestáne bisceope (DAAS, p. 187) – Это грамота, которую король Этельстан даровал епископу Фритестану (здесь и далее перевод с древнеанглийского и латинского наш. – Т. Б. );
-
(2) др.-англ. 7 þis gewrit was awriten on Wintanceastre (DAAS, p. 159) – и эта грамота была написана в Винчестере.
Земля, переданная на основании грамоты, главным образом, в пользу представите- лей знати или церковных учреждений именовалась bóc-land (бокленд) – форма землевладения, схожая с вотчиной; она стала основой возникновения феодального землевладения в Англии. Однако после нормандского завоевания (XII в.) в результате утраты древнеанглийской юридической письменной традиции лексема bóc в значении «документ, грамота» вышла из употребления. В этот период в лексический состав английского языка вошел термин charter. Он имеет латинское происхождение (лат. cartula букв. small paper) и заимствован из старофранцузского (старофр. charter «charter, letter, document»):
-
(3) др.-англ. Ich Æðelstan... grantye and confirmye by ðisse minre charter (1250 г.) (ASChart, № 23) – Я, Этельстан... передаю в дар и подтверждаю дарение моей грамотой.
Слово грамота , являясь заимствованием из греческого языка (греч. гράμματα), первоначально имело значение «письменность, письмо, азбука», однако уже в ранних памятниках древнерусской письменности (летописях, законодательных актах) оно встречается в значении «деловой документ, акт» (Исаев, 2001):
-
(4) Иже лживую грамоту списавыи о продажи какова либо м h ста, и съ приобщеникы своими, рукы ихъ ус h чени будуть (СлРЯ XI–XVII, c. 119).
На Руси грамотами назывались, главным образом, документы договорного характера – акты, а также официальные и частные письма, представленные на пергаменте, бересте, а с XIV в. и на бумаге [Большая Российская энциклопедия, 2007, с. 619]. Наибольшее распространение слово грамота по отношению к деловым документам получило в X–XVII века. Начиная с XVIII в. «в связи с введением западно-европейской номенклатуры официальных документов термин “грамота” стал употребляться значительно реже» [Большая Российская энциклопедия, 2007, с. 619].
Англосаксонские и древнерусские грамоты представляют собой неоценимый источник для изучения эволюции языковых явлений, фактов истории и культуры, общественных и семейных отношений, быта. В них находит свое отражение языковая картина мира и ре- лигиозное сознание средневекового человека. С конца XVIII – начала XIX в. и вплоть до настоящего времени англосаксонские и древнерусские грамоты не раз становились объектом трудов по истории и лингвистике. При этом рассматривались лексические и грамматические особенности различных видов грамот, написанных на пергаменте и бересте [Янин, Зализняк, Гиппиус, 2015; Gallagher, 2018; Schendl, Wright 2011], синтаксическое строение [Борковский, 1958; Литвина, 1995; Стецен-ко, 1977; Carlton, 1970] жанровая специфика [Качалкин, 1988; Алексеев, 1974; Морковина, 2005; Tollerton, 2011], композиционная структура и отдельные элементы формуляра, в том числе санкции [Андреев, 1986; Каштанов, 1970; Климкович, 2006; Castle, 2016; Hofman, 2008]. Создание электронных баз данных англосаксонских и древнерусских грамот «The Electronic Sawyer», «GRAMOTY.ru», «Drevlit.ru» сделало их доступным для широкого круга ученых и вновь всколыхнуло интерес к данным текстам. Тем не менее стоит отметить, что работы, посвященные как сопоставительному анализу англосаксонских и древнерусских грамот в целом, так и их отдельным элементам, в частности санкциям, единичны. Между тем сопоставительное исследование англосаксонских и древнерусских грамот и их отдельных элементов позволит раскрыть особенности генезиса документных текстов в разных языках, выявить их универсальные и национальнокультурные особенности, что будет способствовать становлению целостной картины возникновения и эволюции официально-делового стиля в английском и русском языках.
Цель статьи – установить универсальные и специфические черты структуры и языкового оформления sanctio , представленные в древнеанглийских и древнерусских грамотах.
Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили тексты древнерусских (70 грамот) и англосаксонских грамот (70 грамот на латинском и древнеанглийском языках), опубликованные в сборниках Б. Торпа, А. Робертсон, Ф. Хар-мер, С.Н. Валка, Б.Д. Грекова и Л.В. Черепнина (см. список источников). Для анализа привлекались также данные электронного онлайн-каталога англосаксонских грамот – The Electronic Sawyer: Revised Catalogue of Anglo-Saxon Charters.
Хронологические рамки исследования ограничены древнеанглийским и древнерусским периодами в истории английского и русского языков соответственно. Нижняя хронологическая граница обусловлена наличием самых ранних сохранившихся англосаксонских (VII в.) и древнерусских (XII в.) грамот. Верхняя хронологическая граница определяется окончанием древнеанглийского (XI в.) и древнерусского (XIV в.) периодов. Несмотря на значительные различия в хронологии, древнеанглийские и древнерусские тексты этих периодов сопоставимы по ряду причин.
Прежде всего необходимо отметить, что указанное время характеризовалось распространением христианства, которое оказало существенное политическое, культурное и языковое влияние на становление древнеанглийского и древнерусского государств. Одним из наиболее значимых результатов принятия христианства стало введение в Англии латинского алфавита, появление и развитие кириллической письменности в Древней Руси, использование латинского и церковнославянского языков.
Таким образом, англосаксонское и древнерусское общества находились в схожей ситуации по отношению к более ранним письменным культурам: ими были восприняты, как отмечает Т.В. Гимон, «многие навыки и представления, связанные с письмом, извне – от Римской церкви и кельтов (Англия), из Византии, Болгарии и, возможно, из западнославянских стран (Русь)» [Гимон, 2011, с. 20]. Помимо этого, как в Англии, так и в Древней Руси, модели текстов юридического и экономического характера складывались на основе образцов римского права, несмотря на то что его рецепция в Древней Руси имела свои особенности и проходила под влиянием византийского (греко-римского) права [Яру-шева, 2016].
Однако при указанных сходствах письменных культур англосаксонского и древнерусского обществ, между ними были существенные различия, которые проявлялись в сферах применения и функционирования латинского и церковнославянского языков. На территории раннесредневековой Англии как в качестве языка богослужения и церковной литературы, так и языка официальных документов использовалась латынь, диалекты древнеанглийского языка применялись в ситуациях бытового общения [Timofeeva, 2013]. В Древней Руси статусом языка богослужения и литературного языка обладал церковнославянский, на котором создавались произведения духовного содержания. Тексты юридического и делового содержания подверглись «минимальному влиянию церковнославянского языка» [Улу-ханов, 2002, с. 25]. Сосуществование церковнославянского литературного и русского административного считается «самой оригинальной чертой языкового развития в России» [Успенский, 1994, с. 15], подобной которой «не было ни у западноевропейских, ни у западнославянских народов» [Успенский, 1994, с. 15]. Как следствие, язык древнерусских грамот характеризовался крайне ограниченным использованием церковнославянизмов. Англосаксонские же грамоты вплоть до IX в. писались исключительно на латинском языке [Gallagher, 2018, с. 207]. Первые случаи применения в них древнеанглийского языка прежде всего для описания границ передаваемой в дар земельной собственности (boundary clauses) ученые датируют IX в. [Lowe, 1998, p. 73], однако доминирование латинского языка в текстах англосаксонских грамот сохранилось и после IX в., поскольку латынь продолжала выполнять роль языка науки, образования и юриспруденции.
Как известно, древнеанглийский язык не был однородным и был представлен четырьмя диалектами [Baugh, Cable, 2002, p. 47]. Борьба англосаксонских королевств, завершившаяся их объединением под властью Уэссекса, привела к возвышению Уэссекского диалекта, ставшего в течение IX в. основным письменным языком, на котором было создано подавляющее большинство письменных памятников древнеанглийского периода, в том числе англосаксонские грамоты [Baugh, Cable, 2002, p. 47]. В развитии языка деловой письменности древнерусского периода ученые выделяют два подпериода: Киевской Руси (X–XII вв.) и феодальной раздробленности (XIII–XIV вв.). Несмотря на увеличение видов документов в XIII–
XIV вв., деловой язык этого времени не подвергся каким-либо существенным трансформациям. Исследуя языковые особенности древнерусских грамот, ученые отмечают в них чрезвычайно небольшое количество диалектных различий. В частности, новгородские пергаменные грамоты «ориентированы на наддиалектные нормы; новгородизмы появляются в них только как отступления... от этих норм» [Зализняк, 2004, с. 12].
Появление древнеанглийских и древнерусских грамот было обусловлено потребностями древнеанглийского и древнерусского обществ, которые характеризовались становлением государственности, формированием различных договорных и имущественно-правовых отношений, требующих письменного закрепления.
Назначение документа предопределяло его структуру, так называемый «формуляр», то есть схему или модель построения, для исследования которой был разработан метод формулярного анализа [Лаппо-Данилевский, 2007; Данилевский и др., 2004; Каштанов, 1970; и др.]. При помощи этого метода ученые определили общую схему построения грамот, включающую начальный протокол, основную часть и конечный протокол [Лаппо-Данилевский, 2007]. Каждая из трех представленных частей дробится на более мелкие составляющие. Так, в основной части может быть максимально реализовано 6 элементов: преамбула, публичное объявление, изложение событий, предшествовавших составлению документа, условия сделки, санкция и удостоверительные сведения [Каштанов, 1970, с. 27]. Использование данной схемы позволяет установить особенности внутренней структуры каждого документа и выявить его универсальные и специфические черты.
Основой для сопоставительного анализа стало сходство функционального назначения исследуемых грамот (фиксирование результата сделки), коммуникативной цели (передача прав или собственности), содержания (определение условий сторон) и композиционной структуры (наличие общих структурных элементов).
Объектом данного исследования является санкция (лат. sanctio) или «запретительная формула», «формула заклятия» [Алексеев, 1974] как один из важнейших элементов, входящих в основную часть англосаксонских и древнерусских грамот. Англосаксонские и древнерусские грамоты имели договорной характер, так как фиксировали сделки и определяли условия [Ма-ловичко, 2002]. Санкция в англосаксонских и древнерусских грамотах представляет собой запрет на нарушение договора и предписывает меру ответственности, возникающей вследствие нарушения запрета. В формуляре средневековых актов представлены санкции духовного и светского характера. Санкции духовного характера (лат. sanctio spiritualis) сводились к перспективе небесной кары, в то время как санкции светского характера (лат. sanctio temporalis) предполагали, главным образом, денежное взыскание или телесные наказания [Чиркова, 2019, с. 31].
Для выявления языковой специфики санкций в древнеанглийских и древнерусских грамотах использовались методы лексико-грамматического, лингвостилистического, контекстуального и сопоставительного анализа.
Результаты и обсуждение
Санкции в англосаксонских грамотах
При анализе внутренней формы санкций в англосаксонских грамотах нами были выделены следующие компоненты.
I. Мотив или причины нарушения договора, такие как зависть, дерзость или «дьявольское наваждение»:
-
(5) др.-англ. gif he þonne to þan gedyrstig wære... (DAAS, p. 166) – если он будет настолько дерзок...;
-
(6) лат. Si quis igitur tetri demonis stimulatione instinctus... (TES, S 595) – Если кто-то побужденный дьявольским наваждением...
-
II. Запрет на нарушение договора, его изменение:
-
(7) лат....nostrum decretum infringere uoluerit (TES, S 595) – ... наше указание захочет нарушить;
-
(8) др.-англ....þe þas gife æfre awende oþþe gewanude (SEHD, № 23) – ...того, кто этот дар когда-либо изменит или уменьшит/
-
III. Собственно наказание.
Как показали результаты анализа, нарушение договора отождествлялось с соверше- нием греха, в результате этого в санкциях англосаксонских грамот преобладало наказание духовного характера. Оно могло настигнуть того, кто нарушил договор, при жизни (отлучение от церкви, анафема) и/или после смерти (Страшный суд, муки в аду):
-
(9) лат....sit anatematizatus (TES, S 581) – будет предан анафеме;
-
(10) др.-англ....sieo he awænded fram God (TES, S 1148) – он будет отлучен от Господа;
-
(11) др.-англ....sy his lif her gescert. 7 his wunung on helle grúnde... (TES, S 985) – жизнь его сократится и пребывание его будет в аду.
При этом упоминание известных грешников, считающихся попавшими в ад, было призвано усилить чувство страха, воспринимаемого в средневековом обществе как основное средство предотвращения правонарушения и поддержания установленного порядка:
-
(12) др.-англ. 7 gif hwa this awendan wylle sy he fordemed mid Iudan Scariothe (TES, S 115) – и, если кто-то захочет это изменить, он будет проклят вместе с Иудой Искариотом.
-
IV. Отсутствие покаяния или искупления совершенного нарушения договора:
-
(13) др.-англ....nymðe heo hit her mid þingonge bote gebete (TES, S 98) – если они здесь не искупят свою вину возмещением;
-
(14) др.-англ....buton he þe hrædlicor þæt forlæte . 7 on riht eac eft gewende (TES, S 1487) – если он это быстро не оставит и также потом по праву не вернет;
-
(15) лат....nisi prius digna satisfactione emenda[ue]rit (TES, S 177) – если прежде достойно не исправит возмещением.
Таким образом, согласно англосаксонским грамотам, того, кто по какой-либо причине нарушит договор или изменит его условия, будет ждать «кара небесная», при условии, что он не искупит свою вину должным образом:
-
(16) лат. Siquis autem hanc donationem meam inuido maliuoloque infringere temptauerit animo. sit separatus in hoc seculo a participatione corporis et sanguinis domini nostri Iesu Christi. et in futuro a cetu omnium sanctorum segregatus nisi antea suam prеsumptionem digna satisfactione correxerit (TES, S 34) – Но, если кто-нибудь это мое дарение попы-
- тается нарушить завистливой злой душой, будет отлучен в этом веке от принятия тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, и в будущем веке от всех святых будет отделен, если он перед этим свое упорство достойно не исправит возмещением.
Необходимо отметить, что выделенные содержательные компоненты представлены не во всех санкциях, при этом обязательными являются запрет на нарушение договора, его изменение и собственно наказание, факультативными – мотив нарушения договора, возможность искупления проступка и возмещение ущерба.
Санкции, или, другими словами, запретительные формулы, имели прескриптивный характер, то есть предписывали действия адресата и характеризовались облигаторностью их выполнения. На морфологическом уровне прескриптивный характер выражался в употреблении форм сослагательного наклонения в активном или пассивном залоге как в грамотах на латыни, так и в грамотах на древнеанглийском языке: лат. pūniātur «будет наказан», torqueantur «будет замучен», corrōditur «будет терзаем», sit separatus «будет отлучен», др.-англ. aebbe «навлечет», sy amansumod «будет отлучен», sy ætbroden «будет лишен», sy fordemed «будет проклят» и т. д.
Синтаксически санкции представляют собой условные конструкции, начинающиеся с древнеанглийского или латинского условных подчинительных союзов gif и si «если»:
-
(17) др.-англ. gif если : ...gif aenig monn ðas ure ge witnisse incerre on owihte ðaet he aebbe ðaes aelmaehtgan godes [unhlisan] (SEHD, p. 6) – если какой-либо человек изменит это каким-либо образом, он навлечет на себя проклятие Всемогущего Господа;
-
(18) лат. si если: Siquis uero minuere uel fraudare presumpserit hanc donationem . sit separatus a consortio sanctorum (TES, S 514) – Если же кто-то дерзнет уменьшить или отнять это дарение, будет отлучен от общества святых.
Грамоты писались непрерывным текстом, система пунктуационных знаков была неразвита, и некоторые из них были добавлены в более позднее время. Данная особенность значительно затрудняет точное определение границ предложения. Однако во многих случаях начало предикативной единицы отмечено со- юзом. Самым частотным был сочинительный союз and или его графический эквивалент, напоминающий цифру 7. Подобный способ соединения предложений получил название «союзное» или «цепочечное нанизывание». Зачастую союз and использовался вместе с подчинительными союзами, в частности gif, маркируя начало условной конструкции:
-
(19) др.-англ. and gyf ænig man sý swá dyrstig ongæn God ðæt ðis áwendan wille... (TES, S 981) – и, если какой-нибудь человек будет таким дерзким против Господа, что это захочет изменить...
В лексическом плане отличительной особенностью санкции как элемента англосаксонской грамоты является наличие негативно окрашенных эмоционально-оценочных лексем, которые выражают отношение сторон договора к его нарушению и тому, кто это совершит. Тот, кто осмелится нарушить договор, считался дерзким (др.-англ. dyrstig ), алчным (лат. avarus ) и завистливым (лат. invidus ). Он навлекал на себя позор и проклятие (др.-англ. unhlisa , awyrgednes ), а незаконное присвоение чужой собственности называлось подлым грабежом (др.-англ. mánfull reáflác ).
Помимо этого, лексический состав англосаксонских грамот характеризуется использованием названий античных мифологических существ и объектов подземного мира:
-
(20) лат....et dentibus Cerberi infernalis sine termino cum daemonibus omnibus Stigia palude corrodetur (TES, S 914) – и зубами адского Цербера со всеми демонами бесконечно будет терзаем в болоте Стикса;
-
(21) лат....sit ipse sub stigei fluminis undam preceps in ima tartara trusus (TES, S 595) – будет низвергнут в волны реки Стикс в глубину Тартара.
Использование таких лексических единиц, встречающихся исключительно в англосаксонских грамотах, написанных на латинском языке, вызывает среди исследователей множество споров. Некоторые специалисты объясняют этот факт тем, что англосаксонские грамоты писались по образцу латинских документов, и санкции, содержащие упоминание античных мифологических существ и объектов, были, возможно, заимствованы в виде готовых формул. Средневековое право вообще характеризовалось приверженностью к формализму, сильный толчок которому дала католическая церковь, собиравшая документы, разрабатывавшая образцы и картулярии (сборники копий грамот). Очень часто образцы были построены таким образом, что оставалось внести только имена сторон и название местности [Хрестоматия..., 1961, с. 46–47].
Другие ученые полагают, что составители грамот на латыни использовали античную мифологию, чтобы придать изложению более высокий стиль или показать уровень своего образования: «...the usage of classical mythological vocabulary may have been prompted by a wish to embellish the sanctions in order to put them into a higher stylistic register or perhaps even to “show off” one’s education» [Hofman, 2008, с. 149] – ...использование лексики из классической мифологии могло быть вызвано желанием приукрасить санкции, чтобы придать им более высокий стиль или, возможно, даже «продемонстрировать» свое образование (перевод с английского наш. – Т. Б. ).
В грамотах, написанных на древнеанглийском языке, античные мифологические образы были вытеснены библейскими (например, муки в аду, отлучение от принятия тела и крови Христова, имя Иуды как величайшего грешника) под влиянием распространившегося по всей территории раннесредневековой Англии христианства. В результате постепенной секуляризации и эволюции договорного права в Англии санкции сакрального характера перестают упоминаться к XIII в. [Castle, 2016, p. 180].
Санкции в древнерусских грамотах
Санкции в древнерусских грамотах имели схожую с англосаксонскими внутреннюю форму. В них мог быть представлен мотив или причина нарушения договора, объясняемые влиянием злых сил:
-
(22) Аще кто дияволъмь [науч]енъ и злыми [челов h кы наваженъ цьто] хочеть отъяти, от нивъ ли, от пожьнь ли, или от ловищь, а буди ему проти-ве[нъ] святыи Спасъ и въ сь в h къ и въ будущии (ГВНП, № 104).
Запрет на нарушение договора, его изменение:
-
(23) А хто сю грамоту переступитъ, на того богъ и святыи Спасъ (ГВНП, № 109);
-
(24) А кто сие мое слово переставить, ино судить ему богъ и святыи мученикъ Георгии въ семъ в h ц h и въ будущемъ (ГВНП, № 79).
В некоторых случаях нарушение договора детализировалось. Так, земельное пожалование нельзя было отнимать, ни полностью, ни частично. Никто не мог им пользоваться за исключением одаряемого:
-
(25) Да же которыи князь по моемь княжении почьнеть хот h ти отъяти у святаго Георги[я, а] богъ буди за т h мь и святая богородица, и тъ святыи Георгии у него то отимаеть (ГВНП, № 81);
-
(26) А въ тое земли, ни въ пожьни, ни въ тони не въступатися ни князю, ни епискупу, ни боярину, ни кому (ГВНП, № 82).
Многие запретительные формулы были направлены против преемников и наследников, которые могли потребовать назад землю, принадлежащую, по их мнению, им:
-
(27) А кто д h тiи моихъ или братьи моее мое данье порушитъ, а то судитъ ему богъ... (ГВНП, № 86).
Как отмечает Ю.Г. Алексеев, такие формулы указывают на неразвитость представлений о земле как частной собственности дарителя. Они свидетельствуют о существовании остатков прежнего восприятия земельной собственности как принадлежащей определенному кругу лиц – родственникам, что, согласно древнему обычному праву, исключало возможность ее передачи [Алексеев, 1974, с. 128]. К XVI в. в результате развития имущественно-правовых отношений подобные формулы выходят из употребления.
Нарушение договора влекло за собой наказание. Однако, в отличие от англосаксонских хартий, в древнерусских грамотах помимо наказания духовного характера, которое могло настигнуть нарушителя договора как при жизни, так и после смерти, с XIV в. встречаются санкции светского характера – штраф или телесное наказание:
-
(28) А хто сю грамот(у) подвигнетъ моих д h теи или моих брат(а)ничев, ино ми с нимъ судъ перед богомъ, а дастъ тотъ с(в 5 )тои Тр(ои)ц h дв h ст h ру-б(ле)въ (АСЭИ СВР, № 4);
-
(29) А черезъ сю мою грамоту кто ихъ ч h мъ изобидитъ, или кто не иметъ ходити по сеи грамот h , быти ту от мене от великого князя в казни (ГВНП, № 88).
В санкциях, представленных в древнерусских грамотах, так же, как и в англосаксонских, встречается упоминание имени Иуды, как одного из самых известных грешников, для иллюстрации того, что ждет человека, осмелившегося нарушить договор:
-
(30) Аще сию грамоту хто преступитъ, да бу-детъ проклятъ треми сты святыхъ отецъ и осмьюнаде-сятъ и буди ему со Иудою причастье (ГВНП, № 103).
Подкрепляя права новых владельцев религиозными санкциями, составители древнерусских грамот обращались не только к Богу, но и к Пресвятой Богородице, что нехарактерно для англосаксонских грамот:
-
(31) А хто на сию землю наступитъ, а то управiтъ мати божия (ГВНП, № 102).
На Руси Богородица – это особо почитаемой духовной фигурой. Она считалась заступницей и защитницей русской земли, предстательницей за людей перед Всевышним [Малето, 2003].
Так как пожалования земли осуществлялись, в основном, в пользу монастырей, в запретительные формулы древнерусских грамот включались имена святых, в честь которых эти монастыри были основаны:
-
(32) А кто почьнеть въступатися въ тое землю, и въ воду, и въ пожни или князь или епискупъ, или хто иметь силу д h яти, и онъ въ второе пришьствие станеть тяжатися съ святымъ Пантеле-имономъ (ГВНП, № 82).
Проведенный анализ показал, что обязательными компонентами древнерусских санкций являются запрет на нарушение договора или его изменение и наказание, факультативными – мотивы или причины нарушения договора; упоминание о возможности искупления вины отсутствует.
Прескриптивный характер древнерусских грамот на морфологическом уровне выражается в использовании форм настоящего-будущего времени глагола, приобретающих в запретительных формулах значение должен- ствования: дастъ, управiтъ, судить, отима-еть, отдастъ, станеть тяжатися. Императивность реализовывалась также с помощью форм инфинитива и повелительного наклонения: быти в казни, буди противенъ. Частица да усиливало значение приказания: да судитъ, да будетъ проклятъ.
Синтаксически санкции представлены конструкциями, маркированными начинательным союзом а или реже церковнославянским условным союзом аще :
-
(33) А хъто наступи и грамоту нашу поруди, i онъ богу и пречистои судъ отдастъ во ономъ в h це (ГВНП, № 283).
В данном контексте определительные конструкции, начинающиеся с а кто / хто , приобретают условное значение. Употребление соотносительных союзов то , ино во второй части конструкции передает значение следствия нарушения запрета, результата:
-
(34) А кто сю грамоту рушит моих детей или кто моего роду, ино суд ми перед богом (АСЭИ СВР, № 5).
Отметим, что древнерусские грамоты, как и англосаксонские – это непрерывный текст, а функционирование имеющихся знаков препинания отлично от современного. Например, для отделения однородных членов могла ставиться точка после каждого из них. Границы предложения графически не отображены, что затрудняет их точное определение. Одни предложения нанизывались на другие и соединялись в крупное синтаксическое целое. Однако в большинстве случаев каждая следующая предикативная единица маркирована каким-либо формальным служебным средством, например союзами а , и , да , получившими название «начинательных». При этом, как показано Т.М. Николаевой, в летописных текстах доминировал начинательный союз и , в то время как в деловой письменности чаще использовался союз а . Объясняется это тем, что деловые тексты в большей степени отражали разговорную речь, в которой данный союз был более распространен [Николаева, 1997, с. 10].
В целом исследователи отмечают недостаточную структурированность и неопределенность местоположения санкции в древне- русских грамотах [Черкасова, 2002, с. 37]. По словам ученых, «относительно устойчивая формула санкции установилась только с XIV– XV вв., в предшествующий период sanctio отличалась большим разнообразием и наличием более ярких образов» [Ельчанинова и др., 2014, с. 273].
Заключение
Результаты проведенного анализа показали, что англосаксонские и древнерусские грамоты характеризуются функциональным синкретизмом, так как сочетают в себе черты правовой, религиозной, бытовой коммуникации. Особенно ярко это продемонстрировано в санкции (запретительной формуле), важнейшем элементе основной части грамот. Универсальными и обязательными компонентами внутренней формы санкции англосаксонских и древнерусских грамот являются запрет на нарушение договора (или изменение его условий) и наказание, ожидающее того, кто нарушит договор. Мотив нарушения договора также принадлежит к универсальным компонентам, однако, будучи факультативным, представлен не во всех документах. Наличие обязательных и факультативных элементов свидетельствует о недостаточной структурированности санкций англосаксонских и древнерусских грамот; к специфическим особенностям санкций древнерусских грамот относится вариативность их местоположения в тексте.
Запретительные формулы носили прескриптивный характер, то есть предписывали действия адресата и характеризовались об-лигаторностью их выполнения, которая реализовывалась на морфологическом уровне с помощью различных форм и категорий глагола. Синтаксически санкции в англосаксонских и древнерусских грамотах представляли собой конструкции с условным значением, маркированные подчинительными или начинательными союзами, и отражали отдельные особенности разговорной речи (в древнерусских грамотах).
Как в англосаксонских, так и древнерусских грамотах нарушение договора отождествлялось с совершением греха, и права бенефициаров подкреплялись религиозными санкциями. Страшный суд, муки в аду вместе с известными грешниками, отлучение от церкви, бездна Тартара и глубины Стикса – неполный список небесных кар, ожидающих того, кто осмелится нарушить волю, изложенную в грамоте. При этом отличительной чертой англосаксонских грамот на латинском языке является смешение Христианских образов и образов античной мифологии, возникающее в результате заимствования из латинских документов готовых формул и усиливающегося влияния Христианской церкви. В древнерусских грамотах помимо санкций, предполагающих духовное наказание, представлены «мирские» санкции – наложение штрафа или телесное наказание. Упоминание Господа, Пресвятой Богородицы (в древнерусских грамотах), различных святых придавало документу авторитетность и весомость. Очевидно, что право на этапе становления было неотделимо от религиозных норм и понятий, соединяя сакральные и светские элементы. Использование негативно окрашенной лексики (преимущественно в англосаксонских грамотах) усиливало эмоциональное воздействие на участников и свидетелей юридического акта. Сопоставительное исследование таких ранних документных текстов, как англосаксонские и древнерусские грамоты позволяет проследить эволюцию договорного права, которое отражало культурный, социальный и политический контекст, в рамках которого оно формировалось.
Список литературы Структура и языковая репрезентация sanctio в древнеанглийских и древнерусских грамотах
- Алексеев Ю. Г., 1974. Частный земельный акт средневековой Руси (от Русской Правды до Псковской Судной грамоты) // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 6. Л.: Наука. С. 125–141.
- Андреев В. Ф., 1986. Новгородский частный акт XII–XV вв. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние. 143 с.
- Большая Российская энциклопедия. В 30 т. Т. 7. Гермафродит – Григорьев, 2007. М.: Большая Рос. энцикл. 767 с.
- Борковский В. И., 1958. Синтаксис древнерусских грамот: сложное предложение. М.: Акад. Наук СССР. 185 с.
- Гимон Т. В., 2011. Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси: Сравнительное исследование. М.: Рус. Фонд Содействия Образованию и Науке. 696 с.
- Данилевский И. Н., Кабанов В. В., Медушевская О. М., Румянцева М. Ф., 2004. Источниковедение. М.: Рос. гос. гум. ун-т ; Ин-т «Открытое общество». 701 с.
- Ельчанинова О. Ю., Оспенников Ю. В., Ромашов Р. А., Ютяева Л. Е., 2014. Система источников русского права X–XVIII вв. / под ред. Ю. В. Оспенникова. Самара: АСГАРД,. 427 с.
- Зализняк А. А., 2004. Древненовгородский диалект. М.: Яз. слав. культуры. 872 с.
- Качалкин А. Н., 1988. Жанры русского документа допетровской эпохи. Ч. 1. М.: Изд-во Моск. ун-та. 119 с.
- Каштанов С. М., 1970. Очерки русской дипломатики. М.: Наука. 502 с.
- Климкович О. А., 2006. Структура зачина жалованных грамот // Русский язык: система и функционирование: материалы III Междунар. науч. конф. Ч. 1. Минск. С. 70–73.
- Лаппо-Данилевский А. С., 2007. Очерк русской дипломатики частных актов. СПб.: Север. звезда. 285 с.
- Литвина А. Ф., 1995. Семантика и синтаксис формул в деловых документах XIII–XVII вв. (на материале русского, белорусского и украинского языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук. М. 27 с.
- Малето Е. И., 2003. Образ Богородицы в русском средневековом сознании и его эволюция (по материалам хождений ХII–ХV вв.) // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.): сб. ст. / отв. ред. А. И. Аксенов. М. [б. и.]. С. 9–23.
- Маловичко М. Г., 2002. Становление и развитие функционального стиля официально-деловой документации в английском языке: дис. ... канд. филол. наук. СПб. 252 с.
- Морковина О. В., 2005. Проблема взаимоотношения литературы и деловой письменности в традиции древнерусского завещания: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск. 34 с.
- Николаева Т. М., 1997. Сочинительные союзы а, но, и: история, сходства и различия // Славянские сочинительные союзы: сб. ст. М.: ИСБ. С. 3–24.
- Стеценко А. Н., 1977. Исторический синтаксис русского языка. М.: Высш. шк. 351 с.
- Улуханов И. С., 2002. О языке Древней Руси. М.: Азбуковник. 192 с.
- Успенский Б. А., 1994. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М.: Гнозис. 240 с.
- Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы, 1961 / отв. ред. В. М. Корецкий. М.: Госюриздат. 950 с.
- Черкасова М. С., 2002. Поземельные акты как источник для изучения религиозного сознания средневековой Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 8. С. 35–47.
- Чиркова А. В., 2019. Западноевропейская дипломатика Средних веков и Раннего Нового времени. СПБ.: Нестор-История. 92 с.
- Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А., 2015. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 2001–2014 гг.). М.: Рус. слов. 288 с.
- Ярушева Л. В., 2016. Влияние славянского, римского, немецкого права на формирование российских источников права // Genesis: исторические исследования. № 1. С. 1–16. DOI: 10.7256/2409-868X.2016.1.16313
- Baugh A. C., Cable Th., 2002. A History of the English Language. L.: Routledge. 447 p.
- Carlton Ch. M., 1970. Descriptive Syntax of the Old English Charters. The Hague: Mouton & Co. N. V. Publishers. 200 p.
- Castle K. M., 2016. The Development and Decline of Malediction in the Charters of Anglo-Saxon England: [doctoral dissertation]. Toronto: University of Toronto. 256 p.
- Gallagher R., 2018. The Vernacular in Anglo-Saxon Charters: Expansion and Innovation in Ninth- Century England // Historical Research. Vol. 91, iss. 252. P. 205–235. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2281.12224
- Keynes S., 2001. Charters and Writs // The Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England / ed. By M. Lapidge [et al.]. Oxford: Blackwell Publishing. P. 99–100.
- Lowe K. A., 1998. The Development of the Anglo-Saxon Boundary Clause // Nomina: Journal of the Society for Name Studies in Britain and Ireland. № 21. P. 63–100.
- Hofman P., 2008. Infernal Imagery in Anglo-Saxon Charters: [doctoral dissertation]. St. Andrews: University of St. Andrews. 401 p.
- Schendl H., Wright L., 2011. Code-Switching in Early English. Berlin: De Gruyter. 340 p.
- Timofeeva O., 2013. Of ledenum bocum to engliscum gereorde: Bilingual Communities of Pr actice in An gl o-Sa xon En gl an d // Communities of Practice in the History of En glish. Amsterdam: John Ben jamins Publishing Company. P. 201–224.
- Tollerton L., 2011. Wills and Will-Making in Anglo-Saxon England. Woodbridge and Rochester. N. Y.: York Medieval Press in Association with The Boydell Press. 327 p.