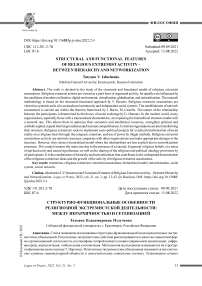Структурно-функциональные особенности религиозной экстремистской деятельности: между иерархичностью и сетевизацией
Автор: Излученко Татьяна Владимировна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию структурно-функциональной модели религиозных экстремистских объединений. Религиозные экстремистские действия рассматриваются в качестве совместной формы организованной деятельности, на специфику которой влияют условия современной цивилизации: цифровая среда, виртуализация, глобализация и сетевизация. Методология исследования основывается на структурно-функциональном подходе Т. Парсонса. Религиозные экстремистские объединения понимаются как системные единицы социокультурной общности и самостоятельные социальные системы. Установление сетевых связей осуществляется в рамках теорий Дж. Барнса, М. Кастельса. Характер взаимоотношений между участниками определяется теорией социального обмена Дж. Хоманса. В современном мире многие организации, особенно обладающие транснациональным признаком, заменяют иерархичную модель структуры на сетевую. Это позволяет им оптимизировать свои экономические и интеллектуальные ресурсы, усиливать политический и символический капиталы, расширять целевую аудиторию и увеличивать конкурентоспособность. Экстремистские организации также трансформируют свою структуру. Религиозный экстремизм стремится реализовать социально-политические проекты радикального преобразования социальной реальности на религиозной основе посредством завоевания, удержания и использования власти противоправными методами. Религиозные экстремистские объединения активно используют сетевые ресурсы, кооперируются с другими организациями и вносят соответствующие изменения в структуру. Однако у них сохраняется иерархичная модель, в которой из-за процессов сетевизации взаимосвязи ставятся менее явными. Данная модель остается основной по причине наличия: а) священного; б) общих религиозных убеждений; в) ощущения духовного единства и священной значимости, а также разделения всеми участниками положений религиозно-политической идеологии. Именно сочетание иерархичности и сетевизации способствует широкому распространению идей религиозного экстремизма и росту активности религиозных экстремистских объединений.
Экстремизм, религиозный экстремизм, экстремистские объединения, иерархичная модель, сетевизация, социальная система, социальная сеть
Короткий адрес: https://sciup.org/149141631
IDR: 149141631 | УДК: 141.201.2-78 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2022.2.4
Текст научной статьи Структурно-функциональные особенности религиозной экстремистской деятельности: между иерархичностью и сетевизацией
DOI:
Цитирование. Излученко Т. В. Структурно-функциональные особенности религиозной экстремистской деятельности: между иерархичностью и сетевизацией // Logos et Praxis. – 2022. – Т. 21, № 2. – С. 33– 42. – DOI:
В современном, быстро развивающемся мире организации стремятся повысить эффективность своей деятельности и сохранить конкурентоспособность. Условия глобализации требуют включения элементов сетевиза-ции как действенных средств функционирования. Широкое распространение сетевых структур провоцирует создание сетевого общества, формальных и неформальных связей, отличающихся интенсивностью, длительностью и направленностью. Сетевая структура является многокомпонентным полифункцио-нальным образованием, действующим на основании наличия взаимосвязей, взаимозависи-мостей и кооперативного взаимодействия акторов, содействующего решению общих задач. Действенная, динамическая структура сетей оказывает воздействие на поведение акторов во всех социальных сферах [Баньков-ская 2019, 63].
Религиозные экстремистские объединения распространяют политическую и религиозную идеологию, противостоящую общественным нормам и провозглашающую отказ от окружающей культуры, и стремятся расширить детали и строгость религиозного закона на социум [Chetty, Alathur 2018]. Распространение идей религиозного экстремизма, привлекательность участия в религиозной экстремистской деятельности для молодежи во многом обусловлено активным использовани- ем принципов сетевой модели организации. Однако, анализируя структуру и методы религиозных экстремистских объединений, роль религиозного фактора, ритуальные практики и социальные действия, возникает вопрос – действительно ли они сеть или они таковой позиционируются?
Определение специфики структурно-функциональной модели функционирования религиозных экстремистских объединений, учитывающей условия современной реальности, глобализационные процессы и технологические возможности, является важным условием для разработки и оптимизации управленческих решений в сфере противодействия религиозному экстремизму. Цель работы заключается в выявлении структурно-функциональных особенностей религиозной экстремистской деятельности, реализуемой в форме религиозных экстремистских объединений как социальных систем, а также характеристика взаимосвязи иерархичности и сетевизации в рамках социальных структур религиозного экстремизма.
Методология исследования
В основе методологии исследования находится структурно-функциональный подход к рассмотрению религиозных экстремистских объединений, с одной стороны, как системных единиц социокультурной общности, а с другой – социальных систем, структурные единицы которых обладают определенными функциями адаптации, регуляции и социального контроля. Характеристика подсистем (экономических, политических, религиозных) религиозных экстремистских объединений и их функций, механизмов социального контроля осуществлена в рамках теории социальных систем Т. Парсонса. Это способствовало дальнейшему определению и анализу структурных компонентов создаваемых ими социальных сетей, а также позволило выявить используемые в религиозной экстремистской деятельности принципы сетевизации. Структура связей сетевых акторов, механизмы функционирования, сетевые ресурсы и ресурсные потоки были установлены в рамках сетевого подхода Дж. Барнса, М. Кастельса. Эффективность взаимоотношений и обмена материальными и нематериальными ценностями между религиозными экстремистами в сетевой модели рассмотрена теорией социального обмена Дж. Хоманса.
Результаты исследования
Эффективность организации совместной деятельности заключается в системности и наличии механизмов разрешения функциональных проблем: адаптации, достижения цели и воспроизводства, снятия напряжения и интеграции. Система обладает: а) целостностью и эмерджентностью; б) структурой, обеспечивающей межэлементное взаимодействие; в) иерархичностью, позволяющей определить вектор действий, выявить подсистемы на основе элементов и определить характер их взаимоотношений. Указанные свойства обеспечивают адаптацию, распространяющуюся от низшего уровня к высшему и отражающуюся в трансформации культурных паттернов. Едино-образность социальной мотивации достигается посредством ретрансляции участникам соответствующих мировоззренческих представлений, в которых содержатся заданные смыслы индивидуальных и коллективных действий. Участник получает свободу в рамках коллективной деятельности, выступая актором и социальным объектом и включаясь во взаимоотношения «субъект-действие-ситуация». Каждый актор выполняет действия в соответствии с полученной статус-ролью – набором взаимно соотнесенных ожиданий, институализированных и согласованных с культурно установленными образцами [Парсонс 2000].
Социальные системы выступают сложными, индивидуализированными последовательностями коммуникативных взаимоотношений, которые образуют познавательные агентства. Когнитивное развитие определяется направлением деятельности системы. Системы удовлетворяют потребности в доверии (социальном капитале), получении личной значимости, наличии вариантов выбора, обучении и самореализации [Missimer, Robèrt, Broman 2017]. Каждый участник вовлечен в познавательный процесс. Формируемый системой на основе культурных паттернов, экономических и социальных ресурсов символический капитал воспринимается ценностным и легитимным, а также создается представление о естественности состояния общественного порядка [Karoui, Dudezert, Leidner 2015].
Социальная система с целью разрешения своих функциональных проблем формирует соответствующую организацию взаимосвязи своих структурных элементов. Первый вариант – централизованное управление: а) с четко выраженной иерархией отношений, имеющей нормативное оформление; б) узкой специализацией; в) сферами ответственности участников. Второй вариант – сетевая организация, характеризующаяся «расщепленным лидерством», динамичностью, деструктуризацией (отсутствием видимых формальных связей) и горизонтальными коммуникативными связями.
Развитие информационно-коммуникационных технологий, массовая цифровизация и культура потребления являются важнейшими условиями современной социальной реальности, которые влияют на усложнение социальных взаимоотношений, провоцируют сетевые формы организации. Стоит помнить, что понятие «социальной сети» не сводится к сети Интернет. Дж. Барнс, впервые используя данное понятие (1954), указал в качестве характеристик отсутствие четких внешних и внутренних границ, способность расширяться, неустойчивость и непостоянность, а также наличие множества взаимодействующих акторов с равным статусом, которые являются основным условием функционирования сети.
Социальные сети используются для организации деятельности, взаимопомощи, в результате чего они становятся системами социальных отношений, позволяющими участникам совместно действовать и косвенно координировать друг друга [Немировский 2019, 192].
Сетевизация представляется способом стратегического менеджмента, заключающимся в формировании сети с ее узлами и связями для достижения соответствия целей с потребностями и ожиданиями партнеров. Е.И. Князева определила сеть как совокупность социальных акторов и набора связей между ними. Посредством социальных сетей «происходит обмен разнообразными ресурсами или «потоками» (капиталом, информацией, технологиями, изображениями, звуками и символами) как между разными участками одного поля, так и между различными полями» [Князева web]. Дж. Хоманс рассматривал деятельность социальных групп, возникающих на условиях получения вознаграждения или избегания наказания, и обозначил следующие мотивационные тенденции. Первая – участник тем более охотно будет совершать действие, если он ранее уже получил за него вознаграждение, которое представляет ценность. Вторая – получение сверх ожидаемого провоцирует демонстративно лояльное поведение [Homans 1974].
Ключевым моментом функционирования сети помимо структурных единиц являются узлы. По мнению А.В. Назарчука, узлы есть объекты, совокупности объектов и пересечения объектов. В социальной теории ими могут являться индивиды, группы индивидов, созданные ими социальные учреждения. Отличительной чертой сети выступает формирование между этими объектами связей, обладающих дискретностью, подобием, близостью и взаимностью [Назарчук 2011,41]. Именно наличие взаимных обязательств, переживаний, представлений и целей, обусловливающих взаимодействие, позволяет рассматривать совокупность субъектов сетью.
Современное информационное общество основывается на генерировании, обработке и передачи информации. М. Кастельс назвал его сетевым, так как «оно создано сетями производства, власти и опыта, которые образуют культуру виртуальности в глобальных потоках, пересекающих время и пространство... все общества информационной эпохи действительно пронизаны – с различной интенсивностью – повсеместной логикой сетевого общества» [Кастельс 2000, 505]. Сетью именуются открытые структуры, неограниченно расширяющиеся посредством включения новых узлов, способных к коммуникации, и обладающие открытостью, децентрализованностью и горизонтальными связями. Организационные трансформации проявляются в бюрократических изменениях: а) переходе от вертикализа-ции к горизонтальным отношениям; б) деятельности вокруг процесса; в) определении эффективности потребителем; г) командной работой; д) широкой сетью взаимоотношений; е) постоянном обучении кадров.
Сетевые формы организации порождаются сетевыми функциями, реализуясь посредством выстраивания корпоративных связей. Это приводит к снижению издержек в сфере технологий и обучения, обусловленное созданием ресурсного пула по принципу единства и комплиментарности ресурсов. Доминирование паттернов коллективного выживания способствует усилению социальной зависимости и согласованности деятельности в едином поле с провозглашенными целями и ожиданиями. Основной единицей сети является индивид, выступающий стратегическим ресурсом, способным генерировать инновации. Причина участия в сети может быть различна от экономических выгод до бихевиористских установок [Ломовцева, Морд-винцев 2009]. Жизнеспособность организации измеряется количеством и активной социальной деятельностью участников. Выигрывают в борьбе за «души» те, кто осознает свою целевую аудиторию и предлагает наиболее для нее актуальные цели и направления деятельности, позволяющие каждому индивиду реализоваться как личности при поддержке социального окружения, получить личную значимость.
Стоит отметить, что информационное пространство содержит позитивную (конструктивную) и негативную (деструктивную) составляющие. О.М. Михайленок отмечает, что деструктивная деятельность социальных сетей, заключающаяся в специфической фор- ме социальной активности, характеризуется «стремлением к разрушению или нарушению нормального функционирования тех объектов и систем, которые обеспечивают жизнедеятельность личности, общества и государства» [Михайленок 2019, 16]. Такие сети функционируют в существующей социально-политической обстановке, но акторы противопоставляют себя обществу и используют незаконные методы.
Насильственный экстремизм является процессом, при котором отдельный человек или группа принимают насильственные действия на основе экстремистской идеологии, оспаривающей установившийся порядок на политическом, социальном и культурном уровнях. Субъекты данных взаимоотношений связаны как формальными, так и неформальными связями. Предпосылками с учетом социально-политического и психологического контекста выступают действия государства, групповая идентичность и индивидуальные мотивы. В современных условиях они усиливаются и охватывают большую аудиторию потенциальных участников благодаря ресурсам сети Интернет [Amit, Barua, Kafyweb], которые совершают экстремистские действия в одиночку, организованными или стихийными группами и сообществами [Заврина, Чернышов, Макурин 2017].
На наш взгляд, в связи с этим религиозные экстремистские объединения целесообразно рассматривать в качестве социальных систем. Информационные технологии позволяют создавать им социальные сети и поддерживать взаимодействие между структурными подразделениями и отдельными участниками, осуществлять обмен информацией, а также вознаграждать как материальными, так и нематериальными благами. Например, обеспечивать авторам доступ к своим сетевым ресурсам, в первую очередь к информации как наибольшей ценности современного общества. Важными условиями сетевого взаимодействия являются схожесть субъектов в каких-либо качествах и ожидание получения положительной оценки своих действий со стороны других. Во многом благодаря этому обеспечивается идентификация акторов в рамках определенной социальной группы [Софронов web].
Развитие новых технологий и формирование цифровой среды способствуют преобразованию организационных структур экстремистских объединений, изменению направлений функционирования и трансформации деятельности, переходу иерархической модели управления к более децентрализованным структурам – цепной сети, узловой структуре, многоканальной структуре, гибридной структуре и сопротивлению без лидера. Иерархичность заменяется свободной конфигурацией небольших автономных ячеек, отдельных лиц или небольших групп, которые не управляются центром принятия решений [Posłuszna 2020]. Ключевыми исполнителями становятся независимые люди, которые действуют в одиночку и не общаются с другими участниками, так называемые «одинокие волки» [Posłuszna 2015].
Разнообразные причины возникновения, которые варьируются в зависимости от территории, способствуют сетевизации, так как позволяют одному экстремистскому объединению создавать структурные подразделения, опираясь на местные условия. Нами отмечаются две тенденции возникновения экстремизма. Первая – индивидуальная, основывающаяся на личностных, субъективных представлениях и переживаниях. Насильственный экстремизм возникает в контексте социальной и экономической депривации, чувства обездоленности, подкрепляемого результатами сравнения положения воспринимаемого неравенства, что провоцирует обвинения «привилегированных» социальных групп или всей системы, дегуманизацию и агрессию [Borum 2003]. Вторая – коллективная, использующая групповую солидарность и групповое мышление основой экстремистских воззрений.
В.П. Кириленко и Г.В. Алексеев, подчеркивая радикальный характер экстремистских действий, указывают, что экстремистские идеи развиваются в закрытых социальных сообществах, отражают агрессивные настроения определенных радикалов по отношению к политическому классу и доминирующей идеологии [Кириленко, Алексеев 2018, 565]. В результате межгруппового взаимодействия, при котором наблюдаются культурные различия, национальные и этнические особенности и которое осуществляется в едином социальном и политическом поле, может возникнуть восприятие сокращения численности и уменьшения влияния одной из групп под влиянием других (угроза исчезновения), что провоцирует угрозу статусу и прототипичности. Обоснованием необходимости экстремистской деятельности выступает несовместимость ценностей и убеждений между группами (символическая угроза) [Bai, Federico 2021].
Одним из насильственных видов экстремизма, выходящим за локальные рамки и считающимся на данный момент основной угрозой для западноевропейской культуры, является религиозный экстремизм. А.Г. Залужный предложил определение экстремизма, подчеркивая взаимоотношения государства и религиозных объединений как действий и выраженных в публичной форме взглядов и намерений, преследующих своей целью нарушение или проявление неуважения к установленному законом праву граждан на свободу совести, нарушающие общепринятые и справедливые нормы морали, общественный порядок и общее благосостояние [Залужный 2018, 65]. В основе религиозного экстремизма находится взаимосвязь религии и политики. Политические, экономические и социокультурные цели легитимизируются религией, что приводит к ее политизации. Этот процесс усиливается при отождествлении религиозной и этнической принадлежности [Калабекова 2020]. Религиозный экстремизм направлен на получение, удержание и использование власти для реализации социально-политических проектов, в которых акцентируются религиозность будущего политического режима (исламистская теократия) и легитимность новой власти, одобренная священным (Богом, Аллахом, богами, духами). Религиозной экстремистской деятельности имманентно присуща возможность применения насилия в отношении мировоззренческих оппонентов. Это выражается в: а) крайней нетерпимости к иным религиозным и мировоззренческим убеждениям, отрицающей возможность сосуществования с иными позициями; б) радикализированной идеи исключительности в вопросах религии и политики; в) героизации «своих» и демонизации «чужих»; г) погра-ничности состояния, выражающейся в дихото-мичности повседневности и обусловленной экстремальностью и девиантностью; д) жертвенности; е) эсхатологизме.
Религиозная вера становится обоснованием допустимости применения насилия в случае наличия переоцененных убеждений. Применение целенаправленного насилия мотивируется религиозными идеологиями. Группа осуществляет убеждение отдельных участников в необходимости совершения насильственных действий, обращаясь к социальной идентичности и групповой сплоченности. Со временем данные религиозные убеждения становятся доминирующими, утонченными и устойчивыми к вызовам, а верующий становится сильно эмоционально зависимым, что может проявляться в агрессивном поведении. Религиозные экстремисты способны мыслить рационально. Однако они делают это в рамках системы убеждений, которые иррациональны для посторонних. Они жесткие, упрощенные и защищаемые с большой эмоциональной силой [Rahman, Zheng, Reid Meloy web].
Обсуждение результатов
На динамику изменений организационной структуры религиозных экстремистских объединений влияют ужесточение наказания и предпринимаемые государством меры противодействия. Крупные религиозные экстремистские объединения «традиционного» (иерар-хичного) типа структурной организации, существующие достаточный период времени для формирования развернутой стратегии и религиозно-политической идеологии, обладают структурно-территориальным делением, системой вовлечения, воспитания и обучения, распределения экономических и интеллектуальных ресурсов, социального контроля, поощрения и наказания, осуществляют просветительскую и издательскую деятельность. Однако в современных экономических и политических условиях становятся малоэффективными по следующим причинам. Первая – строгая иерархичность не позволяет проявлять гибкость управленческих решений, которые в зависимости от региона могут быть диаметрально противоположными. Вторая – сложность реализации контроля над исполняемыми обязательствами, компенсациями и наказанием. Третья – невозможность удовлетворить запросы широкого круга лиц в дости- жении личной значимости, индивидуальных целей и т. д. Четвертая – функционирование в определенном географическом месте, опасность концентрации ресурсов. Возникающий организационный кризис приводит: а) к сокращению или ликвидации объединения; б) сете-визации как альтернативной формы организации деятельности.
Так, религиозные экстремистские объединения, осуществляющие террористическую деятельность, активно используют сетевые формы. Например, «Исламское государ-ство»*1 [Решение Верховного Суда РФ от 29 декабря 2014 г. № АКПИ 14-1424 С... web], «Братья-Мусульмане»*2 [Решение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116 web], а «Аль-Каида»*3 [Решение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116 web] позиционируется в качестве транснациональной разведывательнодиверсионной и террористической сети. Интегративной основой выступает «мягкая сила» идеологического воздействия, вовлекающая значительную часть молодых участников и заключающаяся в распространении мировоззренческих паттернов равенства, братства, справедливости, основывающихся на религиозных положениях. Такие организации функционируют по сетевому принципу и состоят из отдельных, автономно функционирующих сообществ, обладающих высокой степенью свободы в выборе стратегии, тактики, целей, мишеней и форм осуществления насильственных действий (террористических актов) [Манойло 2018].
Сетевая модель организации усложняет реализацию мер противодействия религиозному экстремизму, затрудняет выявление структурных связей, узлов и механизмов взаимодействия и моделей соподчинения, а также демаркацию экстремистов, относящих себя к представителям той или иной религии, и «традиционных» верующих. Религиозность позволяет участникам ссылаться на свою на вероисповедную принадлежность, указывая на отсутствие организации и свою непричастность к противоправным действиям. Они отмечают, что реализуют свое право на свободу совести и выполняют религиозные предписания в рамках традиции, а все попытки правоохранителей их привлечь к ответственности за экстремизм являются неправомерными. Так, например, участники экстремистской организации «Нурджулар»*4 [Верховный суд... web] указывают, что являются мусульманами и исполняют предписания религии ислам, а данной организации не существует, а также приводят в подтверждение своих слов высказывания известных авторитетных мусульманских лидеров.
На наш взгляд, религиозные экстремистские объединения обладают иерархичной моделью организации, функционирование которой обеспечивается религиозным фактором, воплощающим в себе символический капитал, и легитимизирующим власть. Религиозная вера, иерархия руководства и рядовых участников, наличие единой цели – выполнение «священной миссии», результативность которой определяется священным посредством его волеизъявителей (руководства), формируют иерархичные связи структурных элементов и обеспечивают нормативную легитимность. Однако религиозные экстремистские объединения активно используют в своей деятельности принципы сетевизации, такие как: а) использование ресурсов иных источников (других организаций); б) предложение участникам деятельной и интересной статус-роли; в) использование современных способов коммуникаций; г) автономность акторов при преобладании горизонтальных связей. Благодаря сетеви-зации они получают устойчивость при неблагоприятных условиях, широкую специализацию своих участников и возможность выполнения каждым большего спектра задач, а также неформальный характер лидерства позволяет отрицать свое присутствие на какой-либо территории и создает сложность идентификации участников правоохранительными органами.
-
* 1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
-
* 2 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
-
* 3 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
Заключение
На основании проведенного социальнофилософского анализа религиозной экстремистской деятельности был установлен противоречивый характер организации, одновременно сетевой и структурированный с привлечением одиночных участников. Современные условия социальной реальности, глобализационные изменения и развитие новых информационных технологий способствуют переходу от иерархичной организации к сетевым структурам. Однако религиозный экстремизм по причине религиозно-идеологической составляющей остается иерархичным. Сетевые принципы применяются для оптимизации деятельности при необходимых обстоятельствах. Именно данная модель структурных взаимоотношений, основанная на схожих религиозных убеждениях, ощущениях духовного единства и получении священной значимости при наличии сетевых элементов, обеспечивает широкое распространение, привлекательность для конкретных слоев населения и конкурентоспособность религиозных экстремистских объединений.
Список литературы Структурно-функциональные особенности религиозной экстремистской деятельности: между иерархичностью и сетевизацией
- Баньковская 2019 - Баньковская Ю.Л. Социально-философские подходы к исследованию процессов сетевизации общества // Вестник Полесского государственного университета. Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2019. № 2. С. 62-67.
- Верховный суд... web - Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской и запретил на территории России деятельность международного религиозного объединения «Нурджулар» // http://genproc.gov.ru/special/ smi/news/news-63034
- Заврина, Чернышов, Макурин 2017 - Заврина Е.Е., ЧернышовГ.Н., Макурин П.С. Экстремизм -актуальность проблемы // Инновационная экономика и право. 2017. N° 3. С. 115-119.
- Залужный 2018 - Залужный А.Г. Личность религиозного экстремиста: теоретико-правовой анализ // Теория государства и права. 2018. № 1. С. 64-68.
- Калабекова 2020 - Калабекова С.В. Некоторые аспекты проблематики религиозного экстремизма // Миссия конфессий. 2020. Т. 9, ч. 3. С. 316-320.
- Кастельс 2000 - Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
- Кириленко, Алексеев 2018 - Кириленко В. П., Алексеев Г. В. Актуальные проблемы противодействия преступлениям экстремистской направленности // Всероссийский криминологический журнал. 2018. № 4. С. 561-571. DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(4).561-571
- Князева web - Князева Е. И. Сетевые подходы к анализу коммуникации в информационном обществе [Человек. Культура Общество: тез. докл. I Междунар. научн. конф. студентов и асп. (г. Минск, 21-22 мая 2004 г.). Минск: БГУ 2004. C. 185-188] // http://elib.bsu.by/handle/ 123456789/46999
- Ломовцева, Мордвинцев 2009 - Ломовцева О.А., МордвинцевА.И. Сетевая природа корпоративных форм организации бизнеса // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2009. № 1 (64). С. 138-143.
- Манойло 2018 - Манойло А. «Мягкая сила» сетевых террористических организаций в контексте европейской безопасности // Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы. 2018. № 51. С. 11-15.
- Михайленок 2019 - Михайленок О.М. Информационно-коммуникативные риски сетевизации политических отношений // Вестник Института социологии. 2019. Т. 10, № 3. C. 12-21. DOI: 10.19181/vis.2019.30.3.584
- Назарчук 2011 - Назарчук А.В. О сетевых исследованиях в социальных науках // Социологические исследования. 2011. № 1. С. 39-51.
- Немировский 2019 - Немировский М.В. Теоретические подходы к изучению сетевого взаимодействия в образовании // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2019. № 1. С. 191-196.
- Парсонс 2000 - Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Акад. проект, 2000. Решение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116 web - Решение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 года № ГКПИ 03-116 // http: //nac. gov. ru/zakonodatelstvo/sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-14-fevralya.html
- Решение Верховного Суда РФ от 29 декабря 2014 г. № АКПИ 14-1424 С... web - Решение Верховного суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № АКПИ 14-1424 С - признать международные организации «Исламское государство» и Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) *5 террористическими и запретить их деятельность на территории Российской Федерации // http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/ sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-t-29-dekabrya.html
- Софронов web - Софронов Д.А. Сетевое социально-информационное взаимодействие как объект изучения социологии [Огарев-online. 2014. № 24] // http://journal.mrsu.ru/arts/ setevoe-socialno-informacionnoe-vzaimodejjstvie-kak-obekt-izucheniya-sociologii
- Amit, Barua, Kafyweb - Amit S., Barua L., Kafy A. Countering Violent Extremism Using Social Media and Preventing Implementable Strategies for Bangladesh [Heliyon. 2021. Vol. 7, iss. 5. DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e07121] // https://libproxy.bik.sfu-kras.ru:2376/science/ article/pii/S240584402101224X
- Bai, Federico 2021 - Bai H., Federico Ch. White and Minority Demographic Shifts, Intergroup Threat and Right-Wing Extremism // Journal of Experimental Soul Psychology. 2021. Vol. 94. Art. 104114. DOI: 10.1016/j.jesp.2021.104114
- Borum2003 - Borum R. Understanding the Terrorist MindSet // FBI Law Enforce. Bull. 2003. Vol. 72. P. 7-10.
- Chetty, Alathur 2018 - ChettyN., AlathurS. Hate Speech Review in the Context of Online Social Networks // Aggression and Violent Behavior. 2018. Vol. 40. P. 108-118. DOI: 10.1016/j.avb.2018.05.003
- Homans 1974 - Homans G.C. Social Behavior: In Elementary Forms. N. Y.: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1974.
- Karoui, Dudezert, Leidner 2015 - Karoui M., DudezertA., Leidner D. Strategies and Symbolism in the Adoption of Organizational Social Networking Systems // The Journal of Strategic Information Systems. 2015. Vol. 24, iss. 1. P. 15-32. DOI: 10.1016/j.jsis.2014.11.003
- Missimer, Robert, Broman 2017 - Missimer M., Robert K., Broman G. A Strategic Approach to Social Sustainability - Part 1: Exploring the Social System // Journal of Cleaner Production. 2017. Vol. 140. P. 32-41. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.03.170
- Posluszna 2015 - Posiuszna E. Environmental and Animal Rights Extremism, Terrorism, and National Security. Waltham: ButterworthHeinemann, 2015.
- Posluszna 2020 - Posiuszna E. Terrorism of Lone Wolves // Safety & Defense. 2020. Vol. 6 (1). P. 109-118. DOI: 10.37105/sd.69
- Rahman, Zheng, Reid Meloy web - Rahman T., Zheng L., Reid Meloy J. DSM-5 Cultural and Personality Assessment of Extreme Overvalued Beliefs [Aggression and Violent Behavior. 2021. DOI: 10.1016/j.avb.2021.101552] // https:// libproxy.bik. sfu-kras.ru:2376/science/article/pii/ S1359178921000069