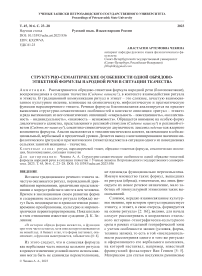Структурно-семантические особенности одной обрядово-этикетной формулы народной речи в ситуации ткачества
Автор: Чекина А.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 6 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается обрядово-этикетная формула народной речи (благопожелание), воспроизводимая в ситуации ткачества (Сиденье вашему!), в контексте взаимодействия ритуала и этикета. В традиционной коммуникации ритуал и этикет - это сложное, зачастую взаимосвязанное культурное явление, влияющее на символическую, мифологическую и прагматическую функции народноречевого этикета. Речевая формула благопожелания анализируется на предмет выявления структурно-семантических особенностей в контексте оппозиции «ритуал - этикет» и ряда вытекающих из нее семантических оппозиций: «сакральность - повседневность», «коллективность - индивидуальность», «знаковость - незнаковость». Обращается внимание на особую форму диалогического единства, представленного репликой-стимулом (Сиденье вашему!) и репликой-ответом (Сидеть по-нашему!), семантико-символическую двузначность лексемы сидение как ядерного компонента формулы. Анализ выполняется в этнолингвистическом аспекте, включающем в себя акциональный, вербальный и предметный уровни. Делается вывод о контаминированном значении мифологического (ритуала) и прагматического (этикета) подтекста в ситуации одного из повседневных сельских занятий женщины - ткачества.
Ритуал, народноречевой этикет, обрядово-этикетная формула, семантическая оппозиция, благопожелание, ситуация ткачества
Короткий адрес: https://sciup.org/147241460
IDR: 147241460 | УДК: 81.23 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.936
Текст научной статьи Структурно-семантические особенности одной обрядово-этикетной формулы народной речи в ситуации ткачества
Истоком традиционного речевого этикета зачастую оказывается ритуал, порожденный древнейшими верованиями, архаичными представлениями о мироустройстве и месте в нем человека. Причем в эволюционном своем развитии форма и содержание исходного ритуала (обряда) могут быть неоднократно и хронологически разновременно преобразованы, культурно и мировоззренчески переинтерпретированы. Показательно в этом отношении известное суждение Д. К. Зеленина:
«В истории обряда форма меняется, а функция при этом часто остается, хотя иногда перетолковывается на новый лад. А бывает и так, что форма застывает, окаменевает, а функция выветривается, забывается» [6: 4].
Из этого следует, что и словесная формула как вербальная часть некогда цельного ритуала в процесе изменения условий своего использования могла быть не единожды переистолкована, не единожды функционально переосмыслена. Именуя множество таких формул, вышедших из ритуала (обряда), этикетными, мы лишь фиксируем их новое речевое назначение, мало заботясь об этнокультурной этимологии таких высказываний.
Сложное, нередко взаимосвязанное культурное явление, при котором «ритуал предшествует этикету, а этикет, в свою очередь, формируется на основе ритуала» [2: 161], видимо, для начала следует рассматривать в координатах отдельного историко-этнографически-культурного среза в рамках отдельной географической зоны с учетом особенности записи (условия, форма, техника записи), то есть в той «последовательности рассмотрения одного и того же ритуала» и оформляющего его вербального комплекса, на которой настаивал, например, известный французский фольклорист Ван Геннеп [5: 5]. Материалом для статьи послужили рукописные записи сотрудников (Ленинградского) Санкт-Петербургского государственного университета, сделанные в ходе научных экспедиций в районы Русского Севера по программе этнолингвистической направленности «Духовная культура Русского Севера в народной словесности» (СДК) в период с 1984 по 2018 год1.
Опираясь на замечание А. К. Байбурина и А. Л. Топоркова о том, что «этикетное поведение в зависимости от ситуации и других факторов как бы перемещается по шкале ритуализо-ванности и тяготеет то к одному, то к другому полюсу» [2: 17], рассматриваемая формула (и ее варианты) называются в статье обрядово-этикетными.
О жанровом статусе этих текстовых образований со всей определенностью говорить сложно, для фольклористов этот вопрос остается в известной степени дискуссионным [3], [8], [11]. Однако только по формальным признакам они могут быть отнесены к малым речевым жанрам, в самом общем виде представляющим собой «устойчивые, клишированные речевые сегменты, порожденные повторяющимися ситуациями (например, формы приветствия, поздравления, телефонного общения и т. п.)» [11: 26]. Малые речевые жанры характеризуются также
«содержательной гомогенностью (сообщение об одном факте, одном событии и т. д.), крайней степенью компрессии, стандартной формой (однообразная, часто клишированная структура сообщения, ограниченный, нередко заданный набор языковых и стилистических средств)» [8: 902].
В центре внимания нашей статьи оказывается обрядово-этикетная формула, воспроизводимая при приветствии в ситуации ткачества. Поскольку «пожелательная» семантика такой (и подобных) формулы очевидна, терминологически принято именовать ее «благопожеланием» [9]:
«Если ткачиха затыкáла, а в это время кто зайдёт, то говорили: “Сиденье вашему!”. А она и ответит: “Сидеть по-нашему!”. Гость и садился, чтоб полотно хорошо садилось». (СДК-41, Николо-Раменье, Череп. р-н, Волог. обл, 1987).
Формула рассматривается в рамках оппозиции «ритуал – этикет» и ряда вытекающих из нее семантических оппозиций: «сакральность – повседневность», «коллективность – индивидуальность», «знаковость – незнаковость».
САКРАЛЬНОСТЬ – ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
В контексте оппозиции «сакральность – повседневность» необходимо учесть очевидное: ритуал предполагает общение в особых (даже сакральных) случаях, влекущих за собой переворот, «переходность» из одного состояния в другое, например, изменение социальной роли или статуса участников ритуала, изменение в жизни целого коллектива и др. Отсюда следует, что «ритуал (даже периодически повторяемый) – всегда событие, некоторый кризисный период (выделено мною. – А. Ч.) в жизни коллектива» [2: 161]. Этикет же регламентирует повседневную жизнь, бытовое общение, не привязанное к глобальным изменениям жизни общества. С этой точки зрения ткачество рассматривается как одно из главных сельских занятий женщины, в течение веков накопивших глубокий мифологизированный подтекст, так как «символически ткачество соотносится с созданием жизни человека, социума и Космоса на основе идеи привнесения гармонии в хаос, преобразования природного в культурное»2. С другой стороны, ткачество является обычным, регулярным, встраивающимся в повседневную жизнь делом, которое сопровождается принятыми в сельском речевом обиходе этикетными речевыми формулами. В этом видится одно из отличий социальной природы ритуала и этикета: ритуал ориентирован на коллектив, этикет – на индивидуальное общение коммуникантов в одной конкретной ситуации. Отсюда выкристаллизовывается следующая семантическая оппозиция «коллективность – индивидуальность».
КОЛЛЕКТИВНОСТЬ – ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
В контексте оппозиции «коллективность – индивидуальность» необходимо отметить, что последнее подразумевает прикреплен-ность к конкретной прагматической ситуации, в которой многое зависит от поведения (в том числе «ритуальной компетентности») отдельного человека. Во время ткачества, нарушенного приходом «чужого», большое значение имеет начало разговора, которое не может не быть прикрепленным к этой ситуации. О чем бы речь ни зашла потом, «чужой» должен выполнить обязательные начальные действия – поприветствовать (первым) хозяйку, занятую ткачеством, специальным приветствием-благопожеланием, затем непременно удобно сесть, демонстрируя «на деле» основательность своего сидения. Таким образом возникает особое коммуникативнопрагматическое взаимодействие, представленное, с одной стороны, сложной грамматической структурой, с другой – ритуализированным действием.
Очевидно, что этикет, вышедший из ритуала, предполагает обязательное соблюдение определенных правил поведения в конкретной ситуации, обеспечивающих «эффективность», непременное исполнение (в данном случае) бла-гопожелания.
Как видно, рассматриваемая обрядово-этикетная формула представляет собой так называемое диалогическое единство, где присутствуют реплика-стимул (здесь: благопожелание Сиденье вашему! ) и реплика-реакция ( Сидеть по-нашему! )3. На уровне текста (записи интервью) ясно, что в представленной коммуникативнопрагматической ситуации участвуют два субъекта говорения: S1 (коммуникант 1 – «гость»), S2 (коммуникант 2 – «ткачиха»), однако в условиях полевой записи важным оказывается и S3 (нарратор), в обрядово-этикетной ситуации не участвующий. Непосредственные участники коммуникации (S1 и S2) произносят реплики согласно установкам традиционного этикета, который регламентируется ситуативностью и регулятивностью.
Формулы и самого благопожелания, и ответа на него, что вполне ожидаемо в условиях устной речи, представляют собой усеченные, эллиптические высказывания. Императивная, точнее – «желательная» семантика [12: 448], прагматически в данном случае оправданная, создается привычным для живого общения набором грамматических средств. Так, реплика-стимул «оставляет» в своей структуре лишь указание на объект (<…> сиденье ), выраженный существительным в форме вин. п., и «реальный эпитет» [4: 64–65], в нашем случае – вашему (притяжательное местоимение в форме дат. п.) – без определяемого им слова, выступающего в роли предполагаемого адресата пожелания. Эта конструкция может быть развернута до следующего (предполагаемого полного) варианта: <Пусть будет удачное> сиденье вашему <полотну, ткани>!
Реплика-реакция также выражается эллиптическим высказыванием с общим оптативным значением ‘пусть будет так, как я скажу и сделаю’, в прагматическом значении – ‘как свойственно лицу (лицам), как делает, поступает лицо (делают, поступают лица)’4. Ответная реплика, как видим, «оставляет» в своем составе лишь инфинитив (сидеть) и местоименное наречие по-нашему. При этом полная ее версия может быть представлена следующим образом: <Желаю вам> сидеть по-нашему (то есть ‘хорошо, удобно’). Посвященный в культурную обстановку человек не нуждается в пояснении, однако нарратор (S3) разъясняет слушателю (записывающему) смысл этой реплики: Гость и садился, чтоб полотно хорошо садилось. Принцип аналогии, столь харак- терный для обрядовых текстов [10], в этом случае заключен в слове и действии, превращая глагол сидеть в ситуационно-перформативный. На уровне лексическом прослеживается здесь связь и с общекультурной оппозицией «свой – чужой»: «вашему – по-нашему», где «свое», «наше» традиционно является хорошим и пригодным.
Очевидно, что S3 выполняет в этом тексте герменевтическую функцию, и что важно – на вербальном уровне.
ЗНАКОВОСТЬ – НЕЗНАКОВОСТЬ
Следует учитывать, что ритуал обладает очевидной знаковостью, он всегда символизирует собой важные события участников (посвящение, похороны, свадьба). Это некоторый игровой творческий акт, совершаемый зачастую участниками «бессознательно, следуя культурной традиции» [1]. Его основная функция – символическая. Этикет же обладает знаковостью в меньшей степени и выполняет прежде всего свои основные функции – фатическую и прагматическую. Однако представленная формула имеет сложную контаминированную культурную знаковость. С точки зрения семантической оппозиции «знаковость – незнаковость» важно обратить внимание на семантико-символический потенциал лексических единиц формулы. Основными являются единицы с семой ‘сидение’: сиденье, сидеть, садиться .
Сам ритуал (в значении ‘выработанный обычаем или установленный порядок совершения чего-л., церемониал’5) сидения имеет символическое значение. В этом смысле лексемы сидение , сидеть понимаются в значении ‘находиться в состоянии бездеятельности или покоя, отды-ха’6. В русском народном этикете обычно этим действием заняты люди старшего поколения. В связи с чем в записях Архива СДК встречается следующий контекст: «– Если старушки сидят, то им говорят: “Сиденью вашему”, а они уж отвечают: “Сидеть по-нашему”» (СДК-41, Игнатово, Черепов. р-н., Волог. обл., 1987). Это же подтверждается и в Словаре русских народных говоров: ‘Мир вашему сиденью! Приветствие сидящим людям старшего возраста’7.
Сидение как особый род занятия старшего поколения непременно должен быть ознаменован миром и спокойствием. Может быть, в связи с этим пониманием в ситуации ткачества используется благопожелание Сиденье вашему , поскольку процесс ткачества символизирует гармонию и порядок в жизни. Как отмечают А. К. Байбурин и А. Л. Топорков,
«в представлениях многих народов сидение имело отчетливо выраженный позитивный смысл. Оно связы- валось с такими понятиями, как счастье, доля, удача» [2: 71].
Однако в словаре В. И. Даля встречается контекст, в котором выражен, скорее, отрицательный смысл этой формулы, сконцентрированный на продолжительности сидения : «Вашему сиденью наше почтенье (говорят, когда кто кому наскучит или не хотят долее ожидать)»8. В этом явно просматривается амбивалентное символическое значение «повседневного церемониала».
Любопытно, что в первом текстовом варианте рассматриваемой обрядово-этикетной формулы сидение приобретает иное значение. Хорошего сидения желают полотну, из которого затем шьется одежда. В этом случае на вербальном уровне в лексемах сидение, сидеть актуализируется семантика ‘будучи надетым, располагаться на фигуре (или частях тела) тем или иным образом’9.
Заметим, что S3 в своем толковательном высказывании, где основное содержание пожелания заключено в предикатах, выраженных глаголами совершенного вида прошедшего времени, обращает внимание на важность совершения и завершения ритуала по всем принятым и предписанным правилам: Гость и садился , чтоб полотно хорошо садилось . Символизм этого правила может считаться общеславянским, например, в Полесье «при “затыкании” (начало тканья. – А. Ч .) выгоняли из дому всех, кто не участвовал в работе, остальные должны были сесть, чтобы “лихо осело”»10. Из чего следует, что несоблюдение этого правила может повлиять на качество выполненной ткацкой работы, и цель не будет достигнута.
Особого внимания заслуживает и предметная составляющая ткачества, которая в анализируемой формуле заключается в лексеме полотно. Этимологически полотно восходит к «праслав. *роltьnо родственно др.-инд. раṭаs м. ‘ткань, одежда, покрывало, картина’ (из *раltа-)»11 и к «платъ ‘кусок материи’»12. Полотно часто определяется как ‘гладкая льняная или хлопчатобумажная ткань, выработанная из основы и утка одинаковой толщины и плотности’13. Если учитывать, что целое полотно (ткань) состоит из крепко соединенных частей (кусков ткани), то лексема полотно семантически сближается с лексемой плотный как ‘имеющий тесно соединенные части или содержащий большое количество чего-н. в малом объеме, пространстве’14. Этому семантическому сближению (семантической аттракции) способствует, вероятно, и фонетическая близость, звуковая похожесть двух слов, что для наивной этимологии устноречевой практики – явление привычное. Возможно, именно поэтому в формуле задействовано это слово-символ, которое уже в себе самом заключает положительный смысл благопожелания, его ‘прочность, надежность, крепость’.
Следовательно, в ситуации этикетного приветствия-благопожелания во время ткачества прослеживается тесная символическая связь вербального, акционального и предметного кодов, отмечаемая этнолингвистами как естественная черта любого обрядового текста: гость должен садиться (знак-действие) таким образом, как желает (знак-слово), чтобы у хозяйки после окончания работы садилось полотно (знак-предмет), то есть плотно (‘прочно, хорошо, удобно’), что соотносится как с ритуалом (максимальная знаковость), так и с этикетным действием (минимальная знаковость).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обрядно-этикетная формула-приветствие, воспроизводимая в ситуации ткачества, имеет контаминированное символическое значение, заключающееся, в первую очередь, в лексеме сидение и в самом действии, его обозначающем. Мифологический потенциал ритуала и этикетная повседневность, переплетаясь друг с другом, создают особое культурное целое, выраженное и закрепленное на вербальном уровне, что в целом дает право понимать этикет как «ритуал, лишенный жесткости и обязательности и опрокинутый в повседневность, но сохранивший при этом некоторые из своих содержательных характеристик» [2: 161]. Представляя собой особое диалогическое единство, рассматриваемая обрядово-этикетная формула подпадает под эту характеристику, чем демонстрирует амбивалентное звучание, имеющее отношение как к ритуалу, так и к этикету.
Список литературы Структурно-семантические особенности одной обрядово-этикетной формулы народной речи в ситуации ткачества
- Адоньева C. Б. Ритуал, он же – обряд. Разговор об определениях // Персонал-Микс. 2007. Вып. 6 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://folk.ru/Research/adonyeva_ritual_2007.php (дата обращения 16.06.2023).
- Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. Л.: Наука. Ленинградское отд-ние, 1990. 168 с.
- Бобрик М. А. Механизмы прагматикализации в истории русской формулы прощания счастливо! // Вопросы языкознания. 2021. № 1. С. 73–80.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 405 с.
- Еремина В. И. Ритуал и фольклор. Л.: Наука, 1991. 207 с.
- Зеленин Д. К. Истолкование пережиточных религиозных обрядов // Советская этнография. 1935. № 5. С. 3–16.
- Зорина Л. Ю. Вологодские диалектные благопожелания в контексте народной культуры. Вологда: ВПГУ, 2012. 216 с.
- Иванов Е. Е. Афоризм в кругу малых текстовых форм в устном, письменном и электронном дискурсах // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2022. Т. 13, № 4. С. 898–924.
- Мешкова О. В. Типы благопожеланий в традиционном русском родильно-крестильном обряде // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 34. Вып. 49. С. 69–72.
- Садова Т. С. Законы подобия и аналогии между знаками сна и реальности в русском народном соннике // Русский язык в школе и дома. 2011. № 9. С. 12–14.
- Садова Т. С. Народная примета как текст. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2003. 212 с.
- Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. М.: Учпедгиз, 1941. 624 с.