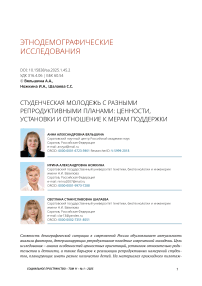Студенческая молодежь с разными репродуктивными планами: ценности, установки и отношение к мерам поддержки
Автор: Вяльшина А.А., Ножкина И.А., Шалаева С.С.
Журнал: Социальное пространство @socialarea
Рубрика: Этнодемографические исследования
Статья в выпуске: 1 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
Сложность демографической ситуации в современной России обусловливает актуальность анализа факторов, детерминирующих репродуктивное поведение современной молодежи. Цель исследования - анализ особенностей ценностных ориентаций, установок относительно родительства и детности, а также барьеров к реализации репродуктивных намерений студентов, планирующих иметь разное количество детей. На материалах прикладного пилотажного социологического исследования «Дети в современной семье», проведенного Институтом аграрных проблем РАН в мае 2022 года, показано, что молодые люди, планирующие иметь одного ребенка, отличаются типичной конкуренцией потребностей между индивидуальными ценностями благополучия и наличием детей, способствующей восприятию ими различного рода нестабильности (экономические кризисы, пандемия, локдаун) в качестве достаточного условия для отказа (или откладывания) рождения последующих детей. Они характеризуются максимальными требованиями к государственной системе социальной поддержки семей с детьми. Молодежь, планирующая иметь двоих детей, характеризуется типичными нормативными установками и стереотипами, высокой ценностью семьи и детей и восприятием их в качестве важной сферы индивидуальной жизни, в значительной степени ориентирована на поиск эффективных механизмов реализации индивидуальных жизненных целей и согласование их с целями семейного образа жизни. Планируемая многодетность, чаще характерная для выходцев из села, связана с высокой ценностью семейного образа жизни, детоцентризмом, традиционностью в преемственности поколений, ориентацией на жизнь в сельской местности и занятость в сельском хозяйстве. Результаты проведенного исследования обосновывают разработку и реализацию дифференцированного набора мер для разных групп молодежи с целью минимизации отказов от будущего родительства
Репродуктивные намерения, репродуктивные установки, молодежь, отношение к детям, родительство, социологическое исследование
Короткий адрес: https://sciup.org/147251375
IDR: 147251375 | УДК: 316.4.06 | DOI: 10.15838/sa.2025.1.45.2
Текст научной статьи Студенческая молодежь с разными репродуктивными планами: ценности, установки и отношение к мерам поддержки
Уже несколько десятилетий в России наблюдаются глобальные тенденции сокращения рождаемости, повышения возраста вступления в брак, откладывания рождения первенца, формализации брака и роста лояльности к разводам, распространения практики рождения ребенка вне официального брака. Большинство исследователей убеждены, что изменение репродуктивных установок и намерений современной молодежи находится в русле трансформации института семьи и брака, распределения ролей и гендерных стереотипов, резкого роста эмансипации женщин (Абдульзянов, Рустамова, 2024; Доброхлеб, 2024; Шабунова, Калачикова, 2024). Эксперты отмечают распространение похожих трендов и на сельские территории (Блинова, 2021). В этих условиях исследование планов современной молодежи по рождению того или иного числа детей позволяет понять направления дальнейшего демографического развития общества, а также выявить факторы, их определяющие.
Семья для современной молодежи обладает высокой значимостью, однако ее соз- дание зачастую уступает другим ценностям, в первую очередь достижению материального благополучия (Архангельский и др., 2021). Эта тенденция наблюдается как за рубежом, так и в России (Нечаева, 2018; Твенге, 2019). Исследователи показывают, что сегодняшнее поколение молодых людей (поколение Z, айдженеры) взрослеет медленно. Они реже, чем их предшественники, ходят на свидания и вступают в близкие отношения, для них характерно более позднее вступление в брак и рождение детей (Твенге, 2019; Радаев, 2020). Отдельные авторы считают, что формирование особого типа личности происходит в ответ на широкое распространение нового текучего социального контекста (Ильин, 2019). В современном обществе культивируется расширение доступных вариантов выбора, разнообразие возможных стилей жизни, типов отношения к окружающему миру и моделей поведения, что ведет к разрушению однородности и формированию нового типа личности, адаптированного к текучей реальности.
В семейных отношениях для современной молодежи на первый план выходят близкие, эмоциональные, поддерживающие отношения, т. е. интимность в широком пони- мании (Гурко, Хромачева, 2015; Бурмыкина, 2018; Осипова, 2020). Исследователи отмечают, что охвативший все страны мира процесс модернизации обусловливает выбор моделей матримониального и репродуктивного поведения на основе личного интереса, а не социальных норм, как было ранее (Ростовская, Кучмаева, 2020). Возникновение нового в представлениях молодежи о семье сопряжено с трансформацией прежних гендерных стереотипов. Молодые люди склоняются к равенству полов, признают совместное и равноценное участие супругов в семейной жизни, что говорит о формировании в молодежной среде нового стереотипа о распределении семейных обязанностей (Калачикова, Груздева, 2019). При этом, как свидетельствуют результаты ряда исследований, женщины чаще мужчин демонстрируют новые модели ролевого поведения, которые изменяют существующие гендерные отношения (Ожигова, 2006; Кон, 2011; Тащева, Киреева, 2011; Клецина, Иоффе, 2019).
Отдельные работы посвящены нормам детности современного поколения молодых людей. Так, показано, что в структуре жизненных ценностей современной молодежи дети оказались на третьем месте в рейтинге значимости после здоровья и семьи (Ивченков, Ивченкова, 2020). Авторы делают вывод, что при сохранении в качестве доминирующей традиционной установки на наличие детей в семье усиливается инструментальная ориентация на ребенка. Особую озабоченность вызывают негативные тенденции, связанные с развитием движения чайлдфри (Вильданова и др., 2017; Белинская, 2018). В России оно пока не является массовым, однако его особенность заключается в широкой распространенности в интернете и более быстром продвижении в виртуальной реальности ценностей сознательной бездетности по сравнению с традиционными семейными ценностями (Вильданова и др., 2017). Некоторые авторы, ссылаясь на эмпирические данные, предполагают, что около 15% из поколения рожденных в 1990-е гг. не будут иметь ни одного ребенка1. По данным опроса Левада-Центра* о желаемом и ожидаемом числе детей среди населения репродуктивного возраста в 2019 году около 9% респондентов в качестве желаемого числа детей указали «ноль»2. В 2008 году о нулевом желаемом числе детей высказались только 4%, однако в этом опросе еще не принимали участие рожденные в 1990-е гг.3 (Ломакин, 2019). Кроме того, в декабре 2021 года около 47% молодежи 18–24 лет, опрошенной ФОМ, не согласны с тем, что супруги обязательно должны иметь детей (при средней по выборке 12%). Более того, около 51% молодежи 18–24 лет и 49% лиц 25–34 лет считают, что супругов, которые могут, но не хотят иметь детей, осуждать не следует. В среднем по выборке в 2021 году такого мнения придерживались 34% респондентов, в то время как в 2014 году об этом сказали только 17%4.
Целью нашего исследования является анализ специфики ценностных ориентаций, установок относительно родительства и детности, а также представлений о барьерах к реализации репродуктивных намерений студентов, планирующих иметь разное число детей. Основные задачи: анализ системы жизненных ценностей и представлений о барьерах к рождению детей, влияния родительской семьи через социальноэкономический статус семьи; выявление нормативных представлений о причинах преобладания малодетности в обществе, в том числе о влиянии пандемии COVID-19
на реализацию репродуктивных намерений семей, а также мнение о мерах по повышению рождаемости.
Научное обоснование проблемы
В научном дискурсе существует несколько объяснений причин подобных изменений в репродуктивных установках молодежи. Во-первых, некоторые эксперты считают, что трансформация репродуктивных установок в сторону их снижения является продолжением изменения отношения молодежи к институту семьи и брака. Для поколения Z характерны приемлемость сожительства, тенденция к более позднему замужеству, сокращение разрыва между оптимальным возрастом для вступления в брак у мужчин и женщин, переход к эгалитарному типу семьи. Молодые люди хотят равного распределения родительских обязанностей между мужем и женой и выбирают демократический стиль воспитания детей. Наряду с предпочтением двухдетной модели семьи у поколения Z возрастает желание иметь трех и более детей, а также противоположное ему желание – не иметь детей вообще (Григорьева, Хакимова, 2020). В иерархии семейных ценностей поколения Z остаются важными общение, искренность и открытость, высока роль эмоционально-психологических факторов, поэтому семья для его представителей – это прежде всего отношения с партнером. Кроме того, отдельные исследователи отмечают, что в представлении девушек этого поколения семейная жизнь не обязательно подразумевает под собой наличие детей (Чижикова, Крамаренко, 2022).
Во-вторых, психологи утверждают, что дело в иерархии жизненных ценностей современных молодых женщин, которая выполняет функцию регуляции деятельности человека от мотивации и смыслообразова-ния до формирования соответствующих моделей поведения (Карабанова и др., 2018). Анализируя отношение девушек к позиции матери, исследователи выявляют его обусловленность ценностным выбором, определяющим особенности ценностной сферы. В результате выделяются пять типов от- ношения к материнству в зависимости от значимости других ценностей (приоритет и принятие материнской роли – около 30% от выборки; положительное отношение к материнству, но отложенное родительство – 24%; амбивалентное отношение к материнству – 22%; отвержение материнства и материнской роли – 13%; материнство как обязанность или социальная норма – 11%) (Карабанова и др., 2017).
В-третьих, распространение ориентаций на бездетность объясняется тем, что функции и особенности реализации материнской роли меняются в зависимости от условий и требований, которые предъявляются человеку в современном ему культурном и историческом мире (Шамарина, 2008; Гурко, 2012). Например, И.П. Лотова выделяет тенденцию структурных изменений семейных ориентаций и фиксирует переход от традиционных ценностей родства к постсовременным – ценностям родительства и супружества (Лотова, 2015). В работах Н.А. Сосновской на материалах Республики Беларусь установлен общий для всех респондентов выборки приоритет родительства, в то время как в группе молодых респондентов обнаружен приоритет супружества (Сосновская, 2015). Широко распространившийся тренд нуклеаризации семьи и ее двухпоколенный характер отражает ключевой механизм многовекового процесса модернизации: «Человек модерна все больше становится личностью, все более эгоистической и все менее склонной жить в парадигме служения любым социальным общностям, будь то нация, соседская община или даже семья» (Бим-Бад, Гавров, 2010, c. 5).
Эти тренды способствуют тому, что исследователи все чаще фиксируют ориентации на бездетность молодежи в России. Например, С. Захаров и Е. Чурилова на материалах опроса 2019 года зафиксировали следующее: каждый десятый респондент отметил, что вообще не собирается иметь детей; при этом около 11% женщин в возрасте 18–24 лет сказали, что не хотели бы рожать детей (Чурилова, Захаров, 2019, с. 79). В целом от 11,4 до 14,5% современных сту- дентов регулярно указывают, что вообще не желают иметь детей даже при наличии всех необходимых условий (Фарафонова, Амбарова, 2016; Середа, 2020). Кроме того, часто выявляются гендерные различия в планируемом числе детей, которое выше у молодых мужчин по сравнению с женщинами. Это свидетельствует о более высокой оценке значимости родительства и воспитания детей у молодых людей, нежели у девушек, для которых характерно выраженное стремление к первоочередной реализации профессиональной карьеры и ожидание трудностей в будущей семейной жизни, связанных с рождением и воспитанием детей (Карабанова, Молчанов, 2017). Анализируя причины отказа женщин от материнства, психологи делают вывод о том, что женщин, ориентированных на бездетность, отличает особая ценностная структура, в которой преобладает гедонистическая направленность. Это приводит к формированию негативного отношения к материнству, воспринимающемуся в качестве угрозы собственному благополучию, эмоциональному комфорту (Захарова, 2015).
Эксперты считают, что предпочтения бездетности также формируются под влиянием двух групп факторов (депривационного и модернизационного), а относительно молодежи эмпирически доказывают, что ориентация на бездетность лиц 18–24 лет связана с конъюнктурными депривационными характеристиками, усиленными возрастными ограничениями доступа к ресурсам. Авторы делают вывод, что в этом возрасте индивиды скорее откладывают мысли о деторождении, чем демонстрируют предпочтения бездетности (Макаренцева и др., 2021, с. 500).
Отдельного внимания заслуживает анализ новых факторов влияния на репродуктивные планы молодежи, появившихся в последние годы. Эксперты утверждают, что влияние пандемии коронавируса на репродуктивное поведение населения еще подробно не изучено, однако уже имеются эмпирические доказательства того, что зафиксирован рост числа респондентов, де- кларирующих предпочтение бездетности (с 10,4% в 2017 году до 22,7% в 2020 году) (Макаренцева, 2020). Среди молодых респондентов без детей доля декларирующих нежелание иметь детей выросла с 8,3 до 20,3%, среди респондентов 35 лет и старше – с 15 до 20,1%. Авторы объясняют это наложением друг на друга двух мегатенденций: трансформации репродуктивного поведения населения России и роста депрессивных настроений, вызванных пандемией коронавируса и мерами по ее сдерживанию. При этом отмечается, что субъективные оценки значимости материальных условий для принятия решения о рождении ребенка усилились, выступая следствием экономической неопределенности (Макаренцева, 2020).
Материалы и методы исследования
Информационную базу исследования составляют результаты прикладного пилотажного социологического исследования «Дети в современной семье», проведенного Институтом аграрных проблем РАН в мае 2022 года. Объект исследования – репродуктивная мотивация, ценности и установки молодежи на примере студентов Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова (n = 357). Основным методом сбора информации являлся анкетный опрос в электронном виде. Выборка квотная, в ее составе 211 мужчин (59,1%) и 146 женщин (40,9%). Среди опрошенных 119 человек в возрасте 17–18 лет (33,4%), 124 человека 19–20 лет (34,7%) и 114 человек в возрасте 21 год и старше (31,9%); 236 человек являются городскими жителями (66,1%), остальные (121 человек) до учебы проживали в сельской местности (33,9%).
Методика исследования заключается в типологической группировке респондентов по планируемому числу детей («Сколько детей Вы планируете иметь?»). Вопрос открытый, ответы группировались исходя из целей исследования (планирующие иметь одного ребенка; планирующие иметь двоих детей; планирующие иметь троих и более детей). Использование открытого вопроса для идентификации репродуктивных намерений объясняется поисковым характером исследования, результаты которого могут стать основой для формулировки гипотез будущих работ.
Ключевая гипотеза настоящего исследования заключалась в предположении обусловленности планов на рождение того или иного числа детей как внутренними мотиваторами (системой жизненных ценностей, установками относительно родительства и детности, репродуктивными установками), так и внешними условиями (социальноэкономическим статусом семьи происхождения, идентифицируемым через уровень образования и профессионально-квалификационную группу отца и матери).
Методологической основой работы являлись концептуальные положения модернизационного подхода к развитию института семьи и брака, предполагающего, что современное российское общество находится в процессе трансформации брачно-семейных отношений, репродуктивных ориентаций и гендерных представлений, и активной ин-териоризации соответствующих ценностей и установок современными поколениями молодежи.
Полученные результаты будут проверены в ходе основного этапа исследования. Представляется, что дальнейшие исследования позволят внести вклад в понимание детерминации различий моделей репродуктивного поведения молодежи и факторов их формирования. Мы полагаем, что изучение механизмов согласования индивидуальных целей развития различных групп населения репродуктивного возраста с интересами сохранения института семьи и рождения определенного числа детей поможет выявить предпосылки для оценки демографического резерва современной России.
Результаты исследования
Планируемое число детей наиболее близко к итоговой рождаемости поколения. По результатам нашего исследования, около 57,1% юношей и 53,5% девушек планируют иметь двоих детей; 19,5 и 19,4% соответственно – одного. При этом девушки чаще молодых людей указывают, что планируют иметь троих и более детей (21,5 и 15,1% соответственно). Среди мужчин выше доля тех, кто не планирует иметь детей (8,3% по сравнению с 5,6% среди молодых женщин). Анализ влияния места рождения респондента на его планы по рождению определенного числа детей показывает, что при похожей общей тенденции (54,2–56,3% планируют иметь двоих детей, 18,6–19,9% – одного ребенка) среди выходцев из села выше удельный вес тех, кто планирует иметь троих и более детей (21,2% при средней 17,8%), в то время как среди молодых горожан выше доля планирующих бездетность (8,5% при средней 7,2%).
Молодежь, планирующая иметь одного ребенка
Представители этой группы молодежи указали на среднее идеальное число детей, равное 1,68, среднее желаемое – 1,21. Это означает, что для них характерны средняя норма детности и наличие скрытого желания иметь больше одного ребенка. Около 72,1% хотели бы иметь одного ребенка, около 23,6% – двоих детей, в то время как 4,4% – ноль. Среди молодежи, планирующей иметь одного ребенка, максимальная доля тех, кто пока не желает иметь детей (50,0% при средней 30,4%), а также тех, кто затруднился определить свое желание иметь детей (13,2% при средней 7,7%). Около 44,1% из них указали, что в ближайшие три года не планируют иметь детей (при средней 35,2%). Еще 33,8% считают, что в ближайшие три года им рано заводить детей даже в том случае, если создадут семью, и только 10,3% отметили, что в ближайшее время могут завести ребенка при условии создания семьи.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что значительную часть респондентов можно отнести к семьям со средним социально-экономическим статусом, иногда ниже среднего: около 57,1% респондентов указали, что их отцы имеют среднее профессиональное образование (при средней 46,0%), 10,2% – среднее общее и ниже (при средней 8,0%). Только у 30,6% респондентов отцы занимают руководящие должности или относятся к специалистам высшего звена; у 22,4% – к специалистам среднего звена. У более чем 34,7% опрошенных отцы работают квалифицированными и неквалифицированными рабочими (при средней 27,5%). Представителей частного бизнеса (индивидуального предпринимательства) среди отцов респондентов этой группы мало – 6,1% при средней по выборке 11,7%. Важно отметить, что 66,2% из этой группы указали на то, что не хотели бы, чтобы их будущая семья была похожа на семью родителей (при средней 56,2%). Более того, в их составе выше доля тех, кто категорически не хочет воспроизводить модель родительской семьи (36,8% при средней 26,4%).
Интересным представляется анализ системы жизненных ценностей молодежи, планирующей иметь одного ребенка. Во-первых, из всех групп респондентов, планирующих иметь разное число детей (одного, двоих и троих и более), представители этой группы характеризуются наименьшими средними значениями всех ценностей (табл.) . Во-вторых, ценность семьи и детей для них находится на последних местах в системе жизненных ценностей, имея значение ниже среднего по группе (3,66 при средней 4,00). В-третьих, наивысшие места в иерархии жизненных ценностей занимают материальная обеспеченность (максимальное значение из всех рассматриваемых групп), внутренний комфорт и свобода. Эти факты свидетельствуют о наличии конкуренции между индивидуальными ценностями благополучия (достаток, свобода и комфорт) и ценностью детей, т. е. об определенном ценностном конфликте. В этих условиях ценности более высокого порядка будут определять выбор жизненных целей, способствующих их реализации, и соответствующих им моделей трудового, брачного и репродуктивного поведения.
Респонденты, планирующие иметь одного ребенка, чаще остальных отмечают, что для родительства в современной ситуации существуют значительные барьеры, препят-
Таблица. Средние значения ценностей в зависимости от репродуктивных планов респондентов
|
Ценность |
Планируют иметь |
||
|
1 ребенка |
2 детей |
3 детей и больше |
|
|
Работа по душе |
4,15 |
4,16 |
4,26 |
|
Реализация способностей |
4,1 |
4,14 |
4,32 |
|
Удачная личная жизнь |
4,19 |
4,25 |
4,48 |
|
Свобода |
4,26 |
4,18 |
4,42 |
|
Семья, дети |
3,66 |
4,15 |
4,53 |
|
Любовь |
3,96 |
4,23 |
4,44 |
|
Профессиональный успех, удачная карьера |
4,19 |
4,28 |
4,42 |
|
Гармония с самим собой, внутренний комфорт |
4,44 |
4,31 |
4,50 |
|
Здоровье |
4,46 |
4,56 |
4,68 |
|
Хорошие отношения с родителями |
4,35 |
4,51 |
4,52 |
|
Материальная обеспеченность |
4,46 |
4,28 |
4,27 |
|
Яркая, насыщенная событиями и впечатлениями жизнь |
3,93 |
4,18 |
4,21 |
|
Образование |
4,03 |
4,03 |
4,31 |
|
Общение с друзьями |
4,04 |
4,03 |
4,13 |
|
Помощь другим |
3,62 |
3,72 |
4,05 |
|
Высокий социальный статус (власть, престижная работа, уважение окружающих) |
3,46 |
3,52 |
3,87 |
Источник: результаты прикладного социологического исследования «Дети в современной семье» (n = 357).
ствующие принятию решения о рождении детей. Поэтому среди них максимальная доля тех, кто считает, что причиной мало-детности в обществе является нежелание самих людей иметь несколько детей (29,4% при средней 20,9%), а не то, что они не могут себе это позволить. Главными причинами нежелания отдельных людей иметь детей представители этой группы называют нестабильность с работой и доходами (76,5% при средней 74,7%), кроме того, наличие детей, по их мнению, требует от родителей большой ответственности (41,2% при средней 39,9%). Каждый пятый респондент уверен, что рождение детей ограничивает свободу родителей (19,1% при средней 14,4%). Около 22,1% среди них указали, что понимают представителей чайлдфри (при средней 13,2%).
В этой группе 49,3% убеждены, что пандемия COVID-19 и последовавший за ней экономический кризис – не лучшее время для рождения детей (при средней 44,1%). Около 39,7% опрошенных считают, что пандемия COVID-19 вмешается в репродуктивные планы семей, результатом чего станет откладывание рождения детей (при средней 33,0%). Чаще всего причиной этого откладывания респонденты называют опасения не получить необходимую медицинскую помощь, связанную с беременностью и родами (29,6% при средней 22,1%). Более того, около 31,7% молодых людей из этой группы указали, что пандемия повлияла на их индивидуальное решение о родительстве в сторону откладывания рождения детей на неопределенное время («до лучших времен»; при средней 17,3%). Таким образом, очевидно, что представители данной группы молодежи придают важное значение внешним обстоятельствам жизни и любые проявления нестабильности способны мотивировать их на откладывание рождения детей.
Возможно, этими факторами объясняется особое мнение представителей группы планирующих иметь одного ребенка о мерах повышения рождаемости. Они имеют наивысшие требования к государственной социальной поддержке: 89,7% считают необходимым повышение заплаты работающим членам семьи (при средней 84,0%); 61,8% – улучшение жилищных условий семей (при средней 58,2%); 27,9% – улучшение медицинского обслуживания детей (при средней 22,9%); 25,0% – развитие инфраструктуры ухода за детьми (при средней 21,2%); 20,6% – гарантии трудоустройства матерей (при средней 16,9%) и 17,6% – повышение лояльности работодателей к женщинам-матерям (при средней 11,5%).
Таким образом, молодые люди, планирующие иметь одного ребенка, отличаются, с одной стороны, особой системой жизненных ценностей, предполагающей конкуренцию ценностей благополучия (достатка, комфорта и свободы) с наличием детей; а с другой – средней нормой детности, обусловливающей понимание необходимости наличия детей в семье и желание их иметь у значительной части представителей этой группы. Этим фактом объясняется их особое внимание к различным барьерам для рождения детей и восприятие возможных нестабильностей как достаточного условия для отказа (откладывания) рождений. Логичным следствием этих выводов являются повышенные требования респондентов этой группы к государственным мерам социальной поддержки рождаемости. Кроме того, полученные данные свидетельствуют об особом влиянии родительской семьи на сформировавшиеся репродуктивные установки.
Молодежь, планирующая иметь двоих детей
Представители данной группы составляют 55,6% опрошенных, они характеризуются нормативным поведением, установками и ценностями. Среди них 90,2% хотели бы иметь двоих детей, остальные 9,8% – троих и более. В среднем они считают идеальным числом 2,15 детей, желают иметь 2,11. 61,9% хотят иметь детей (при средней 54,2%), около 10,3% указали, что планируют завести детей в ближайшие три года, еще 16,0% – в случае создания семьи. Тем не менее среди них 73,2% считают, что пока рано заводить детей, нужно еще в жизни устроиться даже в случае наличия семьи.
Результаты исследования показывают, что молодые люди из этой группы чаще являются выходцами из семей с высоким социальноэкономическим статусом. У 50,0% ее представителей отцы имеют высшее образование (при средней 46,0%); у 61,8% матери имеют высшее образование (при средней 57,6%). У 13,2% респондентов отцы являются индивидуальными предпринимателями (при средней 11,7%), еще у 3,7% – матери (при средней 2,7%). Более того, 53,6% респондентов этой группы указали, что хотели бы, чтобы их будущая семья была похожа на родительскую (при средней 43,8%).
Молодежь данной группы характеризуется детоцентристскими установками, 55,2% считают, что истинное желание иметь детей не зависит от денег и обстоятельств
(при средней 50,1%); 71,1% убеждены, что ни пандемия COVID-19, ни кризис не помешают семьям, решившим завести детей, реализовать свои планы. Главными причинами нежелания иметь детей для некоторых людей являются приоритеты в других сферах (70,6% при средней 65,3%) и отсутствие семьи/партнера (16,0% при средней 12,7%).
Среди значимых направлений поддержки материнства и детства молодые люди, планирующие иметь двоих детей, называют повышение доступности качественных образовательных услуг для детей (44,3% при 41,5%), увеличение ежемесячного пособия на ребенка до величины прожиточного минимума (при средней 33,9%), увеличение размера материнского капитала до 1 млн руб. (25,8% при средней 24,4%), а также наличие дополнительного дохода для семей (23,7% при средней 19,8%).
Молодежь, планирующая многодетность
В составе представителей этой группы выше удельный вес девушек по сравнению с юношами (21,5 и 15,1% соответственно), выходцев из села по сравнению с горожанами (21,2 и 16,0% соответственно) и лиц в возрасте 19–20 лет (21,3% по сравнению с 16,1% в группе 17–18-летних и 15,6% среди тех, кому 21 год и старше). Среди молодежи, планирующей многодетность, при общей высокой доле тех, кто вырос в двухдетной семье (58,1% при средней 57,2%), также выше доля выходцев из семей с тремя и более детьми (22,6% при средней 13,5%).
Важно отметить, что респонденты из этой группы, во-первых, характеризуются максимальными значениями всех жизненных ценностей по сравнению с остальными группами. Во-вторых, выявлено, что в их ценностной иерархии первые места занимают здоровье, семья и дети, хорошие отношения с родителями, удачная личная жизнь и любовь.
Общие репродуктивные ориентации респондентов этой группы высоки. Они планируют иметь детей больше, чем считают идеальным (3,18 и 2,97 соответственно). Около 68,3% из них отмечают, что в семье идеально иметь троих детей, 5,0% – четве- рых и 6,7% – пятерых. Что касается желаемого числа детей, то 80,6% из них хотели бы иметь троих детей, 8,1% - четверых, 6,4% – пятерых и более. Среди них 77,4% указали на то, что хотят иметь детей; только 19,0% сказали, что пока не хотят (в связи с учебой) при средней 30,4%. Для их ближайших репродуктивных намерений («Планируете ли вы рождение детей в ближайшие три года?») характерна ориентация на скорейшее рождение детей: 12,9% ответили, что планируют (при средней 8,9%), еще 29,0% – в случае создания семьи (при средней 16,3%; результаты статистически значимы, χ2 = 223,3 при χ2кр. = 26,217, α = 0,01). Важно отметить, что при абсолютном большинстве в их составе тех, кто нейтрально относится к чайлдфри (71,0%), среди них максимальная доля тех, кто осуждает представителей этой группы (17,6% при средней 6,9%). Хотя среди них высок удельный вес неопределившихся со своим отношением к чайлдхейт (38,7% при средней 26,9%), все же только 17,7% объясняют такую позицию по отношению к детям концентрацией на себе и своих проблемах и 16,1% – социальной незрелостью (что подразумевает возможный отказ от подобных установок в будущем). Тем не менее только 19,4% демонстрируют социальное одобрение позиции чайлдхейт (считают, что они имеют право думать и поступать как им хочется; при средней 32,7%).
Главными причинами отсутствия желания у некоторых людей иметь детей представители этой группы считают желание иметь беззаботную и комфортную жизнь (37,7% при средней 29,5%) и необходимость значительных финансовых затрат на то, чтобы вырастить детей (34,4% при средней 20,2%). Именно поэтому они чаще представителей остальных групп респондентов указывают на то, что нестабильность с работой и доходами является основным фактором нежелания (или невозможности) людей иметь несколько детей (80,6% при средней 74,7%). Кроме того, опрошенные из этой группы чаще остальных считают, что высокие расходы на детей могут стать препятствием для рождения второго и после- дующих детей (46,8% при средней 33,2%). Но 52,5% однозначно убеждены, что истинное желание иметь детей не зависит от денег и обстоятельств (при средней 50,1%; результаты статистически значимы, χ2 = 16,437 при χ2кр. = 12,592, α = 0,05). Около 72,6% представителей этой группы считают, что даже пандемия COVID-19 не вмешается в планы тех семей, которые решили завести ребенка (при средней 67,0%).
Важным результатом проведенного исследования стало выявление связи между планами относительно многодетности и ориентацией на жизнь и работу в сельской местности. Стоит отметить, что при средней доле выходцев из села в выборке 33,9%, удельный вес сельчан среди планирующих иметь трое и более детей составляет 40,3%. Среди представителей этой группы 27,4% указали, что поехали бы жить и работать в любой населенный пункт, где предложили бы работу (при средней 18,7%), еще 12,9% поехали бы работать в крепкое село с развитой инфраструктурой (при средней 11,2%). Важно отметить, что в их составе выше удельный вес планирующих работать в сельском хозяйстве (40,3% при средней 27,5%); они чаще остальных групп опрошенных убеждены, что малолетним детям лучше жить и воспитываться на селе по сравнению с городом (44,3% при средней 29,1%; результаты статистически значимы, χ 2 = 11,084 при χ 2кр. = 7,815, α = 0,05). Каждый третий указал на то, что хотел бы со своей семьей жить в современном селе (32,3% при средней 19,5%); еще 11,3% сказали, что им нравится сельский образ жизни; каждый десятый отметил, что хотел бы жить в селе, если бы там была работа (9,7%; результаты статистически значимы, χ 2 = 25,085 при χ 2кр. = 21,666, α = 0,01). В их составе максимальный удельный вес тех, кто ориентирован на традиционную модель семьи (мужчина – добытчик, женщина – воспитание детей и поддержание быта; 25,8% при средней 17,2%).
Своими ближайшими жизненными планами представители этой группы называют оплачиваемую занятость (максимальное значение среди всех групп респонден- тов – 67,7% при средней 62,8%), планы по созданию собственного бизнеса (41,9% при средней 20,6%) и создание семьи (19,4% при средней 10,9%). Главными факторами жизненного успеха они чаще остальных считают трудолюбие и целеустремленность (64,5% при средней 56,9%) и наличие стартового капитала (14,5% при средней 12,1%).
В составе представителей этой группы максимальный удельный вес выходцев из высокоресурсных семей: у 54,3% отцы имеют высшее образование (при средней 46,0%), у 42,6% они являются руководителями или занимают должности высшего уровня квалификации (при средней 34,4%), около 12,8% имеют отцов-предпринимателей (при средней 11,7%), еще 10,8% заняты в собственном товарном ЛПХ (при средней 6,2%). Кроме того, для респондентов этой группы также характерен повышенный удельный вес матерей, занимающих руководящие должности и должности высшего уровня квалификации (39,0% по сравнению с 31,9% в среднем по выборке).
Проведенное исследование свидетельствует о том, что молодежь из этой группы отличается ярко выраженными дето-центристскими установками. Так, около 83,9% считают детей счастьем в жизни (при средней 67,5%; результаты статистически значимы, χ 2 = 173,728 при χ 2кр. = 26,217, α = 0,01). Около 88,6% респондентов согласны, что родительство обогащает жизнь индивида и делает ее счастливее (при средней 69,9%; результаты статистически значимы, χ 2 = 137,137 при χ 2кр. = 26,217, α = 0,01); 83,9% убеждены, что важно в жизни передать своим детям семейные ценности и традиции; 72,1% считают, что для ребенка важно иметь братьев и сестер (при средней 49,5%). Для 88,6% респондентов этой группы семья и дети являются значимой частью жизни (при средней 65,3%; результаты статистически значимы, χ 2 = 149,956 при χ 2кр. = 26,217, α = 0,01). Кроме того, подтверждением дето-центризма респондентов этой группы служит тот факт, что в качестве основных тревог в будущем они указали на опасения не иметь детей (29,0% при средней 18,1%).
Значимыми мерами повышения рождаемости представители этой группы считают материальные: рост зарплаты работающих членов семьи (87,1% при средней 84,0%), повышение размера ежемесячного пособия на ребенка до величины прожиточного минимума (45,2% при средней 33,9%) и увеличение размера материнского капитала до 1 млн руб. (27,4% при средней 24,4%).
Таким образом, молодежь, планирующая многодетность, характеризуется ориентацией на семейный образ жизни и высокую ценность детей. Для них семья и дети тесно связаны с представлениями о счастливой личной жизни и любовью. Соответствующие ценности обусловливают глубоко укорененные установки на традиционность семейных отношений, необходимость передачи семейных ценностей и традиций последующим поколениям и ориентацию на несколько детей в семье. Обнаружена тесная взаимосвязь между планируемой многодетностью и ориентацией на жизнь в сельской местности и занятость в сельском хозяйстве. Выявлено, что в составе представителей этой группы высок удельный вес выходцев из высокоресурсных семей.
Выводы
Результаты исследования демонстрируют элементы эмпирического подтверждения обусловленности репродуктивных планов современной молодежи ценностными ориентациями, установками относительно родительства и детности, а также социальноэкономическими характеристиками родительской семьи респондентов. Выявлено, что планируемая малодетность опрошенных молодых людей обусловлена как соответствующей системой жизненных цен- ностей, установками, так и особенностями ближайшего окружения. Предварительные результаты позволяют обосновать необходимость специфической государственной поддержки социальной группы молодежи, планирующей иметь троих и более детей. Для эффективной реализации их репродуктивных планов необходимо сосредоточиться на реализации как экономических мер поддержки семьи, так и расширении инфраструктуры поддержки материнства и детства. Молодежь, планирующая иметь одного ребенка, является особой целевой группой для семейной и демографической политики, с одной стороны, из-за необходимости стимулирования рождения хотя бы второго ребенка, а с другой – из-за наличия устойчивых представлений о любых проявлениях нестабильности, выступающих основанием для корректировки будущего рождения (еще одного) ребенка. Важно сосредоточиться на максимальном режиме благоприятствования этой группе молодежи для предотвращения отказа от возможных рождений. Аналогичная цель и для тех, кто планирует иметь двоих детей – не допустить отказа от рождений или откладывания рождений, способного стать демографически фатальным.
Таким образом, практическая значимость исследования заключается в обосновании дифференциации мер поддержки рождаемости для групп молодежи с разными репродуктивными планами. Именно концентрация на специфических интересах и потребностях разных групп молодежи является целью дальнейшего исследования, что будет способствовать повышению эффективности реализации инструментов демографической политики.