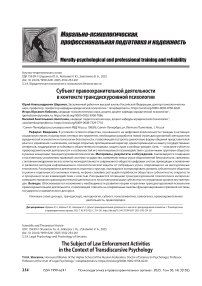Субъект правоохранительной деятельности в контексте трансдискурсивной психологии
Автор: Шаранов Ю.А., Кобозев И.Ю., Золотенко В.А.
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Морально-психологическая профессиональная подготовка и надежность
Статья в выпуске: 3 (102), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В условиях сетевого общества, основанного на цифровой вовлеченности граждан в активную социальную жизнь посредством сетевых инструментов, необходима разработка новой (трансдискурсивной) методологии юридической психологии и психологии безопасности, позволяющей построить диалоговую форму общения представителей власти и управления с населением, носящую открытый, просоциальный характер, ориентированную на защиту государственных интересов, поддержание устойчивого общественного порядка, защиту прав и свобод граждан. Цель — описание субъекта правоохранительной деятельности и особенностей его континуального взаимодействия с различными группами общества в рамках концепции трансдискурсивной психологии. Материалы, результаты и обсуждение. Анализируется тенденция к постоянному усложнению правовой системы государства, появлению новых угроз общественной безопасности, связанных с активным внедрением во все аспекты жизнедеятельности современного общества цифровых систем, приводящих к появлению и развитию методов информационно-психологической защиты от гибридных угроз, опирающихся на дискурсивные технологии. Рассматривается деятельность властных структур, пытающихся контролировать уровень субъектности общества в целом и отдельных его активных членов, на фоне стихийно растущей потребности общества в субъектности, открытости и прозрачности во взаимодействии с властью. Раскрывается потенциал трансдискурсивной психологии в интересах совершенствования правоохранительной деятельности на основе реализации субъектности сотрудников органов внутренних дел. Выводы. Обосновывается положение о необходимости развития теории и практики трансдискурсивной психологии правоохранительной деятельности, позволяющей отвечать на современные вызовы функционирования правовой системы государства и юридического дискурса.
Дискурс, трансдискурс, методология, субъект, психосемантика, семиогенез, правоохранительная деятельность, правопорядок
Короткий адрес: https://sciup.org/149149230
IDR: 149149230 | УДК: 159.99 | DOI: 10.24412/1999-6241-2025-3102-254-261
Текст научной статьи Субъект правоохранительной деятельности в контексте трансдискурсивной психологии
Юрий Александрович Шаранов, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры юридической психологии 1; ; Игорь Юрьевич Кобозев, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры юридической психологии 1; ;
Yrii А. Sharanov, Honoured Worker of the Higher School of the Russian Federation, Doctor of Science (in Psychology), Professor, Professor at the chair of Legal Psychology 1; ;
Igor Yu. Kobozev, Candidate of Science (in Psychology), Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of Legal Psychology 1; ;
Vasiliy A. Zolotenko, Candidate of Science (in Pedagogy), Associate-Professor at the chair of Legal Psychology 1; ;
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Многообразные и многомерные системы правоохранительной деятельности формируются, развиваются и существуют в междисциплинарном дискурсе субъектов права, власти, управления и безопасности, а потому отражаются в языке власти, в различных языковых стратегиях и референциях субъектов правоохранительной деятельности. При этом сам механизм семиозиса социального порядка и безопасности, согласно идеям Ю. М. Лотмана, работает на затруднение контакта и понимания [3]. Отсюда идея диалога с гражданами в рамках осуществления правоохранительной деятельности является системообразующей, но диалог всегда происходит на разных языках, с трудностями, и всегда с надеждой на понимание, потому что одновременно работает не только механизм унификации языка власти и управления, но и механизм разнообразия трансдискурса права и культуры.
В ситуации повышенного социального многообразия, порожденного модернизацией российского общества, традиционный дискурс власти и управления перестал отвечать современным целям повседневного, непрерывного диалога с населением. В свою очередь, тенденция к возрастанию сложности правовой системы государства и ценности власти в управлении обществом, а также неопределенность поведения политических элит в сфере идеологии и ценностей привели к обострению противоречий между субъектностью властных структур и усилением бессубъектности значительной части населения. Тем самым актуализация процессов институционализации и развития трансдискурсивной психологии выступают результатом имплицитного стремления властных структур, осуществляющих управление обществом, к завоеванию большего доверия и народной поддержки путем повышения уровня субъектности населения. Как показывает опыт, далеко не каждый гражданин демонстрирует стремление к гражданской активности, а потому способен спокойно переживать отсутствие запроса на проявление его активной жизненной позиции. Более того, часть своей свободы гражданин безропотно передает в руки желающих заниматься политикой, предпринимательством, государственным управлением, военной и правоохранительной службой. Человек может проявлять себя в качестве субъекта избирательно или частично, демонстрируя способность к саморефлексии, т. е. к активному построению отношения только к себе [4]. Другими словами, свойства субъектности как определенное качество отношения к жизни — модус творца, деятеля человек может проявлять в своих собственных интересах, для того чтобы достичь личные цели своей жизнедеятельности. И в этом смысле важно переживание личностью модуса «я могу», «я хочу», «я делаю», в ходе чего человек обретает в себе качество субъекта собственной жизни [5]. Многочисленные переживания субъектности «я могу» в свернутом виде уже содержатся в каждом поступке личности как субъекта. Нужны специальные условия и усилия самой личности, чтобы окончательно состояться свободным субъектом, автором своей собственной жизни.
Именно индивидуальный опыт субъектности составляет ядро свободы личности, в том числе субъектности коллективной, социальной, предопределяющей готовность личности действовать в мире других людей, вносить значимые вклады в жизни других людей. Личность как коллективный субъект — это уже другой уровень субъектности личности, сотрудничающей и вступающей в диалоги с другими людьми, ответственный деятель [6], способный ставить и реализовывать цели, быть рефлексирующим, свободным, развивающимся [7].
Сегодня обществом переживается запрос преимущественно на субъекта социального, обладающего силой витальной связи личности с настоящим и будущим своей Родины, готового беззаветно служить обществу и народу. Территория такой формы субъектности имеет тенденцию к непрерывному расширению благодаря трансдискурсивным практикам работы с различными группами населения.
Новым моментом является присутствие в повседневной жизни людей событий войны. Именно событийность такого рода обладает наиболее мощным субъектнопорождающим потенциалом. Для многих жителей страны появилась реальная возможность выйти за рамки своих наличных возможностей и проявить свою надличностную субъектность в оказании помощи и поддержки участникам специальной военной операции (далее — СВО), всем людям, которые в ней нуждаются. Значимость позиции субъектности населения стала проявляться и в повседневной требовательности к созидательной активности всех органов государственного управления, власти и правоохранительной деятельности.
Однако некоторые представители элиты, власти и управления, на словах декларируя открытость и прозрачность своей деятельности, готовность поставить ее под полный общественный контроль, на деле недооценивают интересы государства и нередко преследуют свои узкогрупповые цели, оставляя в этом смысле часть населения бессубъектной.
В свою очередь, органы внутренних дел представляют собой силовую структуру, которая уже по своему статусу обладает общепризнанной субъектностью в области охраны общественного порядка и защиты членов общества от преступных посягательств, способную осознанно принять на себя ответственность за безопасность общества. При этом необходимо учитывать, что в условиях проведения СВО субъектность населения стремительно расширяется. В обществе набирает обороты движение волонтеров. Экстремальные добровольцы в инициативном порядке участвуют (или содействуют) в решении задач Минобороны, МВД в СВО, рискуя собственным здоровьем и жизнью [8].
Субъектом (волонтером, добровольцем) может выступать любой человек, способный к соучаствующей деятельности и проявляющий созидательную активность во взаимоотношениях с государством или обществом. Традиционный диалог представителей власти и чиновников органов управления с населением, ограничивающий субъектность людей избыточным контролем и подозрениями, страхом потерять свой авторитет и влияние, становится уже неактуальным. В условиях сетевого общества, цифровой вовлеченности граждан в активную социальную жизнь посредством сетевых инструментов становятся востребованными трансдискурсивная технология и психология общения и управления представителей власти населением. Цели и смыслы трансдискурсивной психологии задаются самим субъектом, носят открытый просоциальный характер, мотивированы стремлением защитить государственные интересы и оказать помощь отдельным людям.
Цель — описание субъекта правоохранительной деятельности и особенностей его континуального взаимодействия с различными группами общества в рамках концепции трансдискурсивной психологии.
Материалы, результаты и обсуждение
Содержание понятия трансдискурсивной психологии. Понятие трансдискурсивности обязано своим появлением культурно-исторической психологии Л. С. Выготского, а также современным исследованиям в языкознании и семиотике, мифологии и социологии, лингвистике и психолингвистике, информатике и кибернетике, психологической герменевтике, в сферах культурного развития человека и субъекта деятельности, личности представителей профессий особого риска, в семантическом подходе к исследованию преступности, в дискурс-анализе и дискурсе понимания организаций.
По своей сути трансдискурсивная психология является еще одним вариантом развития и трактовки идей культурно-исторической концепции Л. С. Выготского [1]. При этом остается до сих пор неразрешенной одна из фундаментальных проблем психологической науки — выявление механизмов соединения мысли и речи, мышления и слова, биологического и социального в речи, языка и речи в деятельности субъекта. Трансдискурсивная психология — это концепт, посредством которого появляется возможность реализовать две теоретические задачи: 1) это концептуализация предмета юридической психологии, что достаточно хорошо отражено в психолингвистических и других исследованиях, представлено в литературных источниках; 2) объяснение механизмов регуляции поведения и деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Трансдискурсивная психология одновременно опирается на теорию дискурса, семиогенетический и психосемантический подходы, восходит к идеям школы Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, концепции структуры сознания А. Н. Леонтьева, В. П. Зинченко [9].
Согласно концепции сознания образующими («моментами») сознания являются чувственная и биодинамическая ткань, значение и личностный смысл. Для психосемантического подхода концепция сознания А. Н. Леонтьева [10] является главной осью, вокруг которой строятся теоретические и экспериментальные конструкции, формулируются идеи индетерминации — самостоятельной активности субъекта, позволяющей изменять систему своих значений и смыслов. Только у Л. С. Выготского самодетерминация осуществляется с помощью высших психических функций, а у А. Н. Леонтьева — за счет «самостоятельной силы реакции» личности. В конечном счете одно не исключает другого, и поэтому можно сказать так: личность как носитель высших психических функций обладает способностью самодетерминации. Отсюда любую динамику психических процессов невозможно рассматривать без учета их источника — свойств субъектности личности.
Таким образом, с позиции трансдискурсивной методологии объектом изучения должен выступать познающий, созидающий, действующий, говорящий субъект, состояние его сознания, формы его речевого поведения как выражение его характера, привычек, ценностей, интересов и позиций. При этом язык, речевая коммуникация играют системообразующую роль, создавая связанность всех элементов психики, составляющих системность активности субъекта. Именно трасдискурсивная методология предлагает сегодня новый научный инструмент, позволяющий проводить социально-психологическое и психолого-юридическое исследование личности сотруд- ника как субъекта правоохранительной деятельности в условиях нелинейных, неопределенных, неравновесных ситуаций правоотношений.
В психологической науке подчеркивается особый статус субъекта, который предопределяет реализацию движения и развития личности, автономность мотивации и стиля регуляции, координацию и иерархию выбора целей жизнедеятельности, оценку ресурсов индивидуальности человека и критериев его субъектной состоятельности. Подобная позиция повышает личностный ресурс субъекта, придает смысл его существованию как члена общества с особым, доверительным отношением к себе со стороны населения.
По мнению А. Р. Лурии, слово удваивает мир [11]. Однако это делает не всякое слово, а то слово, которое способно выполнять обозначающую, а не выразительноаффективную функцию, как у животных. Тем самым А. Р. Лурия утверждал, что человек за счет обозначающего, кодирующего языка способен выходить за пределы наглядного, непосредственного опыта. Слово, во-первых, позволяет мысленно оперировать предметами в их отсутствие и, во-вторых, абстрагироваться от несущественных и выделять существенные признаки предмета в конкретной ситуации.
Само понятие «дискурс» появилось благодаря работам одного из представителей французской школы лингвистики Э. Бенвениста [12], а затем его начали активно трактовать и использовать филологи, литераторы, философы, социологи, семиотики и психолингвисты (В. Ю. Артемьева, Ю. М. Лотман, В. Ф. Петренко, Р. М. Фрумкина, А. Г. Шмелев и др.).
Любые дискурсы идеологически детерминированы, служат интересам власти и порядка, целям создания конкретного правопорядка или образа мира. Различные дискурсы, объединяя в своей структуре характерные только для них значения, создают собственные границы, противопоставляя себя другим дискурсам. Границы между дискурсами могут быть достаточно жесткими, но проницаемыми. Как правило, такие границы «мерцают» и «колеблются» во времени и пространстве вместе с языковым темпоритмом и никогда не бывают окончательными. Отсюда приставка «транс-» (лат. trans — сквозь; через, за) означает переход или пересечение дискурсом внутренних и внешних границ, отделяющих сущность от явления, возможного от невозможного, позиции и отношения людей, выход за пределы состояний субъектов, способствующий свободному проявлению их подлинной сущности.
Феномен постоянной изменчивости и неопределенности макро- и микросоциальных пространств позволяет в полной мере акцентировать место трансдискурсивных технологий и нарративно-психологических подходов в механизмах социальной перцепции, опосредствовании языком, нарративом, временем, моралью и властью процессов конструирования идентичностей субъектов, форм переживания вины и ответственности человека в зависимости от социального контекста. Попадая в ситуации множества референтных норм взаимоотношений и истин, изменяясь в соответствии с каждым социальным событием или ситуацией взаимодействия, человек все больше зависит от дискурсивного контекста. Именно дискурс посредством пояснения (прояснения, интерпретации) смысла в ситуации неопределенности не только создает дизайн ситуации взаимодействия или контекст события, но и определяет глубину и динамику влияния события или контекста на восприятие времени и пространства, последствия для идентичности и нравственности субъекта. Под глубиной дискурса понимается необходимое количество объяснительных трансформаций для того, чтобы добиться от взаимодействующих сторон однозначного понимания и интерпретации смысла общения.
Трансдискурсивность не поддается редукции своего предмета к структуре и функциям языка и не тождественна какому-то отдельному дискурсу, потому что ее функции заключаются в соединении всех социо-, психолингвистических типов дискурсов в единое семантическое пространство мира жизнедеятельности человека. Дискурс правоохранительных органов — это одно из условий самоопределения государства, его способности выбирать, реализовывать и защищать традиционный или господствующий образ жизни. Из всего набора современных психологических методов именно психосемантика, дискурсивная психология, разнообразные виды дискурсов позволяют синтезировать объектный и субъектный подходы, категориальные структуры различных школ и направлений психологической науки, так как универсальным для всех гуманитарных наук остается метод семантической интерпретации, понимания и объяснения социальных явлений, закономерностей проявления группового и индивидуального сознания человека.
Однако, предоставляя значительные возможности для исследования психологических аспектов различных сторон индивидуального и общественного сознания, в том числе в сфере правоохранительной и правоприменительной деятельности, теоретические и методологические основания трансдискурсивной психологии сегодня не являются завершенными. Трансдискурсивная психология правоприменительной деятельности посредством множества дискурсов субъектов способна прибегать к технике подстройки к характеру проблемы обсуждения, к схватыванию сути ситуации в нарративе, тем самым демонстрируя адаптивность стандартов и норм диалога власти и управления с населением. Именно в таком стиле трансдискурса обнаруживаются возможности для мониторинга состояния правового сознания и правового поведения различных групп граждан, обеспечение достоинства, ценности человеческой жизни и свободы.
Целостное представление о трансдискурсивности правоохранительной деятельности в юридической психологии еще не сложилось, а потому не существует и общепринятого ее определения. Под трансдискурсивной психологией правоохранительной деятельности мы понимаем совокупность институциональных и юридических дискурсов, соответствующих дискурсивных практик, которые создаются и функционируют при непосредственном участии и контроле со стороны органов управления и власти, общественных институтов и движений в сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности общества [13]. Противоречия и конфликты, свойственные правотворчеству и правореализации, находят выражение, регулируются и разрешаются в трансдискурсивном диалоге власти и населения, преимущественно в форме устной и письменной речи. При этом устный и письменный языки трансдискурсивного пространства группируются вокруг как бытового («живого») языка «звучащей юриспруденции», так и академической речи и юридических текстов, выполняя коммуникативные функции в сфере правоохранительной деятельности.
Трансдискурсивная психология снимает противоречия, которые неизбежно возникают из антитезы двух форм речи — устной и письменной, так как апеллирует к механизмам семантического конструирования идеальных образов права и правопорядка, к роли языка в формировании правовой идентичности сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим трансдискурсивная психология правоохранительной деятельности состоит из дискурсов субъектов права, а сами дискурсы рассматриваются в широком и узком смысле.
В узком смысле в центре трансдискурсивной психологии находится «субъект говорящий» с его способностями выстраивать диалог с широким кругом людей. Диалоговый стиль мышления в высшей степени характерен для эпохи постмодерна с ее дискурсивной формой права и ризомным субъектом. Как правило, именно диалоговая форма институционального и юридического дискурса заставляет думать, четко формулировать свою точку зрения и жизненную позицию, предполагать необходимость слушать и слышать собеседника. По тому, как субъект общается, можно достоверно определить уровень его образования и психологические особенности, его стремление понять или внушить, привести к повиновению.
В широком смысле трансдискурсивная психология правоохранительной деятельности восходит к традиционному дискурсу власти и управления в контексте идеократической функции языка (властной, силовой, манипулятивной), дискурсивно-правовым системам языкового опыта, механизмам семиогенеза индивидуальной идентичности субъекта правоохранительной деятельности, а также коммуникативной природе права и юридической истины, нравственно-правовым идеям добра, блага, справедливости, красоты и порядка, самоорганизации диссипативных структур общества.
Важными особенностями трансдискурсивной психологии правоохранительной деятельности являются ее направленность на повышение степени субъектности государства, ориентация на поддержку субъекта нового типа, оказывающего сопротивление навязываемой ему роли функционера и слепого проводника чужой воли и власти. При этом индивидуальный и коллективный субъект органов полиции характеризуется разным типом субъектности и субъекта, наличием ризомного мышления, которое отличается своей нелинейностью, основано на множественности подходов и «скользящем» переходе от одной темы к другой; ризомное мышление «номадич- но» и гетерогенно [14]. А потому задает особый уровень метакогнитивной активности, т. е. особое отношение субъекта к миру и самому себе, к приобретению информации, выбору цели и способа процесса институционализации, логику и смысл построения юридического дискурса и оценку его результатов.
Обратная связь особенно важна в отношении ресоциализации лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также лиц, подвергающихся пробации. В этом смысле специфический вид трансдискурсивной деятельности субъектов связывается с их нравственной ориентацией и гуманистической позицией, с целями достижения безопасности и благополучия в обществе.
Принципиально важным для психологического статуса субъекта трансдискурсивной деятельности является невозможность в любой момент прервать процесс служебной деятельности, уклониться от социальной и юридической ответственности, от оказания психологической помощи и поддержки нуждающимся в ней, в том числе и в ситуации диалога с людьми, которые демонстрируют неординарность своего мировоззрения, порождают неопределенность и нестабильность права, власти и правопорядка, руководствуясь собственной идейностью, высшими человеческими ценностями и мотивами. Психологическую устойчивость субъекту трансдискурсивной деятельности обеспечивают многокомпонентные структурные качества с предикторами нравственной, мотивационной и ценностно-смысловой сферы личности, социальной ответственности и осмысленности профессиональной активности. Подобного рода субъектные качества трансдискурсивной психологии правоохранительной деятельности позволяют решать как задачи коррекционно-профилактические, агитационно-ценностные, образовательно-развивающие, учебно-воспитательные, так и задачи создания безопасных, психологически комфортных условий деятельности общества, формирования и развития правовой идентичности граждан.
Субъектность трансдискурсивной психологии правоохранительной деятельности приобретается при соблюдении некоторых условий. Во-первых, если язык принуждения и указаний, к которому вынуждена прибегать власть, носит преимущественно имплицитный характер, а ответственность за преступные действия неотвратима и открыта. Во-вторых, если юридический дискурс носит адресный характер, т. е. установлен диалог с представителями различных социальных групп, в том числе маргинальной и радикальной направленности, ограниченный рамками государственных интересов и закона. В-третьих, если используются наиболее современные каналы коммуникации и психологического влияния «сетевого общества» с элементами визуализации образцов правильного поведения, повышающие интенсивность и плотность смыслов информационного потока. В-четвертых, если внутри самих правоохранительных органов функционирует центр «сборки субъектности сотрудников» в полном соответствии с особенностя- ми и традициями отечественной культуры служебной деятельности органов внутренних дел. В-пятых, наиболее важным для бытия права, правопонимания и правопорядка представляется диалог трансцендентного и имманентного. Согласно позиции И. Л. Честнова, трансцендентное — это те внешние (относительно права как целого) социальные факторы, выражающиеся в ментальных процессах и поведении субъектов, которые обусловливают необходимость его (права) существования и применительно к которым право как общее, родовое понятие — явление — проявляет свое назначение; одновременно это генетическое и функциональное начало права [15, с. 8]. Имманентное в праве — это конкретно складывающиеся нормы, реализующиеся в правопорядке и отражающиеся в правосознании субъектов, что характеризует целостность права.
Диалогичность бытия права понимается (по И. Л. Честнову) в контексте развития, включает взаимосвязь и взаи-мопереход должного и сущего, идеального и материального, внешнего и внутреннего и других противоположных моментов, образующих структуру правовой реальности и проявляющихся во всех правовых институтах (например, диалог нормы права и правоотношения, права и закона), безотносительно к его (бытия права) историческому изменению. В этом случае можно ожидать, что связь субъекта с правом будет референтной, внутренней, интимной и носить свободный характер.
Правопорядок — явление одновременно устойчивое и изменчивое, опирающееся на незыблемость правовой системы государства, состоящее из темпоритмов общественного сознания и актов физической активности людей, отражающее спонтанность сознания и семантическую (языковую) природу личности — носителя смыслов. Вместе с тем такое свойство общественного порядка, как непрерывность, обеспечивается соответствующим дискурсом, который «разгоняет» энергию порождения значений, символов, смыслов, образов, концептоформ, заполняющих пробелы внутри и между институтами и сферами правоотношений. В связи с этим резко повышается значение субъекта правоотношений. Выступая в качестве обобщения опыта человечества, результата общественной практики и культуры, субъект дискурса (носитель языка) преодолевает имманентно существующие пустоты и неопределенности в правовой реальности, придает подлинность действиям людей, замещает реальное поведение знаком, значением, символом, образом, облегчая и сокращая время усвоения норм права.
Потребность в расширении рефлексивных (умных) методов правоохранительной деятельности неизбежно вызывает необходимость обращения к методологии дискурса, к исследованию возможностей трансформации авторитарных способов коммуникации власти в демократические формы дискурсивной поддержки общественного порядка. Юридический дискурс в этом смысле обладает определенным потенциалом, так как позволяет снимать конкурентность «образцов поведения», культурных норм и символов общественного порядка посредством обращения к ментальной памяти народа, к традиционным ценностям порядка и уважения легитимных органов власти.
Природа механизмов правового регулирования такова, что само по себе наличие права не является гарантией, а только лишь нормативной основой и предпосылкой законности. Другими словами, законность — это то правовое средство, при помощи которого право как система общеобязательных норм претворяется в правопорядок как систему устойчивых общественных отношений [16, с. 13]. Поэтому значение трансдискурса правоохранительной деятельности заключается в способности целевых (сетевых) аудиторий осуществлять мониторинг динамики субъектности и бессубъектности граждан, контроль состояния безопасности, проявлений беззакония и коррумпированности чиновников в целях достижения стабильного правопорядка, обеспечения прав и свобод членов общества.
В настоящее время информационная емкость юридического дискурса, его смысловая плотность и интенсивность заметно выросли в связи с кризисом уголовного законодательства в условиях цифровой преступности [17]. Насильственные и иные «контактные» корыстные посягательства (карманные и квартирные кражи) постепенно уходят в прошлое. Тогда как цифровизация глобальной экономики и российского общества кардинально изменили криминальный ландшафт, масштабы, структуру и качественные характеристики преступности [18].
Выводы
Теоретический анализ субъектофикации демонстрирует диалектическую взаимосвязь индивидуальной и социальной субъектности личности. Вместе с тем в настоящее время пока сохраняется высокий интерес именно к проблеме индивидуального субъекта, на первое место выдвигается исследование генеза субъекта в индивидуальной жизни личности. Осуществление себя личностью в качестве индивидуальной субъектности предполагает наличие установки на рефлексию «присвоения» самого себя, открытие собственных миров и центрирование исключительно на собственном мире. Смысл индивидуальной субъектофикации определяется преимущественным стремлением личности к собственному комфорту и благополучию, к достойной человеческой жизни. После достижения целей индивидуальной смыслореализации может появиться установка на активные субъектопорождающие моменты выхода за пределы индивидуального мира, личность осознает себя способной к большему, чем раньше. Тем самым сегодняшняя «идея персонологии отношения личности к себе» перерастает масштаб отдельного субъекта и запрашивает личность в качестве коллективного субъекта служения государству и обществу. Внутренним источником процесса субъектофикации общества выступает противоречие между индивиду- альным субъектогенезом и социальной субъектностью личности гражданина и патриота.
В настоящее время трансдискурсивная методология выступает естественным результатом развития теории и практики юридической психологии, является ответом на основные вызовы, стоящие перед органами внутренних дел. Необходимость активного масштабирования существующих технологий юридического дискурса диктуется быстрым развитием правовой системы государства. В. В. Путин на IX Всероссийском съезде судей прямо заявил, что «наше правовое поле меняется очень быстро, может быть, слишком быстро и порой не системно, что создает немало угроз в процессе правоприменения» 1. Имеются в виду угрозы в форме юридических ошибок сотрудников органов правопорядка, которые могут приводить к нарушениям охраняемых Конституцией Российской Федерации прав и свобод граждан. Достаточно напомнить о том, что между административным правонарушением и преступлением грань достаточно условная. Субъективно устанавливаемая законодателем и все более размытая, чтобы сегодня считать ее принципиальной для разграничения общественно опасных и общественно вредных деяний [19]. В связи с этим вовлечение членов гражданского общества и субъектов правоохранительных органов в постоянно действующий, открытый и свободный юридический дискурс является условием эффективности права и правоприменительной деятельности сотрудников полиции. Другими словами, для правового порядка важны как сам факт наличия дискурса, диалог власти и населения, так и его положительные результаты. При этом, по мнению В. Гегеля, «не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением, голый результат есть труп, оставивший после себя тенденцию» 2.
Область применения и перспективы. Дальнейшая разработка методологии и положений трансдискурсивной психологии позволит сформировать инструменты реализации «мягкой силы» при осуществлении правоохранительной деятельности, что обеспечит повышение эффективности механизмов правоприменения. Другим важнейшим следствием будет описание и совершенствование субъект-субъектного взаимодействия представителей властных структур и общества, стремящегося в настоящее время обрести субъектность и оказывать влияние на принимаемые решения и пути их реализации, осуществлять контроль за деятельностью властных структур для предотвращения и пресечения правонарушений и преступлений коррупционной направленности, тем самым достигая «прозрачности» управления и партнерских отношений общества и власти, что обеспечит устойчивость общественного порядка и развития общества в целом.