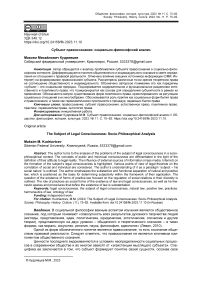Субъект правосознания: социально-философский анализ
Автор: Кудрявцев М.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2023 года.
Бесплатный доступ
Автор обращается к анализу проблематики субъекта правосознания в социально-философском контексте. Дифференцируются понятия общественного и индивидуального сознания в свете определения их отношения к правовой реальности. Отмечено влияние внешних источников информации (СМИ, Интернет) на формирование правосознания субъекта. Рассмотрены различные точки зрения теоретиков права на соотношение общественного и индивидуального. Обозначено авторское понимание его как парадигмы «субъект - его социальная природа». Подчеркивается содержательное и функциональное разделение естественного и позитивного права, что позиционируется как основа для определения субъектности в рамках их применения. Обозначается вопрос существования форм позитивного права, ориентированного на регуляцию социальных отношений в их многообразии. Обосновывается роль практик как социальных форм бытия права и правосознания, а также как герменевтических пространств и процедур, задающих бытие права.
Правосознание, субъект правосознания, естественное право, позитивное право, практики, герменевтика права, онтология права
Короткий адрес: https://sciup.org/149144735
IDR: 149144735 | УДК: 340.12 | DOI: 10.24158/fik.2023.11.10
Текст научной статьи Субъект правосознания: социально-философский анализ
Введение . В социальной философии важным аспектом изучения является общественное сознание, под которым понимают «совокупность всех результатов духовного творчества людей (взгляды, представления, идеи, политические, юридические, эстетические, этические и другие теории), представленную на двух уровнях – обыденного и теоретического сознания – в таких формах, как мораль, искусство, религия, наука, философия, идеология» (Левин, 2010).
Одной из форм обозначенного понятия является правосознание, то есть осознание обществом правовой реальности. Следует отметить, что правосознание не является ключевым компонентом общественного сознания.
Ценности последнего видоизменяются в условиях неопределенности социальных процессов в современном обществе и во многом зависят от «экзистенции мыслящего субъекта». Специфика ее заключается в том, что субъект формирует понятие своей сущности, осознав свое
предназначение за пределами «Я». Телевидение и другие средства массовой информации (СМИ), а также Интернет создают необходимые условия для формирования стереотипов и мифов, которые воспринимает общественное сознание и которые отображаются в структуре доминирующих ценностей и типов поведения людей, а также способствуют формированию особых паттернов восприятия действительности.
В герменевтике проблема соотношения общественного и индивидуального была поставлена Х.-Г. Гадамером (1988). По мнению А.В. Ташкина, исследовавшего его работы, «взаимосвязь исторического опыта и интерпретации является некой вариацией практикуемого мыслителем герменевтического круга как одного из главных принципов его философской концепции, важным концептом, диалектически связанным с Verstehen и высвечивающим экзистенциальные корни историографии, выступает понятие предпонимания, связанное с терминами “предрассудок”, “предсуждение”, “предмнение” (Vormeinung)» (Ташкин, 2018: 28).
С.А. Храпов выделяет два периода в исследовании общественного сознания. Первый из них он определяет как связанный с оформлением методологии исследования общественного сознания. Главной же особенностью второго периода, по мнению ученого, являются фундаментальные разработки по исследованию феномена общественного сознания, в частности, касающиеся рассмотрения комплекса проблем соотношения субъективного и объективного, материального и идеального в контексте коллективного сознания (Храпов, 2009: 201).
В философском смысле соотношение общественного и индивидуального может быть интерпретировано нами как проблема субъекта и его социальной природы.
В социальной философии можно выделить как минимум два подхода к проблематике субъекта.
Первый из них имеет отношение к социологической традиции, и одним из его представителей можно назвать, в частности, Э. Дюркгейма, в теории которого одним из ключевых понятий является социальный факт. Последний характеризуется двумя свойствами: во-первых, он имеет надындивидуальную природу и, во-вторых, оказывает влияние на личность именно в силу независимости от её свойств и качеств (Дюркгейм, 1899).
Второй подход к пониманию субъекта касается антропологического понимания субъекта. Эта традиция развивается в работах В.С. Барулина1, В.А. Кутырева (2001), С.А. Храпова (2009) и других исследователей. При этом общественное правосознание представляет собой не совокупность индивидуальных правосознаний субъектов, а некоторую систему, которую создают не только образующие ее элементы, но и отношения между ними. Назначение ее состоит именно в воспроизводстве и реализации практик (в том числе юридической, понимаемой как в узком, так и в широком смысле). Кроме того, индивидуальное правосознание субъектов делает общественное динамичным.
Настоящая статья посвящена рассмотрению вопроса, который можно сформулировать следующим образом: какова природа субъекта в философии права и в какой социальной ситуации реализуется правосознание?
Естественное и позитивное право . Первым шагом в понимании природы субъекта правового сознания стала дихотомия естественного и позитивного права. Одна из пионерских работ, в которой задано подобное разделение двух источников права, – сочинение Г. Гроция «О праве войны и мира» (1994). Первый из них мыслитель определяет следующим образом: «Такое соблюдение [правил] общежития, изображенное нами лишь в общих чертах как присущее человеческому разуму, есть источник так называемого права в собственном смысле: к нему относятся как воздержание от чужого имущества, так и возвращение полученной чужой вещи и возмещение извлеченной из нее выгоды, обязанность соблюдения обещаний, возмещение ущерба, причиненного по нашей вине, а также воздаяние людям заслуженного наказания. Из такого понятия права вытекает другое, более широкое, поскольку человек перед прочими животными имеет не только способность к общению, о чем уже было сказано, но и силу суждения для оценки того, что способно нравиться или причинять вред как в настоящем, так и в будущем, а также того, что может приводить к тому и другому» (Гроций, 1994: 46). О втором источнике в работе Г. Гроция говорится следующее: «А вот, кроме первого, естественного, и другой источник права, а именно – проистекающий из свободной воли бога, повиноваться которой беспрекословно повелевает нам самый наш разум» (Гроций, 1994: 47). Таким образом, ученый выделяет два источника права: первый – основанный на законах человеческого общежития; второй – опирающийся на власть бога.
Подобное разделение права на естественное и позитивное стало фактически традиционным для юридической науки и начало широко использоваться в работах других авторов. В текстах современных исследователей права естественное и позитивное право также обсуждаются как отдельные. При этом первое интерпретируется именно как некоторое идеальное право, существующее до отношений и взаимодействий и вне их. Позитивное право включает нормы, благодаря которым регулируются конкретные взаимоотношения. И оно не может противоречить установкам естественного права.
В.Н. Гуляихин определяет различие между ними следующим образом: «Еще древнегреческие стоики придерживались воззрения, что существует как вечное естественное право, коренящееся в природе человеческого разума и отношений между людьми, так и изменчивое позитивное право, регулирующее общественные отношения с помощью относительно подвижной системы правовых норм. По их мнению, положительное право является правом лишь постольку, поскольку оно соответствует установкам естественного права. Эти взгляды разделяли и юристы Древнего Рима, которые утверждали, что естественное право столь же вечно и незыблемо, как и законы логики, поскольку то и другое составляют природу разума. Современные сторонники естественного права видят в нем не столько часть современного позитивного права, сколько систему идеальных норм, которая должна играть роль парадигмы для развивающегося действующего права» (Гуляихин, 2013).
И.П. Малинова классифицирует существующие концепции правопонимания следующим образом: «В нормативистской теории основной акцент падает на внутриправовые аспекты легитимации правотворческой деятельности, а в естественной и социологической – на внеправовые ее основания» (Малинова, 2017: 87–88).
На практике при толковании права судьями, субъектами, его реализующими, выливается либо в признание верховенства позитивного права («закон суров, но это закон»), либо в такую интерпретацию позитивных установлений, когда, помимо содержания позитивных установлений, учитываются иные явления социальной реальности.
Также над проблемой соотношения естественного и позитивного права работал философ Дж. Ролз, сформулировавший ее основные положения в своей работе «Теория справедливости» (2010). Он предложил следующее понимание справедливого общества: «Предполагается, что каждый член общества обладает неприкосновенностью, основанной на справедливости, или, как иногда говорят, на естественном праве, и которая не может быть попрана даже ценой всеобщего благоденствия. Справедливость не допускает, чтобы потеря свободы одними оправдывалась большими благами других. Исключается такой подход, при котором баланс потерь и приобретений различных людей рассматривается так, как если бы они были одной личностью. Следовательно, в справедливом обществе основные свободы полагаются сами собой разумеющимися, и права, гарантируемые справедливостью, не являются предметом политического торга или же калькуляции социальных интересов» (Ролз, 2010: 38).
Дж. Ролз интерпретирует благо прежде всего как рациональное соответствие ожиданиям, а свобода трактуется им контекстуально и расширительно: «Таким образом, я просто буду предполагать, что любую свободу всегда можно объяснить с помощью указания на три вещи: свободные действующие субъекты, ограничения, от которых они свободны, и то, что они свободны делать или не делать. Полное объяснение свободы дает всю относящуюся к делу информацию об этих трех вещах. Очень часто определенные вопросы ясны из контекста, и полное объяснение не является необходимым. Общее описание свободы, таким образом, имеет следующую форму: та или иная личность (или личности) свободна (или не свободна) от того или иного ограничения (или набора ограничений) делать (или не делать) то-то и то-то. Ассоциации, как и естественные личности, могут быть свободны или несвободны, и ограничения могут варьироваться от обязанностей и запретов, определяемых законом, до принуждающих влияний, исходящих от общественного мнения и давления со стороны социума» (Ролз, 2010: 182–183).
Опора на идеи свободы или блага вне контекста, о важности которого пишет Дж. Ролз, также может быть опасной вследствие угрозы появления личностного подхода к праву и, вследствие этого, формирования неравенства его субъектов.
Таким образом, в рассмотренных нами концепциях ряда современных философов естественное и позитивное право соотносятся как общее и частное. Глобальные правила человеческого бытия определяются естественным правом, а нормы конкретного межличностного взаимодействия регламентируются позитивным.
Далее правомерно поднять вопрос о формах и обстоятельствах, в которых реализуется последнее. Поскольку позитивное право возникает в рамках человеческих взаимоотношений, справедливо предположить, что формы его существования так же многообразны, как и форматы, а также типы социальных взаимодействий. Можно предположить, что любое из них сопровождается реализацией позитивного права. Однако оно вряд ли регулирует взаимодействия вообще, скорее, регламентирует социально значимые и повторяющиеся контакты, имеющие значение для общества в целом. Это означает, что существует особая форма бытия позитивного права в его отношении к человеческим взаимоотношениям. Такой формой мы предлагаем считать практику.
Практики и естественное право . Практики формируют социальную (в том числе и правовую) реальность, но в то же время являются результатом социального конструирования. Такой позиции придерживается, в частности, П. Бурдье (2001).
В психологии для раскрытия индивидуального аспекта нормы использовалось понятие ин-териоризации, под которым понимался процесс, в ходе которого норма становится из внешнего и навязанного внутренним и принятым регулятором поведения. Понятие интериоризации было описано российским и советским психологом Л.С. Выготским (1960). Оно не касалось юридических норм и характеризовало исключительно процесс принятия социальных норм как регуляторов поведения, однако можно утверждать, что юридические нормы в той же степени являются социальными, как и любые другие. И сам процесс усвоения юридической нормы и включения её как регулятора поведения аналогичен социальной норме в широком смысле – сначала она регламентирует поведение, будучи внешней относительно действующего субъекта, затем она становится внутренней и начинает регулировать поведение субъекта.
Здесь также следует сказать, что интериоризация юридических норм происходит несколько иначе, чем усвоение правил поведения. Последние могут быть восприняты субъектом разнообразными способами: например, посредством изучения норм или через наблюдение. Юридические нормы для усвоения требуют специально организованных ситуаций, происходящих по определённым правилам. Они постоянно обсуждаются как в профессиональном сообществе, так и в социуме в целом. Это создаёт уникальную ситуацию, в которой юридическая норма существует не только в пространстве применения, но и в пространстве истолкования, то есть она имеет герменевтическую природу.
Отдельная личность обладает минимальными возможностями влияния на процесс истолкования нормы, но она при этом может определять её бытие, становясь носителем нормы и, более того, действуя в рамках нормы, организуя в соответствии с ней свою практику.
Практики также могут иметь непосредственное отношение к естественному праву. Такой точки зрения придерживается Н.В. Гуляихин: «Установки естественного права задают интенции профессиональному правосознанию. Законодателю они позволяют вырабатывать нормы позитивного права, которые не вызывают морально-правового отторжения у граждан. Критерии справедливости выступают здесь в качестве ценностных детерминант естественного права и позволяют придать достойный моральный облик и содержание юридическим законам, без которого они не будут позитивно восприниматься народом и быть положительным фактором правовой социализации» (Гуляихин, 2013).
Это означает, что у бытия нормы есть два аспекта. Один – тот, в котором она существует в герменевтическом смысле, истолковывается и уточняется. Этот аспект бытия правовой нормы социален. Второй – аспект применения. Он не является «несоциальным» в строгом смысле слова, поскольку норма имеет общественную природу, но как минимум этот аспект реализуется личностью в большей или меньшей степени индивидуально, что и определяет соответствующие особенности ее бытия.
Социальное в норме также задаётся через аксиологический аспект. Отдельным предметом полемики является вопрос о том, универсальны ценности или нет. Р. Дворкин, например, утверждает, что они адаптируются под культурные особенности социума, что означает существование различных систем ценностей, которые могут быть совместимы друг с другом в большей или меньшей степени (Dworkin, 1986).
Несколько иной позиции придерживается Р. Хардин, выделяющий в своей работе класс «универсальных норм», а иначе – основополагающих ценностей, которые одинаковым образом воспринимаются вне зависимости от культуры или устройства общества (Hardin, 1997). К ним исследователь относит честь, чувство вины и кровную месть. Это положение может быть дискуссионным, однако корректно утверждать, что позиция Р. Хардина отличается от позиции Р. Дворкина. Различие состоит в том, что концепция универсальных норм означает, что Р. Хардин признаёт существование нормативных систем (и, как следствие, социальных институтов), не зависящих от воли конкретного индивида. Он предполагает, что они обладают «метаобщественной» природой в том смысле, что являются естественными для каждой человеческой общности и потому не могут быть сведены к действиям конкретных личностей и социальных институтов. При этом возникает вопрос: как именно происходит формирование общих норм, если нет никакого общего пространства, общей практики, в которую были бы включены все участники взаимодействия?
Вероятный ответ на него предлагает в своих работах итальянский специалист по философии права Э. Бетти (Бетти, 2011; Betti, 1948; 1955). Центральная проблема, с его точки зрения, состоит в определении позиции интерпретирующего субъекта по отношению к объекту интерпретации или, иначе, в разграничении субъекта и объекта в рамках герменевтического процесса. Однако Э. Бетти решает ее опосредованно, обращаясь к более общему вопросу, который он формулирует следующим образом: как соотносится дух и объективность, как интерпретирующий дух соотносится с «идеальной объективностью» и в том числе с объективностью ценностей.
Исследователь основывает своё представление об объективности интерпретации именно на представлении о ценностях. Один из ключевых терминов в теории Э. Бетти – понятие репрезентативной или смыслосодержащей формы. Она представляет собой промежуточное звено между автором и толкователем его текста, через которое в герменевтическом процессе с нами взаимодействует объект интерпретации. С точки зрения Э. Бетти, репрезентативной формой можно назвать любой текст, произведение искусства или совокупность человеческих действий. С этой точки зрения, нормотворчество, как и любая другая практика, также может быть понято как «объективация духа» (Бетти, 2011).
Репрезентативная форма в представлении Э. Бетти рассматривается в двух аспектах: как индивидуальный продукт – она произведена человеком и с необходимостью отражает в себе те практики, в которые он был включён; как результат исторического процесса, и в этом смысле она имеет надындивидуальную природу и существует независимо от автора. Э. Бетти считает, что при истолковании в рамках герменевтического процесса необходима специальная работа для того, чтобы не привносить в репрезентативную форму чуждое содержание.
Философ также противопоставляет «идеальную» и «реальную объективность». Первая, по Э. Бетти, – сфера трансцендентных законов и отношений, в то время как вторая – данные опыта в самом широком смысле этого слова. При этом ценности, с точки зрения мыслителя, относятся к сфере «идеальной объективности», то есть они не следуют из опыта напрямую, а соотносятся с совокупностью опыта и знаний.
Таким образом, толкование юридических текстов представляет собой результат работы как общественного, так и индивидуального сознания, в том числе правосознания субъекта, осуществляющего такую деятельность. Такое толкование организовано в виде целого ряда взаимодействий, происходящих не только по поводу текстов, но и по поводу практик, регламентированных и описанных этими текстами.
При этом часто используемый как в философии права, так и в юриспруденции термин «интерпретация» также не является однозначным. Можно выделить как минимум два его понимания, о значимости разделения которых упоминает, в частности, Ю.А. Гаврилова в работе «Толковать нельзя интерпретировать»: «На наш взгляд, во всех названных случаях под единым термином “интерпретация” фактически отождествляются два разных понятия – “толкование” и “конкретизация”. Дело в том, что исходным пунктом смыслообразования в праве всегда является толкование, дополняемое в дальнейшей практике с помощью усмотрения, аналогии, субсидиарного правоприменения и других правовых средств. Они усиливают или ослабляют регулятивный потенциал толкования и, действуя в сочетании с ним и друг с другом, вызывают эффект состоявшейся конкретизации-“актуализации” во времени, которая и приводит к модификации существующего или конструированию нового смысла действующего законодательства. Следовательно, объединение столь сложных и разнородных операций в рамках понятия “интерпретация” значительно нивелирует специфику последних и создает предпосылки для их рассмотрения в качестве своеобразных «придатков» или видов интерпретации, что по отношению к этому технико-юридическому инструментарию было бы несправедливо» (Гаврилова, 2018: 86).
В указанной работе Ю.А. Гаврилова формулирует три базовых вывода:
-
1. Смысл права является единым понятием, сочетающим стабильные и динамические компоненты. Из этого следует, что искусственно противопоставлять семантически сходные термины «толкование» и «интерпретация» по этому основанию вряд ли целесообразно, поскольку последняя обозначает момент толкования либо явление, совпадающее с данным процессом по объему. Напротив, разграничение по указанному основанию семантически различных терминов «толкование» и «конкретизация» имеет свои предпосылки, но это является предметом отдельного обсуждения.
-
2. На уровне проблемы правопонимания термин «интерпретация» вполне может использоваться самостоятельно в значении доктринального толкования для построения общенационального смысла права. Но на уровне законодательства и юридической практики термин «интерпретация», как показывает судебная практика, должен использоваться параллельно с «толкованием» до степени их смешения (отождествления), но не как альтернативная замена. В противном случае каждый субъект может под видом интерпретации выдавать созданный им в процессе пра-вопонимания субъективный смысл права в целом за объективное содержание конкретных норм
-
3. В условиях глобализационных процессов ХХІ в. толкование права является важнейшим инструментом поддержания российской юридической идентичности, сохранения наработок и достижений отечественной правовой теории, в рамках которой понятие толкования всегда имело и продолжает сохранять ключевое и фундаментальное значение (Гаврилова, 2018: 87–88).
законодательства или положений юридической практики и на этом основании утверждать в постмодернистском духе, что его субъективный образ – это и есть «истинное» право, что в условиях российской действительности нельзя признать верным.
В работе Ю.А. Гавриловой поднимается проблема смысла права. Она является традиционной для рассматриваемой отрасли философии. Идея содержания нормы связана с определением различных источников права, которые, как предполагается, могут влиять на смысл юридических норм. Среди них часто выделяют естественное и позитивное право, которые в философии рассматриваются как два связанных и взаимопроникающих, но генетически различных процесса, онтологически определяющих бытие права.
Двойственность интерпретации такой нормы порождает сложности правоприменения, связанные с тем, что буквальное ее истолкование оказывается потенциально дефицитарным, и субъекту необходимо обращаться к источникам естественного права для уточнения смысла и значения норм: «В практической плоскости данные особенности выражаются в том, что юристу в процессе исследования нормативного акта иного периода либо иной правовой системы недостаточно уяснить буквальное значение текста, в котором сформулированы правовые нормы. Существует необходимость в уяснении содержания с учетом конкретных исторических, культурных, политических и иных особенностей, характеризующих общество, в котором возникли отношения, подлежащие регулированию данным нормативным актом» (Малякова, Маликова, 2020: 153).
Решать обозначенную проблему предлагается именно при помощи герменевтического подхода: «В условиях многозначности текста нормативного акта, когда он обусловлен рядом контекстов (историческим, духовным, экономическим и др.), применения формальной юридической логики для понимания его значения явно недостаточно. Интерпретация, составляющая основу герменевтического метода, определяемая как толкование текста, и понимание, трактуемое в широком смысле как постижение знаков, составляют как бы две стороны одной медали. Ведь сама работа по интерпретации призвана преодолеть дистанцию, отделяющую читателя от чуждого от него текста, чтобы поставить его на один культурный (информационный) уровень с автором текста и таким образом включить смысл этого текста в понимание читателя» (Малякова, Маликова, 2020: 154).
В работе А.А. Маляковой и А.Х. Маликовой также приведены возражения против применения герменевтического подхода в этом случае. Среди них:
-
1. Отсутствие чёткой методики анализируемого метода, то есть совокупности взаимосвязанных этапов (стадий) и правил его применения. Любой метод предполагает известную последовательность действий на основе чёткого осознаваемого артикулируемого, контролируемого, идеального плана в самых различных видах познавательной и практической деятельности в обществе и культуре. Степень этой осознанности и контроля может быть различной, но так или иначе осуществление деятельности на основе того или иного метода предполагает сознательное соотнесение способов действия субъектов данной деятельности с реальной ситуацией.
-
2. Сложность дифференциации герменевтического метода и методов толкования права, в частности, исторического (историко-политического, историко-целевого), применение которых направлено на выявление истинной воли законодателя, выраженной в том или ином юридическом источнике права.
-
3. Отсутствие единообразного подхода к пониманию толкования и интерпретации как составных элементов герменевтики, а также их соотношения между собой (Малякова, Маликова, 2020: 154–155).
Обратим внимание на второе возражение, которое представляет для нас особый интерес в контексте целей и задач данной статьи. Оно фактически воспроизводит экзегетическую традицию и основывается на том, что существует истинная воля законодателя или подлинный смысл закона, который надлежит установить. Мы не можем согласиться с этим возражением, потому что в современном обществе правовой текст является не столько трансляцией воли законодателя, сколько поводом для организации социального взаимодействия и конструирования.
Сказанное не отменяет того факта, что собственно толкование правовой нормы может руководствоваться определённым набором правил. В настоящем исследовании мы обсуждаем герменевтику не столько как набор процедур, ведущих к определённому результату, сколько как метатеорию права, в рамках которой основание и результаты истолкования и интерпретации имеют сопоставимую ценность и рассматриваются совокупно.
Заключение . Подведём итог. Социальная природа практик означает, что субъектом практики является не только индивид, но и профессиональное сообщество, которое находится одновременно в процессе реализации норм и их рефлексии.
Следовательно, природа субъекта правосознания изменяется потому, что оно обеспечивает не только применение, но и адаптацию нормы, а процесс истолкования последней в ходе социального взаимодействия приобретает особую значимость. Сформулируем выводы.
-
1. Проблема субъекта в правовой герменевтике связана с социальной природой сознания человека, занимающегося истолкованием норм.
-
2. Трактовка норм становится возможной благодаря пространству практик, где нормы, с одной стороны, совершенствуются и применяются, а с другой – постоянно обсуждаются и ре-флексируются, являясь основаниями для профессиональной деятельности.
-
3. Происходит трансформация процедур толкования норм от установления подлинного их смысла (характерного для экзегетики) к бытию нормы в процессе истолкования и понимания, принятого в современной герменевтической традиции.
-
4. Субъект правосознания не только интериоризирует и применяет норму, но и формирует ее в процессе социального взаимодействия и истолкования. Происходит изменение природы субъекта правосознания от индивидуализированной к коллективной и распределённой, участвующей в истолковании нормы, тем самым создающей и поддерживающей бытие правовой нормы.
Список литературы Субъект правосознания: социально-философский анализ
- Бетти Э. Герменевтика как общая методология наук о духе. М., 2011. 143 с.
- Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001. 562 с.
- Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. Из неопубликованных трудов. М., 1960. 500 с.
- Гаврилова Ю.А. Толковать нельзя интерпретировать // Legal Concept. 2018. № 3. С. 83-90.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М., 1988. 704 с.
- Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права. М., 1994. 867 с.
- Гуляихин В.Н. Диалектика естественного и позитивного права как источник общественно-правового прогресса // Юридические исследования. 2013. № 3. С. 221-238.
- Дюркгейм Э. Метод социологии. Киев; Харьков, 1899. 153 с.
- Кутырев В.А. Обретение и утрата человека в контексте философской антропологии // Личность. Культура. Общество. 2001. Т. 3, № 3 (9). С. 68-78.
- Левин В.И. Философия, логика и методология науки. Пенза, 2010. 66 с.
- Малинова И.П. Философия права и юридическая герменевтика. Екатеринбург, 2017. 200 с.
- Малякова А.А., Маликова А.Х. Отдельные проблемы юридической герменевтики // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 10-3 (49). С. 153-155. https://doi.org/10.24411/2500-1000-2020-11187.
- Ролз Д. Теория справедливости. М., 2010. 536 с.
- Ташкин А.В. Соотношение общественного и индивидуального в познании прошлого: исторический опыт и интерпретация в герменевтике Х.-Г. Гадамера // Социальные явления. 2018. № 1 (8). С. 22-29.
- Храпов С.А. Индивидуальное и общественное сознание: гносеологические и онтологические аспекты взаимодействия // Nomothetika: Философия. Социология. Право. 2009. № 8 (63). С. 200-206.
- Betti E. Le Categorie Civilistiche Dell' Interpretazione // Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche. 1948. № 55. Р. 34-93. (на итал. яз.)
- Betti E. Teoria Generale Delia Interpretazione. Milano, 1955. 1113 р. (на итал. яз.)
- Dworkin R. Law's Empire. Cambridge, 1986. 470 p.
- Hardin R. One for All: The Logic of Group Conflict. Princeton, 1997. 288 р. https://doi.org/10.1515/9781400821693. References:
- Betti, E. (1948) Le Categorie Civilistiche Dell' Interpretazione. Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche. (55), 34-93. (In Italian)
- Betti, E. (1955) Teoria Generale Delia Interpretazione. Milano. 1113 р. (In Italian)