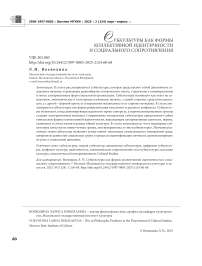Субкультуры как формы коллективной идентичности и социального сопротивления
Автор: Воеводина Л.Н.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (124), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются субкультуры, которые представляет собой динамичное социальное явление, отражающее разнообразие человеческого опыта, стремление к самовыражению и поиск альтернативных форм социальной организации. Субкультуры возникают как ответ на социальные, экономические и культурные изменения, являясь, с одной стороны, средством адаптации, а с другой – формой протеста и выражения независимости со стороны молодежи. В статье анализируются субкультуры как форма репрезентации классового и расового конфликта. Субкультуры возникают, когда доминирующая идеология теряет контроль, а маргинализированные группы создают альтернативные значения. Современные молодежные субкультуры представляют собой уникальные формы коллективной идентичности, выражающие альтернативные ценности, нормы, символику и стили жизни в рамках общей культуры. В статье показывается, что в медиасреде субкультуры зачастую не имеют четких границ, они превратились в «постсубкультуры». Изучение различных типов субкультур позволяет лучше понять механизмы социализации в молодежной среде, конфликты ценностей социальных групп и процессы идентификации личности, проанализировать их роль в социальной динамике.
Субкультуры, теория субкультур, девиантные субкультуры, цифровые субкультуры, конфликт культур, идентичность, символическое сопротивление, постсубкультуры, массовая культура, символический интеракционизм, Cultural Studies
Короткий адрес: https://sciup.org/144163441
IDR: 144163441 | УДК: 301.085 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-2124-60-68
Текст научной статьи Субкультуры как формы коллективной идентичности и социального сопротивления
В современном обществе с высокой степенью социальной, политической, культурной и технологической сложности и дифференциации, субкультуры приобретают всё большее значение, поскольку являются важными элементами социальной структуры. Необходимость изучения субкультур обусловлена их возрастающим влиянием на процессы социализации, трансформации ценностных систем и формирования новых социальных реальностей, особенно в молодежной среде. Понимание природы субкультурных движений необходимо для комплексного анализа современных социальных процессов, изучения конфликтов поколений, глобализационных тенденций, а также проблем, связанных с социальной интеграцией и маргинализацией. Современные субкультурные движения вызывают особый интерес с учетом появления новых форм коммуникации в условиях цифровизации общества, которая ведет к масштабным социокультурным трансформациям.
Субкультуры формируются вокруг общих интересов, возрастных групп, профессиональных сфер или как формы протеста против господствующих социальных порядков. Понятие «субкультура» и соответствующие исследования в зарубежной социологии появились в начале XX века. Им обозначали культуры групповых сообществ в рамках изучения городской среды и девиантного поведения, которые радикально отличались от доминирующей культуры в условиях стремительной урбанизации Америки. Большую роль в системном исследовании субкультур сыграла Чикагская школа социологии (1910– 1940-е годы), представители которой изучали девиантные субкультуры, маргинальные группы – иммигрантов, преступные сообщества, жителей трущоб. Представители данной школы использовали методы включенного наблюдения за бандами и мигрантами, проводили социальное картографирование с целью визуализации распределения преступности этнических групп и девиантных сообществ по районам Чикаго, анализировали личные документы: письма, дневники, автобиографии, проводили интервью и так далее.
В частности, Уильям Томас и Флориан Знанецкий изучали процессы миграции в Америке на примере жизни семей польских крестьян, переехавших в нее. В книге «Польский крестьянин в Европе и Америке» (1918–1920), изданной в пяти томах и ставшей классикой социологии, они продемонстрировали, что иммигрантские сообщества вынуждены эволюционировать и адаптироваться в новых условиях миграции и индустриализации. Возникновение субкультуры мигрантов они связали с ослаблением влияния общественных норм в условиях миграции и новой индустриальной среды, что повлекло за собой переориентацию взаимоотношений в семье, дезорганизацию индивидов и всей группы. На этом фоне формируются девиантные формы поведения, а также собственные нормы в ответ на невозможность интеграции в доминирующую культуру [21].
Сходные идеи принадлежали американскому криминологу и социологу Альберту Коэну, который в 1955 году ввел понятие «делинквентной субкультуры». Это группы, которые формируют альтернативные ценности в ответ на недостижимость общественного успеха [12]. Он утверждал, что, несмотря на существование в американском обществе двух отдельных классовых ценностей (среднего и низшего класса), ценности среднего класса являются доминирующими. Представители низшего класса принимают эти ценности и даже стремятся к ним. Однако, не имея равных шансов на успех и сталкиваясь с неудачами в школьной системе, они переходят к делинквентной системе ценностей, а также – к повышению своей самооценки в рамках делинквентной шайки.
Ведущие представители Чикагской школы социологии Роберт Парк и Эрнст Бёрджесс считали, что субкультуры возникают как реакция на социальную дезорганизацию, а именно – распад традиционных норм в ус- ловиях урбанизации, миграции, экономического неравенства, а также нарастания социальной напряженности между различными социальными слоями [18]. Формирование субкультур происходит для выживания, адаптации маргинальных групп в городской среде.
Их подход был основан на концепции «человеческой экологии», город рассматривался ими по аналогии с природными экосистемами, как сложная структура, в которой различные группы населения вырабатывают собственные культурные формы в ответ на давление социальных изменений. Бёрджесс вводит понятие «зоны переходов». Например, в Чикаго 1920-х годов это районы с высокой мобильностью населения, где отсутствовала устойчивая социальная структура. Именно в таких условиях начинают создаваться делинквентные субкультуры (этнические анклавы, банды) как способ выживания, город становился местом формирования маргинальных преступных субкультур. Для «зон переходов» характерна высокая мобильность населения, плохие условия жизни, неустойчивые связи между индивидами, что приводит к формированию девиантных субкультур [18, p.55]. Таким образом, Бёрджесс продемонстрировал роль пространства в возникновении субкультур. Он показал, что субкультуры концентрируются в транзитных зонах, в которых высока плотность трущоб и отсутствует социальный контроль. В таких местах, зонах появляются криминальные субкультуры.
Иммигранты, не способные интегрироваться в доминирующую культуру, создают замкнутые сообщества с собственными нормами. Исследуя типы социального взаимодействия, Р. Парк выделяет такие, как конкуренция, конфликт, аккомодация и ассимиляция. Субкультуры возникают на стадии, когда конкуренция сменяется конфликтом, а группы осознают свои противоречия с обществом. Так появляются бандитские субкультуры. Парк, в частности, полагал, что конфликт культур порождает новые формы социальной жизни, а современный город – это социальная лаборатория, где это можно наблюдать. Он рассматривал субкультуры как естественный результат конкурентной борьбы за городские ресурсы [18, p.15]. Субкультуры возникают там, где старые связи разрушены, а новые еще не сложились.
Луис Вирт изучал еврейские и афроамериканские кварталы, он считал, что они представляют собой субкультурные образования, которые возникают под воздействием дискриминации и изоляции. Они интерпретировались им как продукты социального неравенства и пространственной сегрегации (например, гетто) [23]. Клиффорд Шоу, Генри Маккей исследовали делинквентные субкультуры с помощью теории социальной дезорганизации. Они рассматривали субкультуры как ответные реакции на маргинализацию и социальные противоречия в американском обществе [19].
Несмотря на значимость, теории Чикагской школы подвергались критике за «экологический детерминизм», то есть за преувеличение роли среды в ущерб индивидуальному выбору, недооценку агентности акторов, ограниченность применения в современных условиях. Тем не менее идеи Чикагской школы легли в основу многих современных исследований городских субкультур, в частности, Бирмингемской школы и исследований цифровых субкультур – онлайн-сообществ, которые представляют собой способ адаптации к цифровому неравенству.
Важно отметить, что субкультуры не существуют в полном отрыве от основной культуры, они взаимодействуют с ней, либо интегрируясь в социальные структуры, либо вступая в конфликт с ними. Британские исследователи Центра современных культурных исследований в Бирмингеме 1950–1970-х (Стюарт Холл, Дик Хэбдидж) заимствовали методы полевых исследований, но сместили фокус на сопротивление, протест субкультурного движения против доминирующей культуры. Они подчеркивали, что субкультуры являются выражением скрытых противоречий и борьбы за символическую власть.
В частности, одним из теоретиков британской школы культурных исследований (Cultural Studies) являлся Стюарт Холл, работы которого изменили понимание субкультур, идеологии и культурной идентичности [14, 15]. Он возглавлял Центр современных культурных исследований в Бирмингемском университете (1964–1979). Его подход к изучению субкультур сочетал марксистскую критику, теорию гегемонии Антонио Грамши, идеи Альтюссера и семиотический анализ. Идеология у Холла – не ложное сознание, а система репрезентаций, конструирующих социальную реальность. Субкультуры возникают в моменты кризиса гегемонии, когда доминирующий порядок теряет устойчивость.
В отличие от Франкфуртской школы, которая рассматривала массовую культуру как инструмент манипуляции, Холл и его коллеги видели в ней поле борьбы за значения и власть. Холл отвергал упрощенное противопоставление «высокой» и «массовой» культуры (характерное для Франкфуртской школы). Вместо этого он рассматривал массовую культуру как арену конфликта, где доминирующие группы навязывают значения, а подчиненные – переосмысливают или сопротивляются им. Массовая культура не просто является ареной для манипуляций, но позволяет маргинализированным группам выражать протест (например, через музыку, моду и т. д.).
Холл предложил динамичную модель исследования молодежных и маргинальных групп, показывая, что субкультуры связаны с властными отношениями и являются практиками сопротивления. Например, молодежные субкультуры (панки, моды, скинхеды) интерпретируются им не просто как девиантные группы, а как формы символического сопротивления доминирующей идеологии, которые с помощью музыки, ритуалов и оригинального стиля создают в обществе альтернативные значения, бросая вызов социальным нормам. Панк-культура возникла, по его мнению, как реакция на экономический кризис 1970-х в Британии. Через эстетику разрушения выражался протест против тэтчеризма. Расовые субкультуры, ямайские руд-бои в Великобритании, демонстрируют, как этнические меньшинства используют культуру для борьбы с расизмом. Холл рассматривал субкультуры, используя концепцию артикуляции – временного сочленения идей, практик и идентичностей. Он подчеркивал изменчивость и контек-стуальность культурных форм.
В работе «Кодирование/декодирование» (1980) Холл показывает, как субкультуры переосмысливают медийные сообщения [15]. Он доказывает, что аудитория не пассивна, она интерпретирует медиатексты, то есть может принимать господствующую идеологию (доминантное прочтение), частично принимать ее с оговорками и вести переговоры (согласованное прочтение), или сопротивляться (оппозиционное прочтение). Например, субкультуры могут интерпретировать по-своему символы массовой культуры.
Теории Холла легли в основу визуальных исследований, в частности, при анализе субкультурного стиля как «текста» (например, в работах Д. Хэбдиджа о панках), и Интернет-исследований (концепция артикуляции применяется к цифровым сообществам, где идентичности формируются через онлайн-практики), а также в постколониальных исследованиях. Идея «диаспорической идентичности» Холла помогает анализировать гибридные культуры мигрантов. Несмотря на новаторство, подход Холла подвергался критике за «романтизацию сопротивления», поскольку не все субкультуры политически радикальны, а также его критиковали за недооценку глобального контекста (например, японские субкультуры развивались иначе, чем британские).
Холл анализировал субкультуры через призму классового и расового конфликта. Субкультуры возникают, когда доминирующая идеология теряет контроль, а маргинализированные группы создают альтернативные значения. Молодежные субкультуры – моды, скинхеды – интерпретируются, как формирования, возникающие от стремления рабочего класса символически преодолеть социальное отчуждение. Таким образом, Холл показал, что массовая культура и субкультуры не пассивные продукты системы, а динамичные пространства борьбы за смыслы. Его подход остается фундаментальным для исследований медиа, молодежных движений и культурной идентичности. С. Холл предложил модель изучения субкультур как динамичных, конфликтных и семиотически насыщенных явлений. Его работы остаются актуальными для анализа современных культурных практик – от уличного активизма до цифровых сообществ. Поздние исследователи (например, Сара Торнтон) отмечали, что не все субкультуры политически радикальны. Бирмингемская школа уделяла большое внимание процессам глобализации культуры, поскольку современные субкультуры (например, кей-поп, фэндом) невозможно объяснить с помощью классового конфликта.
Британский социолог, культуролог, искусствовед и исследователь медиа Дик Хэбдидж в книге «Субкультура: значение стиля» (1979) предложил анализ британских молодежных субкультур, рассматривая их стиль как символическое сопротивление мейнстриму буржуазного общества [16]. Его подход сочетал в себе элементы неомарксизма, семиотики и культурных исследований. Он выделяет музыкальные субкультуры (панк, регги), в которых стиль одежды, сленг и поведение становятся «кодом» противостояния доминирующей культуре. Он анализирует субкультуры маргинализированных групп, считая, что их формирование связано с социальным неравенством; например, растаманы рассматриваются им как своеобразный ответ на расизм.
Хэбдидж интерпретирует субкультуры как «знаковую практику», систему символов, в которой стиль одежды, музыки, языка становится инструментом коммуникации и сопротивления, формой семиотической партизанской войны. Обычные предметы (булавки, кожа, цепи) панки, используют как знаки протеста против конформизма. Они составляют своеобразный специально сконструированный культурный текст, который распознается как вызов общественным нормам и символ агрессии.
Хэбдидж подчеркивает влияние расовых и классовых конфликтов на формирование субкультур. Например, панк-культура заимствует элементы ямайского регги, что отражает антагонизм между белыми рабочими и черными иммигрантами в Великобритании 1970-х. Панк – это перформанс отчаяния, бунта и нарушение табу, прославление анархии. Ирокез прочитывается как визуальный вызов общественным нормам, метафора «разрыва» с обществом. Хэбдидж показывает, как субкультуры эволюционируют от модов 1960-х, элегантность которых выражала протест против рабочей среды, до скинхедов, чья гипермаскулинность являлась ответом на расовую дискриминацию.
Теорию Хэбдиджа упрекали в преувеличении роли стиля и недооценке других факторов, в частности, экономических, например, безработицы среди молодежи. Его идеи легли в основу исследований цифровых субкультур (например, анализа мемов, как современных «булавок»).
С течением времени понимание субкультуры значительно расширилось. В современных теориях, таких как концепция «постсубкультур» Сары Торнтон, делается акцент на фрагментарность, изменчивость и сетевой характер субкультурных объединений в условиях глобализации и развития цифровых технологий. В работе «Клубные культуры: музыка, медиа и субкультурный капитал» (1995) Торнтон развивает идеи Бурдье, применяя концепцию «субкультурного капитала» к рейв- и клубным сценам 1990-х [22].
Она обращает внимание на иерархию внутри субкультур, в которых статус определяется знанием редкой музыки или эксклюзивных мест. Ею исследуются медиати-зированные субкультуры и роль СМИ в их формировании, например, готическая сцена, популярность которой связана с трансляцией в журналах и кинофильмах. Торнтон выделяет временные и устойчивые субкультуры, например, эмоко быстро исчезают, другие, металлисты, сохраняются десятилетиями.
В книге Торнтон исследуются сложные иерархии в сфере массовой культуры на примере молодёжных субкультур, сконцентрированных вокруг британских и американских танцевальных клубов и рейвов. Она изображает клубные культуры как «культуры вкуса», объединённые такими микромедиа, как листовки и афиши, и превращенные в субкультуры нишевыми СМИ, например, музыкальной прессой. Опираясь на работу Пьера Бурдье, Торнтон использует термин «субкультурный капитал», чтобы осмыслить особенности клубных культур, отмечая пренебрежение их носителей к «мейнстриму», в противовес которому они измеряют свою альтернативную культурную ценность.
Бурдье не занимался напрямую субкультурами, но его теории поля, габитуса и символического насилия легли в основу их анализа [2; 3]. Социальные поля – субкультуры возникают в конкурентных пространствах и разворачивают борьбу за символический капитал. Под габитусом понимаются устойчивые практики, формирующие идентичность, например, стиль го ́ тов является воплощением их мировоззрения. Субкультуры отражают классовые различия; так, богемные хипстеры противостоят рабочим скинхедам. Современные процессы глобализации и цифровизации способствуют размыванию границ традиционных субкультур. Торнтон отмечает, что субкультуры в условиях сетевого общества становятся более изменчивыми, гибкими и ситуативными, что приводит к феномену «постсубкультур» [22].
В символическом интеракционизме, возникновение которого связано с Дж. Г. Мидом и Г. Блумером, субкультуры рассматриваются как динамичные системы символов, возникновение которых связано с взаимодействием их участников [6; 1]. Эти символы, визуальные маркеры, в качестве которых выступает язык, не только отличают субкультуры от доминирующей культуры, но и служат инструментами конструирования культурной идентичности и групповой солидарности. Уникальные языковые коды и визуальные маркеры позволяют выделить членов субкультуры из общей городской среды. Субкультурные символы – это не просто атрибуты, а продукты коллективного творчества, которые постоянно переосмысливаются. Субкультуры отличаются групповыми ценностями и их внешним выражением в речи – сленге, стиле одежды, символике. Так, например, готы используют символы смерти (кресты), своеобразную лексику – «тьма», «траур», одежду черного цвета. Общие ритуалы и практики – это совместные действия (концерты, тусовки, онлайн-взаимодействия), которые укрепляют групповую идентичность. Например, «мотоциклетные слеты» у байкеров, создание артефактов-мемов в цифровых субкультурах. Мид утверждал, что человеческое поведение определяется не столько внешними стимулами, сколько значениями, которые люди придают объектам и действиям. Значимые символы, например, язык, жесты, мода, позволяют людям координировать свои действия, поскольку вызывают схожие реакции у участников взаимодействия [6].
Г. Блумер систематизировал идеи Мида, он считал, что люди действуют на основе значений, которые они придают объектам (например, субкультурные атрибуты – одежда, музыка – несут социальный смысл). Значения возникают в социальном взаимодействии (например, скинхеды или панки создают свои символы через групповые практики). Значения могут изменяться через интерпретацию, субкультуры могут переосмысливать символы доминирующей культуры, изменяя их смысл [1].
И. Гофман изучал, как субкультуры конструируют «сцены» – пространства для демонстрации своей идентичности: это определенные клубы и интерьеры, специфическая музыка, дресс-код [5]. Онлайн-платформы также выступают как виртуальные «сцены» для самопрезентации. Гофман полагал, что субкультурные сцены – это театр, где участники исполняют роли, используя костюмы и декорации, а также специфические места для встреч. Символический интеракционизм упрекают в недооценке структурных факторов, таких, как экономические факторы, классовое неравенство, которые влияют на формирование субкультур. Тем не менее интеракционизм успешно применяется для изучения цифровых субкультур, например, мемыов, где символы продуцируются в онлайн-взаимодействиях.
В 1980–2000-е годы формируются постсубкультурные теории. Цифровые субкультуры – мем-сообщества, эмодзи, киберпанк, виртуальные аватары – функционируют как новые символы. Для данных субкультур характерна гибридность, которая проявляется в смешении символов и идентичностей; например, K-pop фанаты сочетают корейские и западные культурные коды. Субкультуры больше не имеют четких границ, они превратились в «постсубкультуру». Возникают временные, гибкие сообщества – фан-груп-пы, клубные тусовки, а влияние глобализации и интернета размывает локальные субкультуры. Появляются микросубкультуры, которые занимают узкие ниши (например, cottagecore, dark academia).
Таким образом, субкультуры представляют собой сложный и многогранный феномен, отражающий разнообразие форм социальной организации, протеста, самовыражения и культурного творчества в современном обществе. Они не только позволяют отдельным индивидам и группам отстаивать собственную идентичность в условиях массовой культуры, но и способствуют динамике социальных изменений. Анализ субкультур показывает, что они выполняют важные функции социализации, интеграции, инновации и выражения протеста. Молодёжные, музыкальные, спортивные, сетевые, этнические и протестные субкультуры демонстрируют разнообразные способы взаимодействия с доминирующими нормами общества, нередко оспаривая их и предлагая альтернативные ценности.
Проблемы и вызовы, связанные с субкультурами – это маргинализация и стигмати- зация со стороны доминирующей культуры, угроза утраты аутентичности в условиях массовой культуры и коммерциализации, глобализация и стирание локальной субкультурной специфики.
Субкультуры играют двойственную роль, способствуя как социальной интеграции, так и конфликту. Глобализация усилила обмен культурными образцами между различными регионами мира, что привело как к широкому распространению субкультурных практик, так и к их локальной адаптации и гибридизации. Новые формы субкультур, особенно киберсубкультуры, свидетельствуют о транс- формации процессов социализации в условиях цифровой эпохи.
Изучение различных типов субкультур позволяет лучше понять механизмы социализации в молодежной среде, конфликты ценностей социальных групп и процессы идентификации личности, проанализировать их роль в социальной динамике. Субкультуры остаются неотъемлемой частью современного социокультурного ландшафта, служат индикаторами социальных напряжений, источниками культурных новаций и аренами для формирования новых моделей коллективной идентичности.