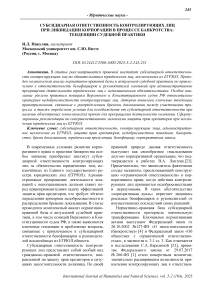Субсидиарная ответственность контролирующих лиц при ликвидации корпорации в процессе банкротства: тенденции судебной практики
Автор: Никулин И.Л.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 5-2 (104), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается правовой институт субсидиарной ответственности контролирующих лиц по обязательствам юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ. Проведен комплексный анализ нормативно-правовой базы и актуальной судебной практики по привлечению к ответственности бенефициаров и руководителей компаний при административном прекращении деятельности юридических лиц с непогашенными обязательствами. Особое внимание уделено правовым позициям Верховного и Конституционного судов РФ относительно критериев недобросовестности контролирующих лиц. Автором выявлены ключевые тенденции правоприменения, связанные с распределением бремени доказывания между участниками процесса, а также определены условия для освобождения от субсидиарной ответственности при наличии объективных экономических причин для прекращения деятельности компании. Сформулированы рекомендации по совершенствованию механизма защиты прав кредиторов при исключении юридических лиц из ЕГРЮЛ.
Субсидиарная ответственность, контролирующие лица, административное исключение из ЕГРЮЛ, защита прав кредиторов, недобросовестное поведение, банкротство, бремя доказывания, юридическая презумпция, бенефициар, корпоративная завеса
Короткий адрес: https://sciup.org/170209373
IDR: 170209373 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-5-2-245-251
Текст научной статьи Субсидиарная ответственность контролирующих лиц при ликвидации корпорации в процессе банкротства: тенденции судебной практики
В современных условиях развития корпоративного права и практики банкротства особое значение приобретает институт субсидиарной ответственности контролирующих лиц за обязательства юридических лиц, исключённых из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Административное прекращение деятельности компаний с непогашенными долгами ставит перед правоприменителями задачу эффективной защиты прав кредиторов, что требует чёткого определения критериев недобросовестности и распределения бремени доказывания. В статье проводится комплексный анализ нормативноправовой базы и актуальной судебной практики, в том числе позиций Верховного и Конституционного судов РФ, а также выявляются ключевые тенденции и проблемные вопросы, связанные с привлечением к субсидиарной ответственности бенефициаров и руководителей исключённых из ЕГРЮЛ обществ.
Субсидиарная ответственность контролирующих лиц представляет собой особый вид гражданско-правовой ответственности, направленной на защиту прав кредиторов в ситуациях несостоятельности должника. По своей правовой природе данная ответственность выступает как своеобразное «наследование долгов» корпоративной организации, что подтверждается в работах В.А. Лаптева [23]. Примечательно, что законодатель фактически создал механизм, преодолевающий конструкцию «ограниченной ответственности» в корпоративном праве, когда действия контролирующих лиц признаются недобросовестными и неразумными. В таких обстоятельствах «корпоративная вуаль» перестает защищать реальных бенефициаров и руководителей от имущественных последствий своих решений.
Нормативно-правовая база субсидиарной ответственности претерпела значительную трансформацию. Ключевыми нормативными актами выступают Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4] и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», в частности п. 3.1 ст. 3. Как отмечается в исследовании С.А. Карелиной [21], принятие Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ [1] стало поворотным моментом, значительно расширившим возможности привлечения контролирующих лиц к ответствен- ности. Особую роль сыграл также Федеральный закон от 28.12.2016 №488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2], который усилил ответственность контролирующих лиц при административном исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.
Эволюция института субсидиарной ответственности демонстрирует устойчивую тенденцию к расширению как круга ответственных лиц, так и оснований привлечения к ответственности. По данным Федресурса, только за первое полугодие 2021 года к субсидиарной ответственности было привлечено 2460 лиц, что практически вдвое превышает аналогичный показатель 2020 года (1323 лица). Такая статистика свидетельствует о возрастающей роли данного института в защите прав кредиторов.
Понятие контролирующего лица в контексте банкротства характеризуется нормативной неопределённостью и постоянным расширением в правоприменительной практике. В соответствии с формулировкой, зафиксированной в Законе о несостоятельности [4], статус контролирующих приобретают субъекты, располагающие реальными возможностями влиять на решения должника. Показательно, что нормотворческий орган сознательно избегает ограничения данного понятия чисто формально-правовыми критериями, что, как подчеркивают Белясов С.Н. и Щербинина И.В., препятствует чрезмерному буквализму судебных инстанций при рассмотрении подобных споров, однако одновременно создает определенные сложности в правоприменительной деятельности [20]. Данный подход существенно расширяет возможности защиты прав кредиторов, позволяя привлекать к ответственности не только формальных, но и фактических руководителей предприятия.
Критерии определения контролирующих лиц детализированы в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации №53 [5], где выделяются основополагающие индикаторы: приобретение значимого имущественного комплекса должника, заключение экономически необоснованных соглашений, коммуникация с временными юридическими образованиями, применение документации, искажающей фактическое экономическое взаимодействие. При этом научное сообщество обоснованно акцентирует внимание на отсутствии четких количественных параметров «существенности» полученной выгоды, позволяющей классифицировать лицо как контролирующее, что представляет собой серьезный недостаток рассматриваемого судебного толкования. Особенно важным представляется то, что в отношении руководителей и ряда других лиц наличие контроля над должником презюмируется, что влечет перераспределение бремени доказывания.
Проблема привлечения к ответственности бенефициарных владельцев и «теневых директоров» выступает одним из наиболее сложных аспектов применения института субсидиарной ответственности. Как отмечает Орленко В., современная судебная практика демонстрирует тенденцию «проникновения в корпоративную структуру общества» с целью выявления конечных бенефициаров. Федеральная налоговая служба в информационном послании №СА-4-18/16148@ [6] применяет экспансивный подход к интерпретации оснований для квалификации субъекта как управляющего, включая разнообразные неофициальные межличностные взаимосвязи, а именно: совместную жизнь (фактические брачные отношения без юридического оформления), продолжительное профессиональное сотрудничество в рамках одной структуры (армейская либо административная деятельность). Эта позиция обусловлена стремлением предотвратить ситуации, когда недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности, по выражению Михневича А.В. и Оселедко А.Н., имеют возможность «поменять рисковую часть (обанкротив предыдущую) и продолжить ведение предпринимательской деятельности, не утратив активов» [24].
Приведение организации к финансовой несостоятельности является одним из фундаментальных правовых базисов для возложения дополнительной имущественной обязанности на руководящих субъектов. В соответствии с юридической позицией, сформулированной Высшей судебной инстанцией Российской Федерации в юрисдикционном акте от 30.09.2019 № 305-ЭС19-10079 [14], требуется не просто подтвердить неспособность хозяйствующего субъекта выполнять свои финансовые обязательства, но и доказать кау- зальную взаимосвязь между поведенческими паттернами (включая бездеятельность) координирующего лица и последующей экономической катастрофой управляемой структуры. Абрамов С.И. отмечает, что современная судебная практика смещает акцент с формальных признаков доведения до банкротства на оценку экономических рисков и финансовых показателей деятельности должника, акцентируя внимание на существенном ухудшении состояния имущественной массы. При этом суды всё чаще применяют доктрину исключительной возможности контролирующего лица предвидеть негативные последствия своих действий для имущественных интересов кредиторов [21].
Неподача заявления о банкротстве в установленный срок формирует самостоятельное основание ответственности руководителя должника. Особенностью этого основания выступает его формализованный характер -достаточно доказать факт неподачи заявления в установленный законом срок при наличии признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества. Как следует из определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 07.10.2019 № 307-ЭС17-11745(2) [12], размер ответственности в таком случае ограничивается теми обязательствами, которые возникли после истечения срока для подачи заявления. Примечательно, что закон устанавливает презумпцию вины директора, перекладывая на него бремя доказывания разумности своего поведения, что существенно усиливает позиции кредиторов и арбитражного управляющего в процессуальном аспекте.
Практика показывает, что руководители зачастую не могут вспомнить мотивы совершения действий либо предоставить подтверждающие документы в силу давности событий. Примечательно, что суды стали более гибко подходить к данному основанию, анализируя не только формальный факт непере-дачи документов, но и его влияние на возможность формирования конкурсной массы и степень затруднения работы управляющего, о чем свидетельствует определение ВС РФ от 11.11.2019 № 303-ЭС19-15056 [15].
Иные основания привлечения к субсидиарной ответственности включают в себя целый спектр недобросовестных действий, которые не подпадают под классические категории. Судебная практика, в частности определение ВС РФ от 15.02.2018 № 302-ЭС14-1472 [13], относит к таким основаниям создание фиктивного документооборота, вывод активов через цепочку аффилированных лиц, использование схем с применением фирм-«однодневок». При этом, как отмечает Чигар-ских А.Д., «для противодействия недобросовестным бизнес-моделям» суды всё чаще применяют доктрину «снятия корпоративной вуали», позволяющую привлекать к ответственности не только прямых, но и косвенных выгодоприобретателей от недобросовестных схем [28]. Показательно, что в контексте правоприменения Федеральная налоговая служба активно использует эти механизмы, что подтверждается растущей статистикой успешных случаев привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
Эволюция судебной практики по делам о субсидиарной ответственности наглядно демонстрирует смещение акцентов с формально-юридических критериев к экономически-содержательным. В частности, Верховный Суд РФ последовательно расширяет понимание круга контролирующих лиц. Показательно Определение ВС РФ от 31 марта 2016 г. по делу № 305-ЭС15-14197, А40-104595/2014, где суд согласился с возможностью признания Москалева М.В. фактически контролирующим лицом, несмотря на отсутствие формальных признаков контроля [11]. Москалев выступал одним из трех акционеров кипрской компании, которая через цепочку иностранных (включая офшорные) компаний и трастовые организации являлась участником общества. Примечательно, что инициатором признания себя «конечным бенефициаром» выступил сам Москалев М.В., что демонстрирует возможность использования статуса фактически контролирующего лица не только для привлечения к ответственности, но и для наделения корпоративными правами.
Практика нижестоящих судов конкретизирует критерии выявления фактического контроля. Так, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 21 марта 2018 г. № 18АП-278/2018 по делу № А76-9268/2014 [18] признал контролирующими лицами руководителей, использовавших подконтрольные компании для создания искусственной кредиторской задолженности. А Девятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 30 сентября 2016 г. № 09АП-44158/2016 по делу № А40-56167/16 сформулировал важные признаки фактического контроля: подотчетность номинальных руководителей реальному бенефициару и выполнение ими его указаний при совершении сделок [0].
Особенно интересная позиция содержится в Постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 апреля 2018 г. № 15АП-4017/2018 по делу № А53-8666/2016 [21], где суд признал контролирующим лицом бенефициара офшорной компании, использовавшего трасты для сокрытия своего реального контроля над имуществом должника. Как отмечает В.В. Косарева, использование трастов в России в период существования конструкции доверительной собственности часто применялось участниками обществ именно для перевода имущества в управление подконтрольных им лиц и сокрытия реального контроля над этим имуществом от кредиторов [25].
В вопросе распределения бремени доказывания наблюдается последовательное смягчение бремени для заявителей путем введения ряда презумпций. Однако судебная практика демонстрирует дифференцированный подход к их применению. В частности, Девятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 7 июня 2018 г. № 09АП-19432/2018, 09АП-19433/2018, 09АП-19435/2018 по делу № А40-35432/14 [19] указал, что презумпция выгоды (подп. 3 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве) должна применяться с учетом конкретных обстоятельств дела. В этом деле суд отказал в привлечении к субсидиарной ответственности лица, получившего имущество должника по рыночной цене, поскольку сделка носила реальный экономический характер и не свидетельствовала о наличии контроля над должником.
Вместе с тем, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 21 мая 2021 г. № 20-П [17] подчеркнул, что даже при наличии презумпций истец не освобождается от обязанности доказать «триаду» обстоятельств: противоправное поведение, вред и причинную связь между ними. Такой подход направлен на обеспечение баланса интересов всех участников гражданского оборота.
Институт привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц исключенного из ЕГРЮЛ общества, введенный Федеральным законом от 28.12.2016 № 488-ФЗ [2], вызвал ряд процессуально-правовых вопросов. Долгое время существовала неопределенность относительно подсудности таких споров. В 2017-2020 гг. компетенция суда зачастую определялась субъектным составом: при участии юридических лиц дела рассматривались арбитражными судами, а при участии физических лиц – судами общей юрисдикции. Окончательную точку в этом вопросе поставил Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 23 декабря 2021 г. № 46 [4], определив компетенцию арбитражного суда по рассмотрению данной категории споров.
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 18 мая 2015 г. № 10-П [16], рассматривая вопросы, связанные с исключением юридических лиц из ЕГРЮЛ, подчеркнул необходимость обеспечения прав кредиторов в условиях административной процедуры прекращения юридического лица. Это решение фактически предопределило последующее введение механизма квазибанкротной субсидиарной ответственности, став его идеологической основой.
Практика судов показывает, что при применении квазибанкротной субсидиарной ответственности возникает дискуссионный вопрос о том, что следует брать за точку отсчета для применения новых норм – дату заключения договора или дату исполнения обязательств. Логичным представляется подход, согласно которому определяющей считается дата исполнения каждого отдельного обязательства, поскольку общество имеет правовую возможность отказаться от исполнения договора в порядке ст. 450.1 ГК РФ.
Данный подход согласуется с позицией Верховного Суда РФ, выраженной в ряде определений (от 27.07.2022 № 310-ЭС22-11804 [10], от 20.12.2021 № 301-ЭС21-23669 [9], от 02.08.2021 № 305-ЭС21-11796 [8]), где подчеркивается, что контролирующие лица должны нести ответственность за осуществление хозяйственной деятельности при наличии долгов общества, которые заведомо не могли быть исполнены в условиях прекраще- ния юридического лица по административной процедуре.
Заключение
В результате проведённого исследования выявлены ключевые тенденции и проблемные аспекты применения института субсидиарной ответственности контролирующих лиц при исключении юридических лиц из ЕГРЮЛ. Анализ нормативно-правовой базы и судебной практики Верховного и Конституционного судов РФ подтверждает необходимость дифференцированного подхода к оценке добросовестности контролирующих лиц и разграничения бремени доказывания между сторонами. Особое значение приобретают презумпции, позволяющие смягчить нагрузку на кредиторов при обосновании недобросовестного поведения управленцев, однако они не освобождают истцов от обязанности доказать ключевые обстоятельства для привлечения к ответственности. Установлено, что датой отсчёта для применения норм о субсидиарной ответственности целесообразно считать момент исполнения обязательств, что соответствует позиции Верховного Суда РФ. Кроме того, подтверждена роль законодательства 2016-2017 годов в расширении возможностей привлечения контролирующих лиц к ответственности, что способствует повышению защиты прав кредиторов и снижению рисков злоупотреблений при административном прекращении деятельности компаний. В целом, совершенствование механизма субсидиарной ответственности требует дальнейшего развития правоприменительной практики и нормативных актов с учётом выявленных тенденций и рекомендаций, направленных на эффективное противодействие недобросовестным действиям в корпоративной сфере.