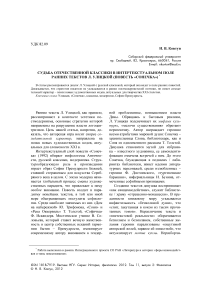Судьба отечественной классики в интертекстуальном поле ранних текстов Л. Улицкой (повесть «Сонечка»)
Автор: Ковтун Наталья Вадимовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается диалог Л. Улицкой с русской классикой, который она ведет в поле ранних повестей. Доказывается, что стратегия писателя не укладывается в рамки постмодернистской поэтики, но имеет созидательный характер - поиск новых художественных кодов, актуальных для творчества ХХI столетия.
Улицкая, "сонечка", классика, модернизм, софия-премудрость
Короткий адрес: https://sciup.org/14737739
IDR: 14737739 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Судьба отечественной классики в интертекстуальном поле ранних текстов Л. Улицкой (повесть «Сонечка»)
Ранние тексты Л. Улицкой, как правило, рассматривают в контексте эстетики постмодернизма, основные стратегии которой направлены на разрушение власти логоцен-тризмов. Цель нашей статьи, напротив, доказать, что авторская игра носит скорее созидательный характер , направлена на поиск новых художественных кодов, актуальных для словесности ХХI в.
Интертекстуалный слой повести «Сонечка» (1992) вбирает мифологемы Античности, русской классики, модернизма. Структурообразующую роль в произведении играет образ Софии Премудрости Божией, ставший стержневым для искусства Серебряного века в целом. С эпохи модерна начинается глобальный процесс смены художественных парадигм, что привлекает к нему особое внимание. Повесть входит в парадигму новейших текстов, в той или иной мере обыгрывающих постулаты софиоло-гии. Среди наиболее значимых из них «Дом на набережной» Ю. Трифонова, «Соня» и «Река Оккервиль» Т. Толстой, «Софичка» Ф. Искандера. Мистическое учение В. Соловьева, который ставит вечную женственность в центр собственных исканий гармонии бытия – Премудрости, импонирует современному автору вниманием к гендер- ной проблематике, возвышением власти Девы. Обращаясь к бытовым реалиям, Л. Улицкая подсвечивает их мифами культуры, «мелочи существования» обретают перспективу. Автор награждает героиню всеми атрибутами мировой души: Сонечка – хранительница Слова, библиотекарь, как и Соня из одноименного рассказа Т. Толстой. Девушка становится музой для избрани-ка – известного художника, ее самоидентификация означена встречей с ним. До этого Сонечка, блуждающая в подвалах / лабиринтах библиотеки, живет идеями литературных персонажей, среди излюбленных – героини Ф. Достоевского, «тургеневские барышни», инфернальницы И. Бунина, отмеченные софийными признаками.
Создание текстов девушка воспринимает «как священнодействие», служит библиотеке / храму «отрешенно-монашески». В преданности книжному миру угадывается инфантильность «безмолвной души», что «спит, закутанная в кокон из тысяч прочитанных томов». Неразличение текста и «внетекстовой реальности» оборачивается безволием и безмолвием, собственные желания героини парализованы «ощутимой авторской волей, заранее ей известной», что актуализирует мотив куклы. Неразборчи- вость книжных пристрастий Сонечки сближает ее образ с кукольными фигурками Бенедикта и Оленьки-душеньки из романа Т. Толстой «Кысь» [Ковтун, 2009].
Несамодостаточность духовного бытия героини Л. Улицкой обнаруживается уже в самом имени: не Соня – только Сонечка, не Душа – только душечка, в деталях портрета. Девушка напоминает ожившую марионетку, нелепо собранную из разных частей: «долговязая, широкоплечая, с сухими ногами и отсиделым тощим задом». Юная Сонечка и влюбляется в одноклассника, отличного «кукольной мордочкой», их роман окружающие воспринимают как «интересный аттракцион». Из этого пространства балаганчика героиню выводит случай – явление мастера. Встреча становится инициацией для обоих: Сонечка оставляет книжный мир, ее избранник – Роберт Викторович – рассматривает случившееся как «свершение судьбы». В глазах мастера возлюбленная предстает в образе огненной Софии-Богородицы, освещенной «огнедышащим светом керосиновой лампы, в неровном мерцающем облаке», пространство окрест матери, кормящей младенца, кажется «тропическим райским садом».
Душевное пробуждение героини оказывается, однако, недолгим, плен библиотеки сменяет строгий домашний ритуал. Весь свой «непознанно-религиозный пыл» иудейка Сонечка вкладывает в домашние заботы, духовный «верх» потеснен образом гротескного «низа». И чем настойчивее ее заботы о близких, тем неизбежнее их разрыв с ней: жизнь Роберта Викторовича перемещается в мастерскую, дочь уезжает в Петербург. И, парадоксально, еврейская «мицва» – доброе дело – Сонечки связано с вхождением в дом / рай Чужого, сироты Яси, разрушающей семью. Делая свой выбор, хозяйка руководствуется кажущейся любовью девочки к книгам: «Соню умиляло Ясино пристрастие к чтению». Автор подчеркивает – приверженность канону в его различных вариантах (книжном, родовом) оборачивается внутренней стагнацией, к старости Сонечка превращается в «толстую усатую старуху Софью Иосифовну», единственной радостью которой вновь становятся путешествия в «сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды». Начало и конец истории современной душечки сходятся в книжном лабиринте.
Усиленная к концу повествования ассоциация Сонечки с «тургеневскими барышнями» указывает на образ-метатип - Татьяну Ларину. По мнению исследователей, устойчивость женских образов И. Тургенева обеспечивает единое «основание – пушкинская Татьяна Ларина» [Печерская, 2002. С. 130]. В героине романа «Евгений Онегин» увидят «апофеоз русской женщины» (Ф. Достоевский), «страстотерпицу», отдавшую судьбу в руки мужчины (В. Розанов), воплощение страдающей «русской души» (Д. Ранкур-Лаферьер). В сюжете Сонечки роман с одноклассником – «брутальным Онегиным» – свернут, обыгрывается образ «изменившейся» Татьяны VIII главы – избранницы генерала. Л. Улицкая дописывает «возможный сюжет» (С. Бочаров) классического текста, разворачивая историю «души России» в современность. Романтическая линия, казалось бы, обещана в образе дочери Сонечки – тезки пушкинской героини. «Странная Таня» наделена в повести легко узнаваемыми чертами: стремлением к уединению, «странной задумчивостью», ей нравятся «старинные материнские платья», «подвязанные в талии блеклым кашемиром».
Как некогда для генерала, союз с Сонечкой означает для Роберта Викторовича буквальное возвращение с «того света». Недавний зэк, «человек из подполья», обретает семью, почву. Здесь очевидна перекличка с героем «Записок из подполья» Ф. Достоевского, и, шире, с образом титулярного советника Поприщина: «Поприщин является прямым предшественником главного героя повести Достоевского “Двойник” и психологической двойственности всех ведущих героев автора “Записок из подполья”» [Купреянова, 1981. С. 511]. Указание на известный аскетизм современных персонажей, их интерес к чтению актуализирует параллель с образами Сонечки Мармеладовой и Раскольникова, однако вместо Библии влюбленных сближает французская литература. Беседы с женой напоминают Роберту Викторовичу «касание к философскому камню», осознаются «волшебным механизмом очищения прошлого» – новым рождением.
Пушкинский генерал нужен в романе для того, чтобы оттенить духовные достоинства дамы, в повести Л. Улицкой, напротив, однообразное бытие Сонечки подчеркивает «неисчерпаемость биографии» мастера, в образе которого есть и онегинские черты. Идея философского камня коррелирует с мотивом зажмуренного «мистического третьего глаза» – символа духовного видения – в варианте женской судьбы. Профанация масонских символов усилена указанием на исключительную наивность / глупость героини. Лишенная интеллектуального блеска, Сонечка, однако, наделена талантом слушателя, она удерживает в памяти все, сказанное и созданное мастером. Бумажные макеты «фантастических городов», созданные Робертом Викторовичем, сопровождаются знаками «каббалистической азбуки», что обыгрывает известный опыт В. Соловьева. София часто представляется в виде города, небесного Иерусалима или частей его.Укорененность в пространстве образа Сонечки символически отражается в особой тучности, а к старости, неряшливости ее облика. Роберт Викторович, напротив, сохраняет подвижность, утонченность черт, неумеренность в любви. Бытовая реальность, в которую словно врезана фигурка постаревшей Сонечки, художнику представляется иллюзорной. Его готовность к испытаниям близка природе трикстера. В поле персонажа сходятся линии культурного героя-демиурга и его двойника – шута. Художественные эксперименты Роберта Викторовича – фарсовое отражение истории человечества. Мастер начинает творение игрушечного мира со «всякой мелочи» и заканчивает созданием целого народа, появляются «вырезанные из дерева животные, скрученные из веревок летающие птицы, деревянные куклы с опасными лицами» [Улицкая, 2006. С. 26].
С сюжетом «творения» в повести корреспондирует мотив испанского путешествия героя, отсылающий к «Запискам сумасшедшего» Н. Гоголя. Художник «купечески кутил всю барселонскую неделю» с красавицей проституткой – Кончеттой (исп. – представление). Образ мастера пересекается с образом «испанского короля» Поприщина и персонажем его рассуждений – «хромым бочаром», который делает «прескверно» луну из «смоляного каната и части деревянного масла» [Гоголь, 1938. С. 212]. Гоголевский текст обыгрывает известные гностические сюжеты, в том числе образ демиурга – «жалкого ремесленника», при создании человека «использовавшего всевозможные канатики, пузырьки и т. п., причем расстройством последних непосредственно объясняются душевные и производные от них социальные пороки» [Вайскопф, 2003. С. 205]. Начальник департамента, где служит Поприщин, награжден лицом, что «похоже несколько на аптекарский пузырек». В тексте Л. Улицкой возлюбленная художника – инфернальница Яся – обладает всеми знаками неудачного творения: «прозрачная, вроде омытого аптечного пузырька», но именно в этом герой видит ее очарование, «прелесть маленькой рюмки».
Бумажные композиции Роберта Викторовича отражают целые эпохи – от Античности, Средних веков до Нового времени. Игровые затеи мастера приносят славу декоратора. Стихия игры выстраивает и книжные предпочтения героя; в отличие от жены – поклонницы классики, «он был совершенно равнодушен к русской литературе, находил ее голой, тенденциозной и нестерпимо нравоучительной. Для одного только Пушкина неохотно делал исключение…» [Улицкая, 2006. С. 19]. В интертекстуальном поле повести этот жест означает равнодушие к опыту страданий русской души, которому предпочитают беззаконный праздник – роман с Кончеттой. Пристрастие к образу Пушкина испытывает культура постмодернизма в целом. Вопреки тем, кто в классическую эпоху боролся с поэтом и делал это во имя «жизни», побеждающей поэзию (Гоголь, Белинский), новейшая литература провозглашает красоту игры, выносит на свои знамена «веселое имя: Пушкин».
Отталкиваясь от однообразной жизни столицы, художник творит собственный мир-театр, который никто не в состоянии отнять. У «скучного и унылого государства» отвоевывается индивидуальное пространство, где бы теперь не оказался мастер – его сопровождает свой Монмартр. Неслучайность судьбы героя подтверждена ссылками на авторитет В. Набокова. Биография Роберта Викторовича напоминает «ломаную, как движение ослепительной ночной бабочки». Чертами нимфетки маркированы образы дочери художника и его возлюбленной. Соотнесенность творчества Роберта Викторовича с эпохой авангарда рождает ассоциацию с работами Р. Фалька и К. Малевича. Судьба героя повторяет вехи биографии Фалька, о близости образов свидетельству- ют общая национальность, совпадение имен. Эксперименты с белым цветом, тайна «невыразимого», занимавшие Малевича, угадываются в «белой серии» Роберта Викторовича. Желание художника воплотить духовную сущность вещей – софийность – сближает его технику с приемами иконописи. В период создания «белых» полотен мастер «сильно исхудал, но, сильно исхудав, лицом посветлел и стал как-то ласковее со всеми», однако «сама тайна, обещавшая вот-вот открыться, ускользнула» [Улицкая, 2006. С. 61]. Холсты с «блеклыми белоглазыми женщинами» – напоминание о загадке «снежной королевы», не Богородицы.
Итоговая серия мастера из пятидесяти двух белых картин вызывает ассоциацию с колодой карт и лабиринтом – символом иллюзорного земного бытия в мифологии гностиков: «И стала образовываться целая анфилада белых лиц, так что одно уходило в тень другого, снова проступало, а лица эти были связаны каким-то оптически обдуманным способом между собой» [Там же. С. 53]. Сцена похорон героя решена в той же игровой стилистике, сочетает элементы театральной постановки и ритуала. Гроб с телом покойного окружен картинами, «холсты зеркалили, бликовали». Мотивы зеркала, сцены, кулис сюжетно переплетены с образами молитвенной сосредоточенности, потухшей свечи и храма. Ушедший предстает то в образе гениального гроссмейстера, предпринявшего неожиданный ход, подобно Лужину В. Набокова, то библейского патриарха Иакова, праотца «великого народа» (Быт. 35:14).
На похоронах один из друзей покойного называет его жену и любовницу – Лия и Рахиль, причем первой женой, вопреки традиции, поименована красавица Яся, страсть к которой вдохновила мастера на создание «белой серии». Одиннадцать «довоенных, парижских» полотен Роберта Викторовича «разошлись по миру», легли в основание отдельных направлений, подобно одиннадцати сыновьям Иакова, зачавшим новые племена. Портреты, созданные художником в разные времена, передают неповторимый узор человеческих судеб, но вместе очерчивают абрис его собственного бытия. Как «тексты в тексте» они воплощают диалог мастера с Премудростью – Дамой рисующей.
В повести обыгрывается символическая близость трех женщин, любовь которых знаменует три жизни Роберта Викторовича. Сонечка, спасшая героя из «преддверия ада», получает портрет как свадебный подарок: «Портрет был чудесный, и женское лицо было благородным, тонким, нездешнего времени» [Улицкая, 2006. С. 15]. Затем наступает черед Тани, рождение которой пробуждает в отце дух игры / творчества: «со всех стен благотворно смотрели ее чудесные портреты во всех детских возрастах. И эти портреты смягчали Танино недовольство собой» [Там же. С. 32]. Наконец, перед Пасхой художник открывает красоту белого как лежащего в основании разноцветья мира – пишет Ясю: «это не была работа с натуры. Он словно впитал ее в себя и теперь только заглядывал в свой тайник» [Там же. С. 53]. Портреты – попытка открыть в земной женщине возвышенное, как оживить Галатею, однако загадочные белые цветы, украшающие Даму в раме, в истории не живут. Сонечка «сажает на могиле мужа белые цветы, которые никогда не приживаются».
Система персонажей в повести организована отношением к игре / творчеству , способностью одних создавать сценарии ( режиссеры / демиурги ) и других – им следовать ( марионетки ) . Основной сюжет обыгрывает «комплекс» Пигмалиона, закрепленный в философии В. Соловьева. В роли спасителей Прекрасного выступают мифические герои: Пигмалион осуществляет красоту (Галатею), Персей и Орфей спасают ее от мирового зла. Женский вариант мастера / режиссера представлен образом дочери Роберта Викторовича – Тани, для которой игра «была главным содержанием жизни». Если первый пытается воплотить на холсте «гений чистой красоты», то вторая – обрести рыцаря. В тексте значим мотив игры на флейте, отсылающий к образам Орфея и средневекового менестреля: «на шаткие звуки Таниной флейты стягивались войска поклонников». Роберт Викторович в свое время был центром интеллектуального мужского братства, происходящее окрест дочери «было то самое, чем и его молодость была заряжена, но под знаком иной стихии, женской».
Подобно Роберту Викторовичу, его дочь с детства окружает атмосфера свободы. В облике Тани привлекает отсутствие всех примет «общепринятой миловидности», ее образ отмечен элементами иконографии: узкое, «длинное лицо с тонким в хребте носом», окрест которого, подобно нимбу, «как зрелое, но не облетевшее еще одуванчико- вое семя, держались стоячие упругие волосы» [Улицкая, 2006. С. 28]. «Деревянная музыка», что Таня выдувает из флейты, подобна «зову» в мифологии гностиков 1, открывает в окружающих разнообразные таланты. Девушку и окружают музыканты, поэты, скоро прославившиеся на Западе, один из них «высоким петрушечьим голосом пел первые песни новой подпольной культуры». Остраняется мотив Прекрасной Дамы, окруженной преданными рыцарями, желания которых вполне плотские и вполне удовлетворены.
Если для самореализации Роберта Викторовича нужны холсты, бумага, то Таня играет звуками, поклонниками-куклами. Игра становится тотальной, захватывает живую и неживую материю – дар демиурга / ремесленника трансформируется в талант фокусника , циркача . Героине кажется, что красота подруги – плод усилий ее воображения, она «гордилась Ясиной красотой, как будто сама ее придумала и нарисовала». Если Таню выпросила у провидения мать, то Яся – производное «игры в бисер». Образы подруг составляют близнечную пару , что подтверждено на всех уровнях текста: от атрибутов, вкусовых пристрастий до символического родства.
Как некогда ум, быстрота реакции Роберта Викторовича отшлифовываются в беседах с женой, так самосознание Тани осуществляется в монологах, адресованных подруге. Причем Яся, вослед Сонечке, ничего не понимает из сказанного. Кукольная природа девушки подчеркивается неоднократно, до встречи с Таней Яся остается в «школьном чулане», как некогда Сонечка в подвале библиотеки. Роберт Викторович сопрягает образ избранницы с белыми неподвижными предметами и белыми цветами. Мотив фарфоровой белизны сочетается с образами лунного света и холода: «никогда не видел он такой лунной, такой металлической яркости тела», отсылающими к фигуре Лилит, почитающейся в Каббале духом ночи, соблазнительницей мужчин. Ее изображают в облике крылатого демона, змеи или совы. Не случайно память мастера хранит образ «совершенно совиной морды официанта в гостиничном ресторане», где он кутил с куртизанкой Кончеттой.
Как Лилит и Ева, так Сонечка и Яся образуют близнечную пару, в которой роль травестийного двойника выглядит значительнее. Обращает на себя внимание странный взгляд Яси: «глаза ее были опущены, пока она не вскидывала утяжеленные тушью ресницы, чтобы вымолвить, именно вымолвить со смиренно-королевской интонацией своей покойной матери» слово [Улицкая, 2006. С. 45]. Тяжелые веки, скрывающие взор, связь с образом покойницы отсылают к сюжету «Вия», где актуализировано «масонское алхимическое учение о подземном жизненном духе» – Вие, «сочетающем в себе железо и “корни”» [Вай-скопф, 2003. С. 121]. Сравнение вносит дополнительные коннотации в семантику образа красавицы, соединяющего элементы дерева и металла.
Личные обстоятельства жизни героини словно подталкивают к греху: «Все располагало к тому, чтобы Яся стала профессиональной проституткой, но этого не произошло» [Улицкая, 2006. С. 39]. Центральный гностический миф повествует о «душе, которая утратила свою целостность и превратилась в шлюху» [Афонасин, 2002. С. 206]. Сюжет спасения художником грешной души, затонувшей «жемчужины» обыгран в отношениях Роберта Викторовича и Яси. Девушка двигается за кулисами жизни от благодетеля к благодетелю, ее поведение отличают черты пошлости и наивности, подчеркнутые сравнением с Марфинькой из «Приглашения на казнь» В. Набокова. «Прозрачность» облика Яси соответствует кукольному окружению Цинцинната. Через призму банальной маски девушка видит и Роберта Викторовича, дорожит его сходством с «американским актером», знакомым ей по картинкам в глянцевом журнале. Принцип зеркала выстраивает не только отношения, роли, но и библиотечные истории героев. Душа Сонечки воспитана идеалами классики, за которыми угадывается живая действительность. Дочь Таня читает «только фантастику, как зарубежную, так и отечественную». Ее воображение выстраивает миры, не имеющие опоры в истории. Ясю же влечет глянец, банальные картинки, что указывает на культуру симулякров , лишенную самостийного значения.
Дуэт Тани и Яси подсвечен образами Татьяны Лариной и Аси Тургенева, на что указывают игра имен, детали портрета. Приметы Аси, мечтающей походить на пушкинскую Татьяну, умалчивающей о судьбе истинной матери, заметны в чертах обеих героинь. В этом ряду пристрастие дочери Сонечки к кашемировой шали, ее упорное нежелание «подойти под общий уровень», а также сиротство, необычайная гибкость Яси, самолюбие, двусмысленность положения в доме художника. Автор подчеркивает сходство облика Яси и с кинематографическим воплощением Марины Влади «в знаменитом в тот год фильме “Колдунья”», девушка следует за избранником «колдовски ступая детскими резиновыми ботиками в его следы». Происходит смена регистра повествования, связанного с приемом банализации жизни через призму массового искусства кино. Автор использует этот ход и в других текстах: «Веселые похороны», «Медея и ее дети».
Решаясь покорить столицу, Яся устраивает омовение / крещение в туалете Казанского вокзала, недавняя Кончетта примеряет маску сироты Казанской. Сцена отыгрывает несколько сюжетов: смену кожи змеей, восхождение из адского подземелья и рождение Афины из головы Зевса, в роли которого выступает Роберт Викторович, привыкший после лагеря спать, «накрутив себе на голову полотенце». В роли благодетелей Яси в повести выступают милиционер, железнодорожный проводник и учитель, пародируется магистральный сюжет советской литературы – сироту выводят в люди старшие наставники, заменившие родных. Пребывание девушки в Москве не выходит, однако, за рамки гротескного «низа», она моет школьные коридоры / лабиринты и «слякотные уборные», спит на физкультурном мате. Вхождение в семью Сонечки имеет вполне прагматическую цель – заручиться поддержкой очередных благодетелей. Девушка появляется в доме накануне Нового года, наряд к празднику шьет «молитвенно и сосредоточенно». Подражая истории Золушки, Яся является к праздничному столу в платье старинного покроя из «холодной на ощупь и горячей на глаз, какого-то ошпаренного цвета тафты». Самоосознание героини, пробуждение в ней женственности обещано встречей с художником, выводя- щим заблудшую душу из мира отражений – лабиринта.
Образ Яси обставляется в тексте приметами бестиария , создается из шипящих, она говорит «шепелявым шепотом», моет «шершавые школьные коридоры», ее сопровождает «шелест дешевого шелка», «шуршание конфетных бумажек». Наряды девушки, подобно змеиной шкуре, всегда одного покроя, поражают пестротой. Излюбленное занятие героини до близости с мастером – «свернувшись клубком», лежать у ног «усевшейся в позе лотоса» Тани, выдувающей «неверную музыку на флейте». Воспроизводится банальная картинка с изображением мага, заклинающего змею. При встрече с подругой дочери Роберт Викторович чувствует себя «ужаленным», девушка остается на ночь в «угловой комнате», окутанная ранними сумерками. Мотив острия, угла, треугольника – один из ведущих в образе.
Фарфоровая белизна лица, плеч повзрослевшей Яси, «маленький острый бриллиант на пальце», атмосфера шипящих отсылают к фигуре Элен из «Войны и мира» Л. Толстого. Роберт Викторович, однако, прозревает в избраннице юную Наташу Ростову: «про которую говорил единственный русский гений – “не удостаивает быть умной”». Метаморфоза затрагивает и литературные пристрастия мастера – в начале повествования русским гением назван Пушкин, в финале – нравоучительный Л. Толстой, которого так ценила Сонечка. Любовь к Ясе сближает мудреца и его наивную жену. Интересно, что Л. Толстой в одной из редакций романа наделяет героев устойчивыми зоологическими чертами, подчеркивает сходство сокровенной героини с козой / бестией. В варианте Л. Улицкой с козой сравнивается Яся, впервые вышедшая к новогоднему столу, как Наташа Ростова в бальную залу: «вырез платья был глубоким, и козьи ее груди, прижатые одна к другой, образовывали нежную дорожку вниз» [Улицкая, 2006. С.44]. К финалу повести мотив сладострастия в образе красавицы усиливается, у нее открываются родственники в Польше, которые, «как черт из табакерки», вынырнут после смерти мастера. Соблазн, измены героини оказываются, однако, продуктивны для ее окружения. Роберт Викторович и Таня обязаны Ясе освобождением из домашнего плена / лабиринта. Открывшаяся лю- бовная связь отца и подруги вынуждает Таню путешествовать, она становится сотрудницей ООН, буквально реализует «софийную» функцию по гармонизации мира.
Положительная оценка роли змея-искусителя, открывающего «спящему» Адаму тайну познания, соответствует мифологии гностиков [Йонас, 1998. С. 105]. В этой парадигме иначе акцентируется софийный инструментарий женского образа. В момент первой близости с художником Яся буквально заменяет собой рулон бумаги в его руках, обыгрывается аналогия София – «столп», разработанная в философии П. Флоренского. Одно из наречений Софии – «Чистая Честнейшая» отсылает к сравнению облика героини с прозрачными предметами, пузырьком, рюмкой. В этом смысловом поле и знаменитые строки Н. Заболоцкого: «что есть красота / И почему ее обожествляют люди?/ Сосуд она, в котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде?». Л. Улицкая заставляет ценить образ самой пустоты как бессознательного в русском мышлении, одним из авторитетнейших выражений которого стала София.
Поэтика повести, в основе которой обыгрывание культурных мифов прошлого (важнейший – миф о Софии), отнюдь не исчерпывается иронией. В сближении противоположностей, остранении традиционной системы ценностей сделана попытка открыть иной художественный код. Одним из принципиальных законов вселенной назван закон игры , неисчерпаемой в своей основе.
Авторская игра со знаками иных времен имеет целью изучение возможности обратного пути – от знака к обретению смысла . Именно эта миссия уготована художнику, призванному воплотить самое Красоту. Женские образы, как круги на воде, замыкаются друг на друга, судьба женской души в современном мире несамодостаточна, ци-татна, что мешает ей проявить и природное естество. Сама повесть напоминает искусный лабиринт, по которому читатель и должен пройти к обретению смысла.