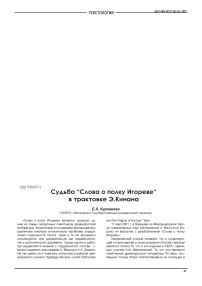Судьба "Слова о полку Игореве" в трактовке Э. Кинана
Автор: Куренкова Е.А.
Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts
Рубрика: Текстология
Статья в выпуске: 2 т.1, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140208892
IDR: 140208892 | УДК: 930(091)
Текст статьи Судьба "Слова о полку Игореве" в трактовке Э. Кинана
ГОУВПО «Московский Государственный университет сервиса»
«Слово о полку Игореве» является, пожалуй, одним из самых загадочных памятников древнерусской литературы. Филологами и историками высказывались различные гипотезы относительно проблемы определения подлинности текста. Одни и те же аргументы используются для доказательств как поддельности, так и аутентичности документа. Среди крупных работ, где выдвигаются мнения о поддельности «Слова…», можно выделить монографии А. Мазона и А.А. Зимина. Не так давно этот перечень пополнился работой американского ученого Эдварда Кинана «Josef Dobrovsky and the Origins of the Igor’ Tale».
17 мая 2001 г. в Варшаве на Международной Школе гуманитарных наук Центральной и Восточной Европы он выступил с разоблачением «Слова о полку Игореве».
Американский ученый полагает, что в существующей в науке версии о происхождении «Слова» верным является только то, что в его издании в 1800 г. принимал участие А.Ф. Малиновский. То, что оно является памятником древнерусской литературы XII века, посвящено походу Игоря Святославовича на половцев в
1185 году, что оно было найдено в конце XVIII века в Спасо-Ярославском монастыре графом А.И. Мусиным-Пушкиным и оригинал сгорел в московском пожаре 1812 года, – это «абсолютная ложь».
В пользу такого уничтожения известной истории происхождения «Слова…» Кинан приводит две группы аргументов. Первая группа включает в себя критику версий о происхождении рукописи. Ученый заявляет, что нет никаких документальных свидетельств существования текста поэмы. Все существующие свидетельства содержатся только в памятниках эпистолярного характера и «противоречивы и лживы». В основном они восходят к К.Ф. Калайдовичу, которому в момент издания «Слова…» было восемь лет. Рассказанная графом А.И. Мусиным-Пушкиным история о приобретении поэмы у архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Иоиля Быковского – «мошенническая». В каталогах монастырской библиотеки нет никакого конволюта с Хронографом под номером 323, в котором якобы и находилось «Слово…». Мусин-Пушкин вплоть до своей смерти в 1817 году не заявлял «явно» о потери рукописи «Слова…» в пожаре 1812 года, следовательно, ничего не терял. Поскольку знал, что поэма была сфальсифицирована на его глазах в 1792–1798 гг.
Ко второй группе замечаний Кинана относятся критические выпады против текста поэмы. Здесь американский славист применяет свой излюбленный прием: находит в более позднем памятнике цитату, имеющую с изучаемым произведением несомненное сходство, а затем заявляет, что она является первичной. Таким образом, «Слово…» списано с более поздних памятников.
Американский исследователь обнаружил сходство текста поэмы с первыми печатными изданиями Ветхого Завета, в частности, Моисеева Пятикнижия в XVI в. Наличие в «Слове…» гебраизмов из Ветхого Завета (урим, ортьма) дает ученому основания предполагать, что это произведение появилось уже после того, как в Венеции в 1524–1525 годах напечатан древнееврейский текст Библии, а учитывая широко распространенную среди христиан конца XVIII столетия моду на urіm и thummіm, – что это произошло где-то после 1775 года. По его мнению, также «безошибочно определяется» присутствие в произведении влияния Итальянского Ренессанса и применение некоторых выражений, заимствованных из немецкого языка только в XVI в. «Слово…» пестреет богемизмами, каламбурами и классицизмами, фальшивыми и настоящими, демонстрируя, что его автор был чрезвычайно хорошо знаком с древними славянскими языками и литературой; он также знал язык Библии, включая древнееврейский; глубоко проникался доблестью и единством славян; его захватывали звуковые и световые эффекты, в частности – птичьи и звериные звуки; ему была присуща одинаковая деистическая почтительность к язычеству, христианству и персонифицированной природы; он довольно хорошо ориентировался в печатных русских балладах конца XVІІІ века и, хотя как это парадоксально, мало знал толк в некоторых специфично восточнославянских лингвистических и исторических реалиях.
Встает вопрос о том, кто же является автором подделки? Американский ученый обнаруживает у автора «беспрецедентное расположение к славянским народам», особенно к чехам, и делает вывод, что им мог быть известный чешский славист Йозеф Добровский, который в 1792–93 гг. познакомился с коллекцией древних рукописей, принадлежавших Мусину-Пушкину. Он сделал выписки из многих произведений, в том числе и из рукописи «Слова…». Эти конспективные выписки Кинан объявляет оригинальными набросками, которые потом использовали для изготовления фальсификата недобросовестные Мусин-Пушкин и Малиновский. Последний придумал, будто бы рукопись находилась в составе сборника с древнерусским Хронографом. Подделка, названная «Словом о полку Игореве», увидела свет в 1800 году. Однако совершенно неясно, как эта придуманная Кинаном роль Малиновского стыкуется с тем, что в мае
1815 года он купил за 170 рублей у московского мещанина Петра Архипова пергаментный список произведения, как видно из текста, сделанный в 1375 году неким Леонтием Зябловым. Зяблов, в свою очередь, якобы выменял его у немца Шимельфейна, а последний приобрел рукопись в Калужской губернии у помещицы, запретившей упоминать ее имя. Малиновский был страшно горд приобретением и стал готовить «Слово…» к переизданию.
Однако его радость была омрачена известием, что Мусин-Пушкин обнаружил новый список «Слова…». При сравнении оба варианта текста оказались идентичными. Их изготовителем являлся известный московский фальсификатор рукописей Антон Иванович Бардин, скопировавший текст с печатного издания поэмы.
По Кинану, Добровский или вообще не подозревал о нехороших намерениях Мусина-Пушкина и Малиновского, или по неведомым причинам не стал заявлять, что настоящим автором поэмы является он, а не безвестный поэт XII века. Чешский славист смолчал. Также молчали или «лицемерили» Н.М. Карамзин, П.М. Строев, Н.Н. Бантыш-Каменский и другие лица, близкие к Мусину-Пушкину и догадывавшиеся о подлинной истории памятника.
Американский ученый задается вопросом: почему Добровскому понадобилось играть «черниговского барда XII столетия»? Ответ на этот вопрос весьма неожидан. Кинан заявляет, что здесь мы вступаем в «темные глубины индивидуальной психологии» и необходимо учитывать природу и характер умственной болезни Добровского. В рассматриваемый период произошло обострение, а в таком состоянии он был склонен сочинять разные тексты «под старину». Кинан обращает наше внимание на четыре факта:
Мы знаем из документов, что на годы, о которых идет речь (приблизительно
1793–1800), приходится чуть ли не самый тяжелый период болезни Добровского.
Мы знаем, что даже во время психических разладов он был способен писать совершенно правильный текст латынью, немецким и чешским языками, а также обсуждать сложные научные вопросы рядом с собственными галлюцинациями.
Мы знаем из наблюдений над другими людьми, пораженными тем же самым недугом, что больные, которые переживают мании, очень часто склонны возвращаться к текстам или объектам, созданными ими во время предыдущих приступов.
Мы знаем в конце концов, что темы и содержание подобных текстов определяются культурой, средой и личностью, то есть они не выбираются случайно.
Американский исследователь связывает персонально с Добровским немало главных тем и признаков «Слова», которые их скептики давно отождествили с тенденциями и интересами конца XVІІІ века. Например, если текст, в самом деле, содержит какое-то «послания» (обходя сюжеты, перенесенные из «Задонщины» и Ипатьевской летописи), то в них, скорее всего, вложена мысль, по которой, если братья-славяне грызутся между собой за добро или территории («Сие мое, а то мое же»), они накличут на себя губительные вторжения соседей. Для Добровского таким зловещим предвестником стали разделы Польши, второй из которых только что состоялся: через раздор среди славян-поляков славяне-россияне захватывали славянские земли и разрешали немцам (Пруссии и Австрии) грабить территории. Эти проблемы, как и вообще будущее славян, очень сильно беспокоили ум Добровского в самый раз в годы, которые непосредственно предшествовали появлению первого издания «Слова».
Во время своей поездки в Россию в 1792 году Доб-ровский уже глубоко приобщился к тому, что сам называл славянофильским делом. Только что перед этим (в 1791 году) он обращался со своим знаменитым призывом к новому императору Рудольфу ІІ от лица славян империи. И хотя отношение Добровского к России и русским было каким-то двузначным (он считал их за людей храбрых, но простецких), он, по мнению Кинана, (в особенности во время приступов бреда) одобрял экспансию Российской империи ad lіmіtes Persіae et Іndіae [К границам Персии и Индии (лат.)] и к землям, которые славяне, по его мнению, занимали «извечное». Исследователь замечает некоторый анахронизм геополитической ориентации «Слова» и приходит к выводу, что поскольку она направлена преимущественно именно на те южные территории, которые даже предельное напряжение исторического воображения не могло сделать «русскими», но которые представляли главный дипломатический и военный интерес для Российской империи в конце XVІІІ века, то, собственно, именно эти наблюдения и побудили Мазона совершенно справедливо поставить вопрос: не следует ли признать этот текст «поэтическим приложением к Ясскому миру»?
Американский ученый обращает внимание, что в великом множестве работ, посвященных опровержению интуитивно блестящей гипотезы Мазона, к этому географическому аспекту проблемы еще никто по-настоящему не обращался. Да и сам Мазон, подчеркивает Кинан, отметив «одержимость» (mentіon obsedante) «Слова» Тмутараканью, не подчеркнул еще одного географического анахронизма – неоднократных упоминаний о Дунае. И хотя одни из этих упоминаний были как-то объяснены, а другие заменены издателями на «Дон», проблема остается: почему этот якобы эпос XІІ столетия о походе черниговского князя в район Дона так много говорит о Дунае?
Решать эту небольшую головоломку Кинан начинает с анализа одного отрывка, который в этой связи обычно даже не упоминается, вероятно, потому что слово «Дунай» там не употреблен. В 99 строке, в конце знаменитого фрагмента, известного как «Сон Святослава», читаем:
у ПлЂсньска на болони бЂша дебрь Кисаню, и не сошлю къ синему морю.
Исследователь подчеркивает, что эта строка сбивает из толку переводчиков и комментаторов на про- тяжении двух столетий. По его мнению, данный отрывок выдвигает три отдельных проблемы: локализацию Плесенска, идентификацию «дебрь Кисаню (Кисаня?)» и интерпретацию «и не сошлю».
Первые издатели, ссылаясь на Татищева, уверяли, что Плесенск был городом в Галичском княжестве на границе с Волынью. Однако Кинан обращает внимание на проблему, которая продолжительное время беспокоила историков и археологов: Плесенск хорошо описан в Ипатьевской летописи и подтвержден новейшими раскопками как значительный город XІІ столетия, лежал на крайнем севере Галичского княжества, далеко и от Киева, где, достоверно, видел свой сон Святослав, и от большинства событий, описанных в «Слове». Неудобство этого факта, считает ученый, породило немало попыток, временами рискованных, идентифицировать Плесенск с какими-то другими, более близкими к Киеву местами, удостоверенными в летописи, чье название пусть приблизительно схоже с Плесен-ском. Общепринятую мысль Кинан называет средним арифметическим этих гипотез. В конце концов, развертывание сна в тексте, преисполненном фантазии, не требует географической точности, и можно отнестись снисходительно к определенным историческим расхождениям.
Исследователь утверждает, что Плесенск Ипатьевской летописи, «Истории Российской» Татищева и «Слова» – это, вне всякого сомнения, место сегодняшних археологических раскопов под селом Плеснеско-Львовской области, неподалеку от истоков речек Серет и Быстрица. Вместе со многими другими географическими пунктами, о которых не упомянуто в летописной повести про поход Игоря, Плеснеск располагается на территории, которая во времена Добровского входила в австрийскую Галицию. Кинан замечает, что в районе австрийской Буковины, также между Серетом и Быс-трицей, австрийский командующий Фридрих Йозеф, принц Заксен-Кобург-Зальфельд, расквартировал свои войска на зиму 1788–1789 года. Северный район Сере-та – Быстрицы был территорией княжества Ярослава «Осмомысла». А южная территория Сирету – Быст-рицы была важной ареной в кампаниях российско-турецкой войны 1787–1791 гг., в особенности для габсбургских войск. И именно в контексте этой войны, за которой, по мнению Кинана, Добровский должен был пристально наблюдать из Праги как раз накануне своей поездки в Россию, следует понимать связь Ярослава и Галича (северный Серет – Быстрица) с Дунаем (южный Сирет – Быстрица). Контаминацией Добровским двух омонимических территорий американский ученый объединяет исторические реалии «Слова» с «австрийской» перспективой и тогдашними славянофильскими интересами чешского слависта.
Две других проблемы («дебрь Кисаню» и «и не сошлю») являются, по мнению исследователя, намного более сложными. Кинан считает, что Р. Якобсон решил первую из них путем конъектуры, создав новое чтение «на болони бЂшя дьбрськы сани». Но ученый предлагает намного простое объяснение, не требующее ни единых исправлений: «дебрь Кисаню» – это один из нескольких гебраизмов, которые встречаются в «Слове».
«Дебрь Кисаню» Кинан понимает как древнееврейское ויׁשיקלחנ, «сухое русло, которое тянется на северо-запад через равнину Мегиддо», знаменитую тем, что здесь была разгромлена ханаанская коалиция под руководством Сисери. Эта сцена благодаря Книге Судий 5:21 («Кишонский поток позмітав их [царей Ханаана и Таанаху], потек старинный, Кишонский потек») и Первой книге царей 18:40 («а Илья свел их [пророков Ваала] к потоку Кишон, да и порезал их ...») стала, по мнению исследователя, постоянной ветхозаветной метафорой для места смерти и резни, а также доказательства силы Божьего провидения.
Кинан обращает внимание на упоминание в Ветхом Завете собственного имени ויׁשיק в комбинации с לחנ (ров, потек [русло потока]) и, также как для гебраизмов, что вошли в новейшие библейские тексты при посредничестве греческого языка, на характерное для него множество форм (Библия короля Якова: the Rіver Kіshon, the brook of Kіson, the brook Kіshon; Вульгата: іn loco torrentіs Cіson, torrens Cіson; Kpaліцька Библия (1597–1593): Cіson; Скорининская Библия (1517–1519): впотоце КиссовЂ; Острожская Библия (1581): впотоцЂ Киццове, Греческий текст: Κισσω, Κε[ι]σων. לחנ часто встречается в Ветхом Завете как слово на обозначение мест погребения, мест подбрасывания детей и т.п. А «дебрь» обычно употребляется в старославянском языке как синоним рва, струйки, потока.
Такая идентификация разрешает Кинану отважиться на истолкование загадочного «и не сошлю к синему морю»: на основе Книги Судий 5:21, где в Библии короля Якова сказано swept them away, в Кралицкой Библии – Potok Cіson smetl je, а в Острожской Библии – изгна я водотечь кадимин [вместо «старинный»]. Итак, принимая чтение Якобсона и других: «и несошя Ђ къ синему морю», и поправляя дополнительно на основании гипотетической первоначальной транслитерации Добровс-кого: «и unesoшa je» (порочно реконструированной как «іu ne soшлju»), американский исследователь получает «дебрь Кисонъ, и унесоша Ђ къ синему морю {море}».
Впрочем, Кинан признает, что и это разъяснение не является удовлетворительным. Фраза «были (в множишь) Кисонский потек в Плесенську на предместье, и они были снесены в море» и в дальнейшем кажется какой-то несвязной, а, кроме того, не исключено, что о предместье Плесенска упомянуто в связи с предыдущими воплями ночных птиц. Тем не менее заключает ученый, что темное «дебрь Кисанъ... к синему морю» является библейской аллюзией. Достойной такого серьезного христианского гебраиста, как Йозеф Добров-ский, и абсолютно неуместной для Чернигова XІІ века. В подобном ключе Кинан толкует еще один «галичский/ буковинский» фрагмент:
[130–132]
Галичкы ОсмомыслЂ Ярославе высоко сЂдиши на своемъ златокованнЂмъ столЂ. Подперъ горы Угорскыи своими желЂзными плъкы, заступивъ Королеви путь, затвори въ Дунаю ворота, меча времены чрезъ облаки, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землямъ текутъ;
оттворяеши Кїеву врата;
стрЂлявши съ отня злата стола Салтани за землями. СтрЂляй Господине Кончака, поганого Кощея за землю Рускую, за раны Игоревы буего Святславлича.
Фрагмент имеет много загадок: это единственный текст, где Ярослава Владимировича Галичского называют «Осмомыслъ», да и большая часть этого фрагмента не поддается удовлетворительной интерпретации.
«Подперъ горы Угорскыи своими желЂзными плъ-кы, заступивъ Королевы путь, затворы въ Дуная ворота, ... суды рядя к Дуная». Исследователь отмечает, что большинство комментаторов соглашаются, что речь идет о Карпатских горах и Дунае, но при этом обычно отмечают, что Ярослав Владимирович не контролировал и не строил мост на Дунае. Тем не менее Татищев говорит совершенно ясно, что Ярослав укреплял города на Дунае, а в контексте габсбурско-российско-османской дипломатии 1790-х австрийская Буковина, по мнению Кинана, рассматривалась как ключ к Дунаю. Кроме того, Татищев, вероятно, послужил источником информации про богатство Ярослава (златъ, златоко-ваний столъ).
Самым сложным моментом для американского ученого является вопрос, о каком «короле» здесь идет речь. Необыкновенным также является употребление рядом суд- и ряд- в выражении «суды рядя», что не имеет параллелей в соответствующих текстах. В «Слове» это непривычное объединение позднее появится еще раз, в отрывке из двух связанных между собой сегментов, где речь идет про «суд»:
-
[159] Всеславъ Князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше.
Кинан подчеркивает непривычное употребление в обоих случаях глагола «рядить» с прямым прибавлением в винительном падеже. Тем не менее он обращает внимание на стандартный способ выражения контроля, направления или управления в чешском языке, для которого характерно употребление řídіtі с винительным падежом. В частности, исследователь приводит примеры сопоставления этих двух лексем в чешском языке: в названии книжки, на которую Добровский написал рецензию в 1786 году: Wšeobecný řád saudní pro Cžechy, Morawu, Slezko, Rakausy...
У американского исследователя особый интерес вызвала следующая строка:
-
[131] СтрЂлявши съ отня золота стола Салтани за землями.
То, что здесь речь идет о «султанах» (как всегда расшифровывали слово «Салтани» от времен edttіo prіnceps), является для Кинана очень сомнительным, вопреки всем легкомысленным и анахроничным заявлениям комментаторов относительно предполагаемого участия Ярослава Владимировича (умер 1 октября 1187 года) в Третьем крестовом походе (1189–1192) и вопреки весьма ученой дискуссии ориенталистов относительно истории титула «султан». По мнению ученого, такое прочтение не имеет смысла в данном контексте и к тому же опирается на предположение про довольно редчайшую для кириллицы ошибку переписчика, который употребил а вместо оу или у. Кинану кажется очевидным, что автор имел в виду фразу, какую первые издатели тщательно переписали, тем не менее не поняли: «съ отня золота стола, съ алтаны [s altany] за землями». Altán[a] в старочеській языке означало, как и в оригинальном итальянском варианте, небольшую башню, крытую террасу, портик, балкон, бельведер или павильон. У исследователя не остается сомнений, что здесь описано, как Ярослав стреляет «из золотого трона [своего] отца, с алтани, что очень отдаленное
[за много земель]». Такое прочтение подтверждается предыдущим текстом («высоко сЂдиши на своемъ златокованнЂмъ столЂ»), а также самой этимологией оригинала (alto по-итальянски «высокий»).
Тем не менее итальянское слово altana возникло как архитектурный термин в эпоху Возрождения и проникло в чешский язык через немецкий (здесь оно фиксируется не раньше 1417 года). Данный фрагмент, полагает ученый, является довольно выразительным свидетельством, по которому «Слово» не может быть средневековым славянским текстом, и подтверждает нашу гипотезу про его происхождение. Добровский, вероятно, знал это слово как с немецкой, где оно широко употреблялось с начала XVІ века, так и с чешской, но, похоже, по ошибке воспринял его как общее заимствование из латыни.
Американский исследователь утверждает, что поход 1185 года не является основной темой поэмы. «Слово о полку Игореве» написано вовсе не про поход Игоря, в тексте с событиями 1185 г. связаны только «горстка имен» и примерно одна десятая часть стихов. Все остальное – плач Ярославны, сон Святослава, рассказ о Бояне, не имеют прямого отношения к 1185 г. и могут быть привязаны к другим датам. Однако тут Кинан оговаривается, что поход 1185 г. был хорошо известен по Ипатьевской летописи, популярен у Татищева и в Записках Екатерины II по русской истории, поэтому его выбор абсолютно логичен.
Последним аргументом ученого является обращение к теории вероятности. По его мнению, появление текста, подобного «Слову…», на территории Восточной Европы в XII веке невозможно. Зато возникновение в конце XVIII в. аналогичной подделки вполне вероятно. Тем более, считает Кинан, сочинение таких текстов носило всеобщий характер, и различного рода подделки и имитации стали банальностью.
Все эти построения, считает американский исследователь, наконец-то позволяют разъяснить темные места произведения.
Современные чешские филологи-слависты восприняли известие о написании «Слова…» одним из ведущих представителей чешского возрождения Йозефом Добровским достаточно скептично, оценив лишь то, что американскому коллеге удалось найти целый ряд аргументов, свидетельствующих против подлинности эпоса.
Представители российской науки скромно отреагировали на предположения Э. Кинана. В свет вышли две работы, посвященные анализу гипотезы американского исследователя. Это статья А.А. Филюшкина «Психопатическое уничтожение «Слова…» и монография А.А. Зализняка «Слово о полку Игореве». Взгляд лингвиста». Оба ученых сходятся в том, что «Слово….» оставляет нам больше вопросов, чем ответов. И скорее всего ответы на эти вопросы нам не найти никогда.
Список литературы Судьба "Слова о полку Игореве" в трактовке Э. Кинана
- Филюшкин А. Психопатическое уничтожение «Слова о полку Игореве».
- Zdenek Myslivicek. «Dusevni choroba Josefa Dobrovskeho». -Bratislava: Casopis ucene spolecnosti Safarikovy, 1929, 3 (3-4): 825-835.
- Татищев В.Н. История Российская, часть 3 (Москва, 1964), с. 146-147.
- Виноградова В.Л. и др. Словарь-справочник «Слова в полку Игореве»: В 6-ти томах. (Москва-Ленинград, 19651984), т. 6 (1984), с. 92-93.
- Козлов В.П. Тайны фальсификации: анализ подделок исторических источников XVIII-XIX веков (Москва: Аспект-Пресс, 1996).
- Ihor Sevcenko. «The Date and Author of the So-Called Fragments of Toparcha Gothicus». -Dumbarton Oaks Paper, 25 (1971), pp. 117-188.
- Czech Radio 7, Radio Prague. -http://www.radio.cz/ru/statja/44993>.