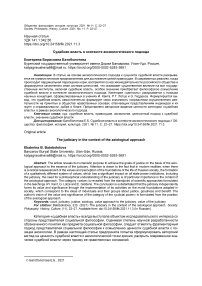Судебная власть в контексте аксиологического подхода
Автор: Екатерина Борисовна Батоболотова
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе аксиологического подхода к сущности судебной власти раскрывается ее гуманистическое предназначение для достижения целей правосудия. В современных реалиях, когда происходит кардинальная переоценка норм, восприятия основ жизнедеятельности российского общества и формируется качественно иная система ценностей, что оказывает существенное влияние на все государственные институты, включая судебную власть, особое значение приобретает философское осмысление судебной власти в контексте аксиологического подхода. Категория «ценность» раскрывается с позиции научных концепций, сформулированных в учениях И. Канта, Р.Г. Лотце и Э. Гидденса. Формулируется вы-вод, что судебная власть самостоятельно формирует свою значимость посредством осуществления деятельности на принятых в обществе нравственных основах, отвечающих представлениям индивидов и их групп о справедливости, добре и благе. Представлено авторское видение ценности категории «судебная власть» в рамках аксиологического подхода
Суд, судебная власть, правосудие, аксиология, ценностный подход к судебной власти, значение судебной власти
Короткий адрес: https://sciup.org/149136602
IDR: 149136602 | УДК: 141.1:342.56 | DOI: 10.24158/fik.2021.11.3
Текст научной статьи Судебная власть в контексте аксиологического подхода
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Улан-Удэ, Россия, ,
,
Объективная обусловленность и прикладное значение философского осмысления судебной власти с позиции аксиологического подхода выражаются в происходящих в реальных условиях трансформациях ее нравственных устоев. При этом особое значение приобретают адекватное воплощение ценностей в процессе осуществления функций судебной власти, главной из которых является правосудие, а также отражение этих ценностей в ее нравственных основаниях.
Рассмотрение аксиологических аспектов судебной власти способно повлиять на повышение уровня правовой культуры и консолидацию правовых ценностей. Именно судьи как социальные носители судебной власти вследствие своего высокого статуса призваны донести до общества основы справедливости как неотъемлемо присущее законам и праву в целом свойство. В свою очередь, иные участники судебного процесса обязаны поддерживать ценностную правовую связь с судом (Сергеева, 2016: 118).
Как справедливо отметил И.А. Исаев, «процессы исчезновения традиционных ценностей приводят к применению содержания права в целом. Учитываются формальные элементы, и происходит искажение правовой реальности» (2014: 3). Принимая во внимание приведенные обстоятельства, полагаем, что исследование аксиологических основ функционирования судебной власти будет способствовать формированию целостного объективного представления о сущности действующей современной судебной системы.
Особую актуальность реализация обозначенных исследовательских задач приобретает в условиях радикальной смены ценностных и мировоззренческих основ жизнедеятельности российского общества, формирования качественно иной системы ценностей, что оказывает существенное влияние на все государственные институты, включая судебную власть. Выполнение указанных задач не представляется возможным без обращения к понятийно-категориальному аппарату философской доктрины, раскрывающему суть ключевых категорий концептуального подхода, выбранного для целей настоящего исследования. Прежде всего необходимо определить содержание терминов «аксиология» и «ценности», так как в рамках философской доктрины они толкуются по-разному.
Как отмечает В.И. Плотников, аксиология представляет собой философскую дисциплину, которая занимается изучением природы ценностей, исследованием их роли и места в бытии и миропонимании людей (1996: 196). В то же время в русском языке имеет место двойной смысл понятия «ценность»: что-то положительное и некоторое значение.
В рамках обозначенного подхода следует рассматривать аксиологию как философское учение о значениях. При этом с позиции философии целесообразно говорить о значении всех категорий для всего, чего угодно, и для всех, кого угодно. В свою очередь, понятие «ценность» обладает более универсальным и всеобъемлющим смыслом, поскольку его содержание образуют все сферы и уровни жизнедеятельности общества.
Родоначальником категории «философия ценности» является Р.Г. Лотце. Именно он ввел в научный оборот понятие «ценность», раскрыв его философский контекст следующим образом: для умственных способностей человека целая пропасть отделяет мир явлений от мира ценностей (Orth, 2018). Стремясь развить тезис И. Канта, ученый обращает внимание на то, что твердая уверенность в существовании крепкого единства между данными мирами смешивается в нашем случае с осознанным убеждением в нереальности его познания (Orth, 2018).
В основу учения Р.Г. Лотце заложено утверждение И. Канта, в соответствии с ним «в царстве целей все имеет или цену, или достоинство» (Кант, 1965: 276). Категория «ценность» с позиции И. Канта рассматривалась как все, что в некоторой степени имеет весомость и представляет значимость в духовном мире каждого индивидуума, в котором господствуют как свобода, так и долг (Кант, 1965).
В контексте анализируемого вопроса исследовательский интерес представляет точка зрения М. Мальманна: «Не следует думать, что понятие “ценность” устарело, так как ведет нас в дебри онтологической метафизики. Конечно, различные теории ценностей в прошлом были метафизическими. Однако незачем предполагать, что все теории ценностей непременно должны быть “метафизическими” в том смысле, в каком это свойство подвергается в таких теориях правомерной критике. Напротив, неметафизическая теория ценностей опирается на два основных элемента: во-первых, на естественные ценности, проистекающие из наличных потребностей человека, включая блага как материальные, так и нематериальные (например, свободу); во-вторых, на моральные ценности, такие как справедливость. Такие ценности не являются метафизическими, если осмысляются как продукт моральной познавательной способности человека, т. е. способности человеческого разума к моральным суждениям» (2008: 77).
В целом анализ научных подходов к изучению категории «ценность» позволяет прийти к выводу, что наиболее удачной для целей настоящего исследования является трактовка, предло- женная Э. Гидденсом. По его мнению, ценности – это «представления индивидов или групп людей о том, что желательно, приемлемо, хорошо или плохо. Различия в ценностях являются ключом к пониманию культур. На индивидуальные ценности сильное влияние оказывает специфика данной культуры» (1999: 674).
С опорой на аксиологический подход представляется возможным толковать ценность судебной власти как систему индивидуальных и коллективных представлений относительно качеств и свойств деятельности людей по реализации судебной власти, определяющих ее значение как для индивида или социальной группы в частности, так и для общества в целом. Ключевой характеристикой ценности судебной власти выступает ее гуманистическая составляющая как эффективного способа разрешения конфликтов, возникающих в социуме и государстве, средства достижения стабильного развития общества, обеспечения прав людей на нравственных началах справедливости и равноправия.
Судебная власть самостоятельно формирует свою значимость посредством осуществления деятельности на принятых в обществе нравственных основах, отвечающих представлениям индивидов и их групп о справедливости, добре и благе. Исходя из нравственных начал и прогрессивного характера ценностей, судебная власть посредством органов судейского сообщества целенаправленно конструирует судейскую этику и возвышает собственный авторитет.
Необходимо отметить, что само по себе существование судов либо иных способов разрешения конфликтов в обществе не указывает на наличие судебной власти. Понятия «судебные органы» и «судебная власть» не являются идентичными. Очевидно, что судебная власть не может действовать в отрыве от судебной системы, тем не менее наличие судебной системы еще не свидетельствует о том, что в государстве имеется судебная власть.
Безусловно, в определении предназначения судебной власти в обществе огромную роль сыграла концепция разделения властей. Впервые идея о дифференциации работы органов государственной власти появляется в трудах таких античных мыслителей, как Платон, Аристотель, Полибия и ряда других. Еще Дж. Локк в XVII в. доказал потребность в разделении властей на законодательную, исполнительную и федеративную (1988: 339–361).
Однако, несмотря на то что идея разделения властей имеет тысячелетнюю историю, вид сформировавшейся доктрины она приобрела в труде Ш. Монтескье «О духе законов». Он писал: «Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга» (Монтескье, 1955: 289). В прикладном аспекте теория разделения властей была усовершенствована и применена отцами-основателями США (Т. Джефферсоном, Б. Франклином, А. Гамильтоном и др.).
Системный анализ доктринальных источников позволил прийти к выводу, что значительная часть представителей философской доктрины по-разному оценивают место судебной власти в системе разделения властей. Одни авторы акцентируют внимание на том, что суд должен быть гарантом равновесия в триаде разделения. Другие ученые рассматривают суд в качестве своего рода арбитра, независимого посредника между ветвями власти. В иных случаях суд является институтом, который призван адаптировать постоянно расширяющуюся структуру государственной власти к требованиям конституции о разделении властей, каждой из которой присущи специфические функции1.
Представляется, что судебной ветви отводится особое место в системе разделения властей. При этом судебная власть непосредственно взаимодействует с законодательной и исполнительной. В то же время независимость судебной власти относительна, поскольку она не может существовать отдельно от других ветвей. Область деятельности судебной власти определяется законом, т. е. решениями органов законодательной власти, а исполнение судебных решений зависит от работы органов исполнительной власти. Более того, представители судебной ветви обязаны принимать во внимание позицию не только представителей законодательной и исполнительной властей, но и адвокатов, просвещенной публики и ученых – творцов правовой науки и доктрины.
Таким образом, концепция разделения властей во все времена имела существенное доктринальное, академическое и прикладное значение. В настоящее время данная теория выступает в качестве одного из основных принципов организации работы государственного аппарата. При этом следует подчеркнуть, что разделение властей не является самоцелью государственного управления. Вместе с тем, как свидетельствует анализ истории, эта концепция служит одной из лучших конструкций, сформированных представителями философской доктрины.
О роли судебной власти в обществе красноречиво высказался А. де Токвиль. В труде «Демократия в Америке» он отмечал, что любое государство обладает двумя средствами для оказания сопротивления своим гражданам. Во-первых, это денежные ресурсы, которыми владеет население, во-вторых, судебные решения, к помощи которых они имеют возможность обращаться. Высокая цель правосудия заключается в том, чтобы заменить архетип насилия архетипом права и установить правовой барьер между государством и используемой им силой (Токвиль, 2000: 60).
Действительно, судебная власть при осуществлении правосудия включает правительственное насилие в культурные границы. Тем самым она гарантирует защиту гражданам, которые соблюдают законы, от угрозы оказаться под давлением государственного механизма. В то же время данная цель судебной власти не является исключительной. В противном случае она выступала бы только карающей рукой. Этим не может ограничиваться ее социальное назначение.
Поскольку в любом обществе существует большое количество конфликтов, то с течением времени конфликт между государством и незаконопослушным гражданином становится не основным. Немаловажным выступает разногласие между государством и законопослушным гражданином, которое возникает в результате заблуждений или даже бесправия государства. В такой ситуации судебная власть обязана защищать человека от государства, если право, им санкционированное, находится на стороне гражданина. Особенность судов в некоторых странах состоит в том, что любой вправе обратиться в суд по делу, которое непосредственно с ним не связано, но может нарушить права неопределенного круга лиц. Как справедливо отметил А. Мавчич, подобная практика эффективно предотвращает нарушения прав человека разными органами власти (Федорова, 2013: 19; Mavćić, 1995).
В рамках исследования социальных функций судебной власти возникает также вопрос о том, каким образом политика воздействует на нее. С точки зрения формально-логического подхода подобного влияния быть не должно. При условии, если обе другие ветви власти – законодательная и исполнительная – не только оказываются под прямым влиянием политического фактора, но и сами являются политической силой, то судебная власть не может находиться под воздействием политики, поскольку она утрачивает беспристрастность. В результате судьи при рассмотрении дел будут следовать не праву, а политическим законам.
Некоторые ученые считают, что в практической деятельности судов не может быть полной деполитизации судебной власти, поскольку при разрешении публичных дел судьи должны предусматривать политические последствия вынесенных решений. Применительно к этому вопросу Дж. Уайт писал, что, в сущности, судьям и не предписано воздерживаться от разрешения политических конфликтов, но при этом им необходимо выражать свои политические расположения более закрыто (White, 1976: 371).
На наш взгляд, точка зрения Дж. Уайта не вполне справедлива. При рассмотрении дел с политическим содержанием судам необходимо руководствоваться исключительно правом. Судьи не могут выражать свои политические взгляды, в противном случае это будет не судебная власть. При разрешении конфликта судам следует выносить такое решение, которое не принесет вред социуму или при котором причиненный вред будет небольшим. Границы судейского усмотрения должны быть только правовыми. Иначе судебная власть теряет свою автономию и становится придатком законодательной и исполнительной ветвей.
Более основательное сравнительное исследование проблемы судейского усмотрения проведено зарубежным ученым К. Грабенвартером. В частности, он сформулировал определение этого явления: «Усмотрение при принятии решений имеет место либо там, где на основе определенных фактических обстоятельств должна оцениваться целесообразность мероприятия, либо там, где обстоятельства дела должны оцениваться как основа для выбора правовых последствий» (Грабенвартер, 2016: 10). К. Грабенвартер также установил различия между свободой административного органа, вытекающей из предоставленного ему законом усмотрения и допускающей «несколько равноценных решений», и свободой, выступающей следствием неопределенности закона, подлежащей судебной оценке. Он заключает, что суды повсеместно выработали инструментарий для осуществления контроля дискреционных решений (принципы равенства, пропорциональности, запрета произвола), хотя они и не стремятся подменить проверяемое решение своим собственным или установить, принято ли наилучшее из возможных решений (Блохин, 2018: 47).
В германоязычной литературе отмечается, например Й. Пуделькой, что «административный орган или вышестоящий административный орган могут иначе оценить целесообразность решений и тем самым принять другие решения», что не противоречит принципу защиты доверия (2017: 443). Напротив, суды «вправе проверять лишь правомерность действий исполнительной власти» в силу принципа разделения властей, в том числе с позиции «ошибки усмотрения» (применения его не в соответствии с законной целью или без соблюдения принципа соразмерности) (Блохин, 2018: 47).
Для человека его жизнь является целью сама по себе. В связи с этим базовые принципы правосудия должны уважать стремление к данной цели в качестве универсального, ничем не ограниченного права. Убедительная концепция правосудия должна основываться на сохранении пропорционального равенства, дифференцированного в соответствии со сферами и критериями распределения, уважением принципов автономии и ответственности, сохраняя в то же время фундаментальное равенство достоинства всех человеческих существ (Мальманн, 2008: 78).
Таким образом, проведенный нами анализ научных трактовок содержания категории «судебная власть» с позиции аксиологического подхода позволяет прийти к следующему выводу. Ценность и гуманистическое значение судебной власти раскрываются в триединстве ее функций: восстановление нарушенных прав и свобод граждан, разрешение общественных конфликтов, обеспечение стабильного регулирования процессов, происходящих в социуме. В связи с этим нам близка позиция И.Н. Сенякина и В.А. Телегиной, утверждающих, что «только реальная потребность защиты общественных отношений в суде, которые имеют особую значимость для общества и государства, определяет ценность самой судебной власти» (2008: 12).
Из изложенного следует, что органы судебной власти занимают особое место в системе жизнеобеспечения общества. Судебная власть призвана гарантировать правовую защиту демократических принципов, общесоциальных ценностей и установить доверие граждан к правосудию и правовым способам улаживания социальных конфликтов. Эта социальная функция судебной власти существовала всегда, поскольку она необходима в любом сообществе людей как деятельность третьей независимой стороны, непредвзято и авторитетно разрешающей спор, справедливо разрубающей гордиев узел. Именно справедливость воспринимается всеми народами как высшая ценность и выступает в виде универсального критерия правосудия. По выражению А.В. Цихоцкого, «важнейшее условие доверия общества к правосудию – справедливость выносимых судом решений… Между решением суда и общественным правосознанием не должно быть расхождений» (1997: 54).
Деятельность судебных органов гарантирует обеспечение справедливости при взаимной ответственности государства и населения, поскольку только в суде граждане могут заставить государство исполнять свои обязанности перед отдельным человеком и обществом в целом. В подобных условиях правосудие способствует формированию особого типа правосознания в социуме и преодолению правового нигилизма. По мнению К.А. Струся, к особенностям ментальных установок такого сознания можно отнести уважение к действующему праву; желание разрешать конфликтные ситуации только на основе права; проявление уважения к правам и интересам лиц, исполняющих обязанности в интересах всего общества; глубокое осознание своей ответственности и роли в общественной жизни и государственно-правовом строительстве перед нынешним и будущими поколениями (2018: 72).
Подводя итог философскому анализу судебной власти с позиции аксиологического подхода, представляется возможным сформулировать авторскую дефиницию анализируемой категории, раскрывающую ее ценность, а также определяющую ее место и роль в целостной структуре мироотношения и мировоззрения людей. Судебная власть является инструментом, посредством которого право воздействует на общественные отношения и на нравственных началах справедливости и равноправия способствует достижению трех универсальных ценностей: восстановление нарушенных прав и свобод граждан, разрешение общественных конфликтов, обеспечение стабильного регулирования процессов, происходящих в социуме.
Список литературы Судебная власть в контексте аксиологического подхода
- Блохин П.Д. Злоупотребление правами и злоупотребление властью: к построению единой доктрины // Сравнитель-ное конституционное обозрение. 2018. № 2 (123). С. 34–50. https://doi.org/10.21128/1812-7126-2018-2-34-50.
- Гидденс Э. Социология / пер. В. Малышенко и др. М., 1999. 704 с.
- Грабенвартер К. Доктрина свободы усмотрения // Дайджест публичного права. 2016. Вып. 5. С. 1–40.
- Исаев И.А. Выветривание ценностей: благо и законность // История государства и права. 2014. № 13. С. 3–10.
- Кант И. Основы метафизики нравственности // Сочинения : в 6 т. Т. 4, ч. 1. М., 1965. С. 219–310.
- Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения : в 3 т. Т. 3. М., 1988. С. 137–405.
- Мальманн М. Теория ценностей и практика конституционного правосудия // Сравнительное конституционное обозре-ние. 2008. № 6 (67). С. 76–80.
- Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. 800 с.
- Плотников В.И. Ценностный мир человека и его судьба // Двенадцать лекций по философии. Екатеринбург, 1996. С. 193–224.
- Пуделька Й. Понятие усмотрения в административном праве Германии и его отграничение от судебного усмотре-ния // Вестник СПбГУ. Право. 2017. Т. 8, № 4. С. 443–451. https://doi.org/10.21638/11701/spbu14.2017.406.
- Сенякин И.Н., Телегина В.А. К вопросу о социально-правовой ценности российского правосудия // Вестник Саратов-ской государственной академии права. 2008. № 3 (61). С. 12–18.
- Сергеева С.Л. Аксиология юридической деятельности в судопроизводстве // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2016. № 16. С. 118–127.
- Струсь К.А. Судебная власть в системе отношений гражданского общества современной России // Право и государ-ство: теория и практика. 2018. № 6 (162). С. 64–74.
- Токвиль А. де. Демократия в Америке / пер. В.Т. Олейника и др. М., 2000. 559 с.
- Федорова К.С. Судебная система Республики Словения // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2013. № 5. С. 16–21.
- Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. Новосибирск, 1997. 392 с.
- Mavćić A. The protection of fundamental rights by the Constitutional Court and the practice of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia // Science and Technique of Democracy. 1995. No. 15. P. 178–201.
- Orth E.W. Rudolph Hermann Lotze: Mikrokosmos: Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. 3 Bde. Hrsg. von Nikolay Milkov. Hamburg: Felix Meiner, 2017 // Kant-Studien. 2018. Vol. 109, no. 3. P. 504–509. https://doi.org/10.1515/kant-2018-3015.
- White G.E. The American Judicial Tradition: Profiles of Leading American Judges. N. Y., 1976. 441 p.