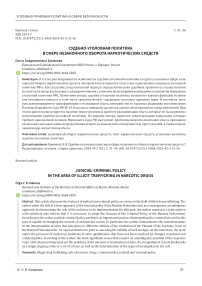Судебно-уголовная политика в сфере незаконного оборота наркотических средств
Автор: Ермакова О.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовно-правовая политика в сфере безопасности
Статья в выпуске: 3 (42), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности судебно-уголовной политики по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств. Автором констатируются отсутствие однозначного подхода к уголовной политике РФ и, как следствие, неоднозначный подход к определению роли судебных органов в ее осуществлении (в этой части автор высказывает солидарное мнения с учеными, полагающими необходимость принятия Концепции уголовной политики РФ). По мнению автора, судебно-уголовная политика, выполняет важную функцию толкования уголовного закона и в этой части способна менять содержание уголовно-правовых норм. В частности, автором демонстрируются трансформации в толковании сбыта, имеющие место в разных редакциях постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14. Отдельное внимание уделяется оценке обоснованности таких изменений. При этом в работе констатируется наличие многочисленных проблем квалификации сбыта, которые не были решены изменениями судебно-уголовной политики. По мнению автора, наиболее существенными вопросами, которые требуют однозначной позиции Верховного Суда РФ, выступают проблемы момента окончания сбыта, признания нескольких закладок единым продолжаемым преступлением либо совокупностью преступлений, а также определения видов соучастников сбыта.
Незаконный оборот наркотических средств, сбыт наркотических средств, уголовная политика, судебно-уголовная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/14131484
IDR: 14131484 | УДК: 343.3.7 | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-42-3-31-36
Текст научной статьи Судебно-уголовная политика в сфере незаконного оборота наркотических средств
В настоящее время в законодательстве либо на уровне подзаконных нормативных правовых актов концепция уголовной политики отсутствует. Однако именно ее принятие позволило бы определить основные направления и методы осуществления деятельности по предупреждению преступлений уголовно-правовыми средствами, в соответствии с которыми следует осуществлять трансформацию и построение предписаний уголовного закона.
Разновидности уголовной политики, а также субъекты ее осуществления также не находят однозначного понимания. В частности, в доктрине уголовного права высказываются многочисленные (зачастую противоположные) точки зрения относительно роли судебных органов в данном процессе.
Вместе с тем по многим преступлениям именно судебное толкование, представленное в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, определяет содержание уголовно-правовых норм, правила квалификации и толкования. Изменения судебных разъяснений способны полностью изменить вектор правоприменительной деятельности. При этом текстуально норма уголовного закона остается не измененной. Особенно явно влияние преобразований судебных разъяснений на правоприменительную деятельность проявляется при анализе преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. При этом обоснованность многочисленных трансформаций толкования в науке уголовного права не достаточно изучена. Аналогично не всегда ясны причины, побуждающие судебные органы осуществлять такие изменения. В связи с изложенным, следует констатировать необходимость оценки преобразований судебного толкования с представлением выводов относительно обоснованности представленных решений по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, что позволит продемонстрировать роль судов в уголовной политике России.
Материалы и методы
Нормативную правовую основу исследования образует уголовное законодательство, регламентирующее ответственность за незаконный оборот наркотических средств. Особое место занимает судебная практика и в частности постановления Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющее содержание предписаний уголовного закона. Методологической основой исследования послужил всеобщий диалектический метод познания социально-правовых явлений, общенаучные методы исследования, а также частнонаучные методы познания — логико-формальный и системного анализа.
Описание исследования
В общем смысле слова уголовная политика означает совокупность положений, сообразуясь с которыми государство должно вести борьбу с преступлениями [1, с. 3–25]. При этом основными формами реализации уголовной политики выступают правотворчество и правоприменение. Именно поэтому уголовная политика осуществляется не только посредством признания деяния преступным, но и путем моделирования определенного состава преступления, а также выработки правил квалификации.
Однако влияние уголовной политики на процессы правотворчества и правоприменения затруднено «отсутствием внятных концептуальных положений, на которых она базируется. Законодателю самому не ясен вектор ее развития», что требует дальнейших разработок в этом направлении [2, с. 22–25]. В этом плане стратегическим шагом для концептуального развития уголовной политики станет разработка Концепции уголовноправовой политики Российской Федерации.
Наличие такой формы реализации уголовной политики, как правоприменение приводит к необходимости выделения в качестве самостоятельного вида судебноуголовной политики [3]. Данная разновидность имеет особое значение, поскольку, с одной стороны, судебные органы, непосредственно соприкасаясь с проявлениями преступности, могут реагировать на происходящие в ее структуре трансформации и менять направление судебной практики (как в квалификации деяний, так и в части назначения наказания). С другой стороны, суд, обладая правом законодательной инициативы (речь идет о Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ), может вносить предложения в законодательные органы с целью реформирования уголовного законодательства.
В последние годы судебно-уголовная политика приобретает все большее значение. Так, принимаемые Верховным Судом РФ постановления выполняют не только функцию судебного толкования содержания уголовного закона, но и в ряде случаев меняют его содержание (при отсутствии изменений текста уголовно-правовых норм).
Именно такая ситуация, демонстрирующая изменения судебно-уголовной политики, имеет место в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 закрепляется общее понятие сбыта как возмездной или безвозмездной деятельности по реализации наркотических средств. При этом такая редакция данного разъяснения имеет место только с 30.06.2015 г., а до этого момента сбыт понимался как передача данных предметов другим лицам1.
Возникает вопрос, по каким причинам судебное толкование было изменено? И как соотносятся между собой термины «реализация» и «передача», употребляемые в разные периоды времени Верховным Судом РФ для разъяснения сбыта наркотических средств?
В первую очередь следует отметить, что понятие «реализация» закрепляется в ст. 39 Налогового кодекса РФ как передача товаров1. Причем в рамках налогового законодательства речь идет в своей основе только о возмездных действиях.
Лексическое значение данного понятия также свидетельствует о его синонимичности с понятием «передача» лишь с той особенностью, что в толковых словарях подчеркивается на длящийся характер этого действия. Иначе говоря, термин «реализация» понимается как процесс осуществления факта передачи. В свою очередь термин «передача» предполагает вручение какого-либо предмета [4].
На основании представленного значения исследуемых терминов можно представить следующий вывод — по своей сути понятие «реализация» и «передача» это смысловые аналоги.
Именно поэтому в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 142 при перечислении способов реализации используется опять-таки термин «передача» , которая может осуществляться непосредственно, путем сообщения о месте нахождения наркотических средств, проведения закладки, введения инъекции ( курсив мой — О. Е. ).
Однако несмотря на вывод, относительно синонимичности данных терминов, Верховным судом РФ преследовалась цель демонстрации сложного процесса сбыта, осуществляемого в современных реалиях не «из рук в руки», а бесконтактными способами с использованием информационно-телекоммуникационных технологий путем проведения «закладок». А учитывая, что лексическое значение термина передача достаточно узкое и ограничено вручением предмета, то использование термина «реализация», обладающего более широким содержанием и отражающего сложный процесс, представляется логичным.
Особый интерес представляет использование термина «деятельность» для разъяснения сбыта.
В науке уголовного права имеются разработки общественно опасного деяния в зависимости от уровня сложности выполняемых действий. В частности, авторами выделяются такие разновидности деяния, как действие, операция (то есть совокупность действий) и деятельность (представляет собой совокупность операций) [5, с. 29–30].
Принимая во внимание, что процесс сбыта, особенно осуществляемый бесконтактно характеризуется сложностью действий, а также множественными участниками, то следует признать обоснованным олицетворение процесса сбыта с деятельностью.
Проведенное исследование изменений Верховным Судом РФ разъяснений понятия сбыта и вывод относительно их обоснованности, не свидетельствует о том, что предложенное толкование не вызывает проблемы квалификации данных деяний. Наоборот, можно констатировать отсутствие принципиальной и однозначной позиции судебных органов в части следующих вопросов квалификации сбыта.
Одной из первых таких проблем выступает определение момента окончания сбыта наркотических средств. Если в редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ до 30.06.2015 г. разъяснения, касающиеся признания сбыта оконченным преступлением, не приводились, то с указанного периода был введен п. 13.1, в котором выполнение лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств независимо от их фактического получения приобретателем объявляется моментом окончания ( курсив мой — О. Е. ).
Указанные разъяснения еще раз свидетельствуют о том, что Верховный Суд РФ понятия «передача» и «реализация» признает синонимичными и использует в качестве взаимозаменяемых. Однако учитывая сложность и бесконтактный характер действий по реализации наркотических средств, судом разграничиваются действия сбытчика и приобретателя, которые зачастую совершаются в разное время и не зависят друг от друга.
То есть фактически для признания сбыта оконченным не требуется, чтобы покупатель уже получил наркотические средства. Достаточно совершение всех активных действий самим сбытчиком.
В том случае, если лицо совершило не все действия, например еще не заложило закладку с наркотическим средством, то не вызывает сомнения верность квалификации данного деяния как покушения на сбыт (ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ).
Так, например, согласно обвинительному заключения ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю «неустановленные лица с использованием информационно-телекоммуникационной сети создали интернет-магазин для реализации наркотических средств. При помощи переписки в различных системах они стали привлекать соучастников с целью совместного совершения преступлений. Вследствие чего данные лица познакомились с М. и предложили участвовать с ними в незаконных сбытах на территории г. Барнаула и г. Новосибирска. В соответствии с распределением ролей М. должен был получать информацию о местонахождении закладок с оптовыми партиями наркотических средств, перевозить и хранить данные средства, помещать их в малозаметные места-тайники для последующего сбыта покупателям. М., действуя в составе указанной группы, получил указание забрать партию наркотического средства и переместить в г. Барнаул с целью последующего сбыта. Реализуя свой умысел, М. получил информацию о местонахождении оптовой партии и забрал наркотическое средство. Однако впоследствии во время перемещения в г. Барнаул был задержан»1.
В данном примере интерес представляет квалификация действий неустановленных лиц. Полагаем, что в случае отсутствия данных о наличии единой группы лиц по предварительному сговору, объединяющей их с М., сообщение информации об оптовой закладке уже позволяло бы вменить оконченное преступление. Однако учитывая наличие группы лиц по предварительному сговору, а также принимая во внимание, что реализация иным лицам, не входящим в субъектный состав группы, не состоялась, признание действий покушением на преступление является обоснованным.
Вопрос о квалификации действий лиц в случаях, когда закладка уже заложена, однако приобретатель ее не получил, в судебной практике решается не однозначно.
В частности, в качестве одного из примеров деятельности по реализации в п. 13 обозначенного постановления Пленума Верховного Суда РФ приводится сообщение информации о месте нахождения наркотического средства.
При этом возникает вопрос: для признания деяния оконченным, кому должен предоставить информацию о произведенной закладке сбытчик, потенциальному покупателю, координатору, который принимает заказы, или любому лицу?
В судебной практике стадия покушения на преступление вменяется в тех случаях, когда лицо не предоставило информацию о месте закладки покупателю.
Так, в кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 28 октября 2020 г. утверждается, что «необходимым условием сбыта является доведение информации о местонахождении тайников до потребителя»2.
Аналогично предлагается вменять стадию покушения на преступление в тех ситуациях, кода координатор получил информацию о закладке, однако не передал по каким-либо причинам ее покупателю [6].
Считаем, что такая квалификация достаточно сомнительна, поскольку лицо, осуществляющее закладку, выполнило все требующиеся от него действия по реализации, что полностью соответствует моменту окончания преступления с конструкцией формального состава.
Еще одним вопросом квалификации сбыта наркотических средств, не получившим разрешения в постановлении Пленума Верховного Суда РФ и в судебной практике, выступает отграничение единичного продолжаемого сбыта от совокупности преступлений.
В правоприменительной деятельности длительное время господствовала позиция, заключающаяся в том, что каждый факт закладки образует самостоятельное преступление.
Например, С. было вменено два эпизода сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. При этом в приговоре указано, что С. получил для осуществления закладок партию синтетических наркотических средств. 11.06.2021 г. он сделал закладку в тайнике, адрес которого сообщил неустановленному следствием лицу3.
В определении суда кассационной инстанции Верховного Суда РФ от 26.07.2016 г. № 5-УД16-61, вынесенном «в связи с подачей осужденным О. кассационной жалобы на необоснованную квалификацию его действий в качестве самостоятельных преступлений указано, что осужденный покушался на сбыт наркотических средств двум разным лицам. Из показаний осужденного не усматривается, что изначально была договоренность на приобретение всего объема наркотических средств»4.
Решение вопроса квалификации действий лица следует из самого понятия продолжаемого преступления как деяния, состоящего из тождественных действий, совершаемых с единым умыслом.
В разъяснении Генеральной прокуратуры РФ указывается, что правовая оценка зависит от времени, места и способа совершения деяния. Так, если закладки осуществляются с незначительным разрывом во времени, то очевиден единый умысел на реализацию и содеянное образует продолжаемое преступление. В свою очередь, организация тайников в разных населенных пунктах свидетельствует о множественности деяний.
В этой части полагаем, что само по себе различие и отдаленность мест совершения закладок еще не демонстрирует правильность применения правил совокупности преступлений. К примеру, «Д. получив крупнооптовую партию наркотического средства, в период с апреля по май 2023 г. реализовывал ее путем осуществления закладок на территории Алтайского края и Новосибирской области. При этом действия Д. были квалифицированы по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как единое продолжаемое преступление»5.
Исходя из этого, возможно выделить несколько типовых ситуаций, свидетельствующих о наличии продолжаемого преступления либо совокупности (при этом представляется необходимым учитывать количества тех лиц, кому осуществляется сбыт, размер наркотического средства, умысел виновного, время осуществления):
-
1. Сбыт осуществляется в несколько приемов, но одному лицу, при этом лица заранее договорились о реализации всего объема — продолжаемое преступление [7, с. 41–46];
-
2. Сбыт производится разным лицам, но сговор был сразу на реализацию всего объема наркотических средств — продолжаемое преступление;
-
3. Наличие у лица одной партии наркотических средств, из которой и происходила реализация — продолжаемое преступление;
-
4. Сбыт совершался с неопределенным умыслом, ситуативно — совокупность преступлений.
Третья группа проблем связана с определением видов соучастников преступления. Правильное решение данного вопроса влияет не только на квалификацию преступления (действия исполнителя не требует ссылки на ст. 33 УК РФ, в отличие от действий иных соучастников (ст. 34 УК РФ)).
В осуществлении бесконтактного сбыта участвуют большое количество субъектов, роли которых существенным образом различаются. В частности, исследователями в области криминологической науки выделяются: координаторы (которые осуществляют общее руководство процессом сбыта), закладчики (лица, которые делают закладку в установленном месте), диспетчеры (лица, производящие переписку с приобретателем), кассиры (функция которых заключается в обналичивании денежных средств, полученных от сбыта) и т. д. [8, с. 194–200].
При определении роли лиц, задействованных в процессе совершения преступления, в первую очередь следует руководствоваться понятием сбыта, поскольку характеристика действий образующих объективную сторону преступления напрямую влияет на признание лица исполнителем (соисполнителем).
Учитывая, что деятельность по реализации включает в себя различные проявления в виде создания сайтов по продаже наркотиков, координацию, общение с будущими закладчиками и т. д., любое ее проявление можно признать выполнением объективной стороны. Соответственно, действия таких лиц следует квалифицировать в качестве соисполнительства.
Если же совершенные лицом действия выходят за рамки реализации, к примеру, обналичивание полученных денежных средств осуществляется уже после сбыта, то такое деяние образует пособничество и квалифицируется со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ.
При этом в случае, когда лицо передает приобретателю наркотические средства по просьбе (поручению) другого лица, которому они принадлежат, его действия следует квалифицировать как соисполнительство в незаконном сбыте.
Заключение и вывод
Таким образом, одной из составных частей уголовной политики следует признать судебно-уголовную политику. Формами ее реализации в первую очередь выступают постановления Пленума Верховного Суда РФ, поскольку представленные разъяснения способны менять содержание уголовно-правовых норм. Проведенный анализ трансформации судебно-уголовной политики относительно понимания сбыта наркотических средств демонтирует ее существенное влияние на определение момента окончания преступления, видов соучастников преступления, а также на решение вопроса признания деяния единым продолжаемым преступлением либо совокупностью преступлений. С позиции обоснованности произведенных Верховным Судом РФ изменений необходимо отметить, что предложенное понятие сбыта наркотических средств как деятельности по реализации с одной стороны находится в одной плоскости и частично синонимично понятию «передача», которое использовалось ранее для толкования данного преступления. При этом термин «деятельность» наиболее точно отражает сложный процесс сбыта наркотических средств, состоящий из многочисленных действий.
Список литературы Судебно-уголовная политика в сфере незаконного оборота наркотических средств
- Лопашенко Н. А. Уголовная политика. Москва: Волтерс Клувер, 2009. 609 с. EDN: QQZKED
- Плаксина Т. А. Проблемы современной уголовной политики // Гражданское общество и правовое государство. 2015. Т. 1. С. 22-25. EDN: TIWMIZ
- Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Преступность и судебно-уголовная политика // Журнал российского права. 2021. № 12. С. 26-40. DOI: 10.12737/jrl.2021.145 EDN: VHUEJZ
- Новый толковый словообразовательный словарь русского языка / под ред. Т. Ф. Ефремовой. Москва: Русский язык, 2000. 2310 с.
- Ермакова О. В. Отражение общественно опасного деяния и механизма его совершения в нормах особенной части Уголовного кодекса РФ (концептуальные основы). Москва: Юрлитинформ, 2022. 384 с. EDN: ZGPTON
- Бугера Н. Н. Сбыт наркотических средств через тайники-закладки: правоприменительный аспект // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2023. № 1 (64). С. 16-21. DOI: 10.25724/VAMVD.A070 EDN: SKKGMQ
- Хромов Е. В. Квалификация неоднократных фактов сбыта наркотических средств в решениях Верховного Суда РФ // Законность. 2022. № 10. С. 41-46. EDN: JACUGF
- Сретенцев А. Н. Особенности "бесконтактного" способа сбыта наркотических средств или психотропных веществ на современном этапе с использованием сети Интернет // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: сборник материалов, Орел, 25 мая 2018 года. Орел: Орловский юридический институт МВД России им. В. В. Лукьянова, 2018. С. 194-200. EDN: YRTAFF