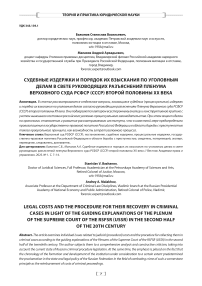Судебные издержки и порядок их взыскания по уголовным делам в свете руководящих разъяснений пленума Верховного суда РСФСР (СССР) второй половины XX века
Автор: Бажанов С.В., Малахов А.А.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 1 (82), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся судебных (процессуальных) издержек и порядка их взыскания по уголовным делам согласно руководящим разъяснениям Пленума Верховного суда РСФСР (СССР) второй половины ХХ века. Они подвергаются автором всестороннему анализу и конструктивной критике с учетом нынешнего состояния российского уголовно-процессуального законодательства. При этом акцент сделан на хронологии становления и развития рассматриваемого института, что в известной мере предопределило провозглашение в государственно-правовой политике Российской Федерации в области борьбы с преступностью такого краеугольного принципа, как возмездность затрат уголовного процесса.
Верховный суд рсфср (ссср), постановление, судебные издержки, процессуальные издержки, государственно-правовая политика российской федерации в области борьбы с преступностью, свидетель, потерпевший, эксперт, переводчик, следователь, дознаватель
Короткий адрес: https://sciup.org/14132921
IDR: 14132921 | УДК: 343.139.1
Текст научной статьи Судебные издержки и порядок их взыскания по уголовным делам в свете руководящих разъяснений пленума Верховного суда РСФСР (СССР) второй половины XX века
К ак известно, в начале ХХ века в советской исправительно-трудовой политике возобладало правило, согласно которому начисление заработной платы осужденным производилось с учетом частичного возмещения ими расходов по содержанию исправительно-трудовых учреждений (далее – ИТУ). В прикладной плоскости, как пишут составители отраслевого учебника, такая установка олицетворяла собой необременительное для властей употребление так называемых понижающих коэффициентов, при выработке которых заработок осужденного оказывался гораздо ниже того, который за аналогичную работу получал свободные граждане.
Сформировавшийся вследствиесказанного прототип (частично) самоокупаемой уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), максимально приближенный к сообразному опыту, создавал труднопреодолимые препятствия для торжества восстановительной государственно-правовой политики Советской России в области борьбы с преступностью, ибо вред, причинявшийся уголовно наказуемым деянием как физическим лицам (пострадавшим), так и государственным предприятиям реального сектора экономики, довольно часто оказывался не восполненным. О возмещении судебных затрат республиканскому бюджету речи не шло вовсе. В их числе не возбраняется выделить расходы, которые претерпевали органы уголовной юстиции, привлекая народных заседателей к исполнению непрофессиональных для них обязанностей в судах.
Уголовно процессуальный кодекс (далее – УПК) РСФСР, принятый Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 года [1], учредил виды судебных издержек и порядок их взыскания по уголовным делам (ст. 105107). Об этом говорилось и в Указе Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 октября 1961 года «О порядке возмещения народным заседателям расходов, связанных с исполнением ими обязанностей в суде» (далее – Указ) [3]: народным заседателям, не являющимся рабочими и служащими, оплачивается по 1 рублю за каждый день исполнения ими своих обязанностей. Тем же из них, кто являлся таковыми, в случае выезда для исполнения означенных обязанностей в судах вне места постоянного жительства помимо сохранения заработной платы начисляются суточные, а также возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения в соответствии с нормами оплаты служебных командировок.
Дополнительно подчеркивалось, что предусмотренное ст. 1 и 2 Указа возмещение расходов народным заседателям производится из средств надлежащего суда не позднее дня с момента исполнения ими своих обязанностей [21, с. 185].
Законом РСФСР от 25 июля 1962 года «Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР» [4] среди прочего декларировалось, что труд адвоката оплачивается из средств, поступивших в юридическую консультацию от граждан, предприятий, учреждений, организаций и колхозов за оказание им юридической по-мощи(ст. 35). Средства коллегии адвокатов образуются из сумм, отчисляемых юридическими консультациями; их размер конкретизируется конференцией членов коллегии адвокатов. В любом случае он не должен превышать 30,0 % от суммы поступившего в юридическую консультацию гонорара (ст. 44) [21, с. 187-193].
Аналогичные предписания, как бы под копирку, воспроизводились в Постановлении Пленума Верховного суда СССР от 18 марта 1963 года № 4 «Об устранении недостатков в практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и судебных издержек по уголовным делам» [12]. При рассмотрении уголовных дел суды во многих случаях не обсуждают вопрос о взыскании с осужденных судебных издержек, не всегда настаивают на приобщении к уголовному делу справок о судебных издержках, понесенных в ходе предварительного следствия либо дознания, нередко взыскивают их с осужденных в солидарном порядке, что не отвечает духу закона.
Отдельным тезисом в их число не рекомендовалось вносить:
-
• сохраняемый в соответствии с законом сред ний заработок по месту работы за лицом, вызываемым в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, переводчика и понятого, за всё время, затраченное им в связи с вызовом к лицу, производящему дознание, следователю, прокурору или в суд;
-
• суммы, выплачиваемые эксперту или пере водчику, за исполнение ими обязанностей в суде или в органах предварительного следствия (дознания) в порядке служебного задания, а также канцелярские и почтовые расходы, связанные с производством по уголовному делу [22, с. 83-87].
Содержание процитированного выше Постановления Пленума Верховного суда СССР от 18 марта 1963 года № 4 было скорректировано постановле- нием Пленума Верховного суда СССР от 22 декабря 1964 года № 18 «О некоторых процессуальных вопросах, возникших в судебной практике при исполнении приговоров» [10]. В документе разъяснялось, что в силу ст. 368 УПК РСФСР помимо вопросов, напрямую включенных в нее, суды при возникновении необходимости вправе устранять в порядке, предусмотренном ст. 369 УПК РСФСР, лишь такие сомнения и неясности, открывшиеся в приговоре, решение которых не затрагивает его существа и не влечет ухудшения положения осужденного. Среди них выделялись, например:
-
ж) об определении размера и распределении судебных издержек, если эти вопросы не получили разрешения в приговоре;
-
з) оплате труда защитника, участвовавшего в уголовном деле по назначению суда, если этот вопрос не был разрешен одновременно с постановлением приговора [22, с. 338-343].
Более поздним Постановлением Пленума Верховного суда СССР от 21 марта 1968 года № 3 «Об устранении недостатков в практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и судебных издержек по уголовным делам» [14] в правоприменительную практику были внесены дозированные по-правки.Указанныйдокументсодержал рекомендации по возмещению судебных издержек, о которых говорилось в Постановлении Совета министров РСФСР от 19 апреля 1965 года № 485 «Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения свидетелям, потерпевшим, экспертам, переводчикам и понятым в связи с вызовом к лицу, производящему дознание, следователю, прокурору или в суд» [9]. В постановлении указывалось, что все они имеют право на возмещение понесенных в связи с этим расходов (стоимость проезда к месту вызова и обратно, расходы по найму жилого помещения и суточные). И хотя в п. 12 упоминалось, что суммы, выплачиваются немедленно по выполнении ими своих обязанностей независимо от фактического получения и взыскания со сторон судебных расходов по гражданским делам или судебных издержек с осужденных по уголовным делам, остается только догадываться, насколько добросовестно выполнялись отмеченные наставления должностными лицами органов уголовной юстиции. Строгое прочтение поименованного документа не оставляло для подобного рода компенсаций решительно никаких шансов, особенно в стадии возбуждения уголовного дела и в условиях нарождавшейся еще только протокольной формы досудебной подготовки материалов.
Приведенные установки были доработаны в Постановлении Совета министров РСФСР от 14 июля 1990 года № 245 «Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд (кроме Конституционного суда Российской Федерации и Высшего арбитражного суда Российской Федерации) [11], а затем в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 года №5362-VI «Об усилении ответственности за хулиганство» [5], легализовавшем, к месту заметим, описанную выше протокольную форму досудебной подготовки материалов в довольно умозрительном виде. В данном указе было заверено, что лечение хулиганов и иных преступников, получивших телесные повреждения при оказании сопротивления гражданам, пресекавшим их противоправные действия или принимавших меры к их задержанию, производится за счет самих преступников.
В связи с этим лицо, виновное в умышленном причинении вреда здоровью другого лица, и само получившее телесное повреждение при обстоятельствах, перечислявшихся в ст. 16 настоящего указа, обязывалось возмещать государству расходы не только на стационарное лечение пострадавшего, но и на свое собственное.
Посредством подобного декретирования государство оригинальным и, надо признать, рентабельным для собственных фискальных интересов способом избавляло себя от бремени расходов, неконтролируемо разраставшихся на фронте борьбы с преступностью.
Как видим, список претендентов на возмещение судебных издержек лимитировался узким кругом вспомогательных участников уголовного процесса, а порядок их взыскания по уголовным делам носил преимущественно показательный характер.
В приказе Генерального прокурора СССР от 24 февраля 1972 года № 6 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями государственным, кооперативным и общественным организациям» упор делался на то, чтобы при освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, в предусмотренных законом случаях принимались действенные меры к возмещению ущерба путем предъявления иска в порядке ст. 29 п. 2 Основ гражданского судопроизводства [18].
Непредвзятое изучение указанной директивы позволяет убедиться, во-первых, в том, что под материальным ущербом в ней по-прежнему подразумевался тот, который причинялся государственным предприятиям, а не самому государству. Во-вторых, в режиме скрытой деспотии советского режима реверанс в рассматриваемых случаях делался в пользу принудительных юридических акций, а не индивидуальных починов, произраставших из встречных интересов уголовных ответчиков.
Учтя накопленный в этом смысле опыт и исходя по всей видимости из установок Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 года № 4409-VIII «О возмещении средств, затраченных на лечение граждан, потерпевших от преступных действий» [6], денежные активы, шедшие на лечение потерпевших от умышленных преступных действий, стали взыскиваться в доход государства.
В развитие обсуждаемой новеллы Совет министров СССР 31 августа 1973 года среди заинтересованных министерств и ведомств распространил Постановление № 636 «Об установлении ставки для исчисления средств, затраченных на стационарное лечение граждан, потерпевших от преступных действий» [10]. Кроме того, согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного суда РСФСР от 26 сентября 1973 года № 8 «О судебной практике по применению законодательства о взыскании судебных издержек по уголовным делам» [15] к расходам органов дознания, следствия и суда, понесенным при производстве по уголовному делу, непосредственно связанным с собиранием и исследованием доказательств виновности подсудимого и не перечисленным в п. 1 ч. 2 ст. 105 УПК РСФСР, стали относить возмещение стоимости вещей, подвергшихся порче или уничтожению при производстве следственных экспериментов или экспертиз, а также затрат на возмещение расходов лицам, предъявленным для опознания (кроме обвиняемых), и др.
Судебные издержки в силу требований п. 4 анализируемого постановления подлежали востребованию в доход государства с лиц, в отношении которых выносился обвинительный приговор. В тех случаях, когда суд приходил к выводу о необходимости принятия судебных издержек на счёт государства, в итоговом процессуальном документе предписывалось приводить мотивы для принятия соотносимого решения.
При оправдании подсудимого по одной из статей предъявленного ему обвинения либо исключении одного или нескольких эпизодов из такового (обвинения), судебные издержки, связанные с последним или с подобающими эпизодами, принимались на счет государства.
В случае осуждения по уголовному делу нескольких подсудимых судебные издержки подлежали взысканию с каждого из осужденных в долевом порядке с учетом формы вины, степени ответственности и имущественного положения «подельников» [20, с. 248].
Примерно в это же время вышло Постановление Пленума Верховного суда СССР от 13 декабря 1974 года № 9 «О практике применения судами Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 года № 4409-VIII «О возмещении средств, затрачен- ных на лечение граждан, потерпевших от преступных действий» [16], которое обобщило накопленный в этой части назидательный опыт.
В конце 70-х годов XX века положения проиллюстрированных выше документов были детализированы в Законе СССР от 30 ноября 1979 года «Об адвокатуре СССР», где, в частности, говорилось о том, что штаты, должностные оклады, фонды заработной платы и сметы административно-хозяйственных расходов коллегий адвокатов не подлежат регистрации в финансовых органах. Особо пояснялось, что они (коллегии адвокатов) не должны облагаться государственными и местными налогами и сборами [21, с. 311-315].
Что касается прочих составляющих совокупного ущерба, причиняемого «коллективному участнику уголовных правоотношений», то среди них далеко не последнее место занимали расходы, связанные с возмещением денежных потерь участникам уголовного процесса, выплатой вознаграждений, компенсацией затрат, обуславливавшихся выполнением переводов, проведением различного рода экспертиз и др.
В Постановлении Пленума Верховного суда СССР от 23 марта 1979 года № 1 «О практике применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением» [17], было сказано, что орган дознания, следователь и прокурор при отказе в возбуждении уголовного дела либо при его прекращении обязаны принять меры к возмещению материального ущерба, если этого не было сделано добровольно.
Приблизительно такие же последствия со ссылкой на ч. 2 ст. 310 УПК РСФСР возникали при освобождении обвиняемого (подсудимого) от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР.
В целом советская уголовная и исправительнотрудовая политика того периода свидетельствует о том, что труд осужденных в 70-е годы ХХ века позволял МВД СССР не только входить в пятерку ведущих «промышленных» министерств страны, но и быть надежным (безрисковым) источником дополнительных финансовых поступлений в доходную часть всесоюзного «денежного мешка» (государственного бюджета).
Так или иначе, но какого-либо принципиального воздействия на развитие компромиссных форм досрочного окончания уголовного и (тем более) уголовно-исполнительного (судебного) процесса данное обстоятельство, к сожалению, не оказало.
Вместе с тем безудержная эксплуатация труда заключенных, наблюдавшаяся в повременной пенитенциарной системе, никоим образом не умаляла перспективности принципа возмездности затрат уголовного процесса как идеи. Институт судебных издержек, формировавшийся в его недрах, его мак- симальная настроенность на снижение сверхнормативных убытков, претерпеваемых органами уголовной юстиции, должен был обрести более достойное нормативно-правовое закрепление и поэтапное внедрение в правоохранительную практику по мере того, как стабилизировались социально-экономические отношения, поддерживающие комментируемую парадигму на плаву.
Надо заметить, что словообразования «судебные пошлины», «судебные затраты», «судебные из-держки»,«ущерб» и «вред», приобретенныесоветской гуманитарной наукой на описываемом этапе, были аккумулированы в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года № 4892-Х «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей» и одобренным положением с одноименным названием [8].
Примерно тогда же перечисленные терминологические выражения были скопированы межведомственной Инструкцией Минюста СССР, Прокуратуры СССР и Минфина СССР по применению положения о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда от 2 марта 1982 года(с изменениями на 19.07.2011) [24; 26].
Квинтэссенцией в перечисленных нормативных правовых актах и документах выступала идея, что ущерб, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, возмещается государством в полном объеме независимо от формы вины должностных лиц органовдознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Не вызывает сомнений тот факт, что внимание субъектов, являвшихся непосредственными пользователями упомянутых выше источников права, направлялось главным образом на трогательную опеку жизни и здоровья подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. Что касается пострадавших-потерпевших, а также третьих лиц, которые могли потенциально становиться ее объектами, то их чаяния из сферы трепетной заботы должностных лиц органов федеральной власти из виду выпадали.
В качестве составной части затрат уголовного процесса судебные издержки должны всемерно учитываться и по возможности уменьшаться в ходе совершенствования государственно-правовой политики Российской Федерации в области борьбы с преступностью, ибо гарантирование защиты исконных прав и законных интересов потерпевших в различных стадиях уголовного процесса омрачается сегодня как минимум двумя неистребимыми факторами:
-
1) публичным началом;
-
2) целеполаганием уголовного законодательства, согласно которому объектом уголовно-правовой охраны по-прежнему остаются общественные отношения, а не их стороны, в том числе законопослушные граждане, являющиеся первичными ячейками любого цивилизованно организованного общества.
И в завершение.В УПК РФ,введенном в действие Федеральным законом от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ [2], словосочетание «судебные издержки» переиначено на «процессуальные издержки» (ст. 131, 132), и надо полагать, что, будучи приложимыми ко всем стадиям уголовного процесса, они должны интерпретироваться исключительно таким образом. С указанной метаморфозой следует согласиться. Однако веские аргументы ввиду их громоздкости можно будет привести только в отдельной публикации.
Не нужно игнорировать также и то, что формулировка «процессуальные издержки» удобоваримо воспринимается лишь на страницах УПК РФ. Вне рамок ее целесообразно снабжать объяснительными эпитетами, так как процесс как таковой присущ не только уголовной, оперативно-розыскной и административной, но и любой другой отрасли (материального) права.