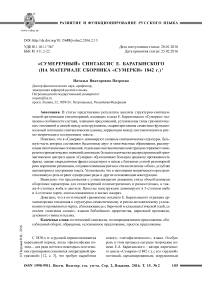"Сумеречный" синтаксис Е. Баратынского (на материале сборника "Сумерки" 1842 г.)
Автор: Патроева Наталья Викторовна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты анализа структурно-синтаксической организации стихотворений, входящих в цикл Е. Баратынского «Сумерки»: выявлены особенности состава, членения предложений, установлены типы грамматических отношений и связей между конструкциями, охарактеризованы семантико-функциональный потенциал синтаксических единиц, корреляции между синтаксическим и ритмо-метрическим построением текста. Показано, что в «Сумерках» доминируют сложные синтаксические структуры, бульшую часть которых составляют бессоюзные двух- и многочастные образования, реализующие гипотаксисные отношения; отдельные синтаксические конструкции отражают синкретизм грамматических значений синтаксем; большое количество распространителей грамматического центра в цикле «Сумерки» обусловливает большую среднюю протяженность фразы, однако сверхдлинные фразы соседствуют в цикле с близкими устной разговорной речи короткими репликами, создавая изменение ритма и стилистические «сбои», углубляя асимметрию в построении текста. Установлено, что в заполнении метрического пространства важную роль играют однородные ряды и другие осложняющие конструкции. Выявлено, что предложения с утяжеляющими движение стиха обособленными оборотами характерны для стихотворений полиметрических и разностопных, а также 6-стопных ямба и дактиля. Простые конструкции доминируют в 5-стопном ямбе и 4-стопном хорее, использовавшихся в малых жанрах. Доказано, что в поэтической грамматике позднего Е. Баратынского отражена архаизаторская тенденция к структурно-семантическому и ритмо-мелодическому усложнению и проявляются черты, сближающие ее с барочной и классицистической одой, со стилем «плетения словес», языком библейского пророчества, церковной проповеди, духовного гимна и псалма.
Поэтический синтаксис, полипредикативное предложение, обособленный оборот, обращение, осложненное предложение, простое предложение
Короткий адрес: https://sciup.org/14969957
IDR: 14969957 | УДК: 811.161.1'367 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.2.13
Текст научной статьи "Сумеречный" синтаксис Е. Баратынского (на материале сборника "Сумерки" 1842 г.)
DOI:
С 1830-х гг. в русской лирике начинается переходный период, когда «философская поэзия... для ряда поэтов и некоторых поэтических группировок становится литературной программой» [12, с. 3], что требует выработки
нового, «метафизического», языка. Особую роль в этом процессе сыграли творческие поиски Е.А. Баратынского – автора лирического цикла «Сумерки» (1842 г.), с его «трудной» поэтикой, «архаизированным, затрудненным
языком» [21, с. 404] 2, «сгущенной» метафоричностью. Поэтический синтаксис позднего Баратынского, с его ораторской, патетической интонацией, и стих, звучащий «необычайно торжественно и величаво», как будто осуществляющий «восхождение мысли» [8, с. 63], «ее органическое саморазвитие» [9, с. 97], «сам процесс мышления» [8, с. 61], уже обращали на себя внимание исследователей, но не лингвистов, а литературоведов.
Их общие замечания, касающиеся намеренной архаизации слога и усложнения грамматической структуры произведений на позднем этапе творчества Баратынского, очевидно, нуждаются в подкреплении необходимой эмпирической базой, которая позволила бы выявить средства создания оригинального стиля «Сумерек» и ту роль, которую играет синтаксис в композиции и ритмо-метрической организации стихотворений, вошедших в последний сборника поэта 3.
Задачей статьи является анализ структурно-синтаксической организации стихотворений цикла «Сумерки»: особенностей состава, членения предложений, типов грамматических отношений и связей между конструкциями, выявление семантико-функционального потенциала синтаксических единиц, корреляции между синтаксическим и ритмо-метрическим построением текста.
По структурно-грамматическому признаку поэтические высказывания Баратынского разнообразны (табл. 1).
Преобладание сложных предложений над другими структурными разновидностями, думается, вполне предсказуемо, во-первых, потому, что поэтический синтаксис вообще характеризуется сугубой сложностью, поддержанной родовым для лирики требованием выразить максимум личностно окрашенного размышления, переживания в сжатой форме стихотворения, во-вторых, философской направленностью сборника «Сумерки», посвященного главной для зрелого Баратынского теме – судьбе поэта и поэзии в «веке промышленных забот». Предсказуемость синтаксической организации медитативного цикла означает, однако, и то, что восприятие многократно усложненного грамматическими позициями и смыслами текста мало соответствует установке «среднестатистического» читателя на быстрое прочтение и понимание стихотворений.
Среди сложных структур в «Сумерках» бóльшую часть составляют бессоюзные двух- и многочастные образования, что отражает характерную для лирики в целом грамматическую тенденцию (см., напр.: [18, с. 46]): бессоюзные предложения позволяют создавать протяженные пара- или гипотаксисные ряды при экономии метрического пространства, а также «непрозрачные», недостаточно дифференцированные, семантически синкретичные фразы, что усложняет задачу читателя, пытающегося интерпретировать сопряжения «далековатых» [10, c. 111] подчас идей как обычные для языка грамматические отношения (перечислительные, пояснительные, мотивационные и т. п.). Например:
Цветет Парнас! пред ним, как в оны годы, Кастальский ключ живой струею бьет;
Нежданный сын последних сил природы, Возник поэт: идет он и поет ( с. 119);
Таблица 1
Структурная организация предложений в «Сумерках»
|
Тип предложения |
Кол-во репрезентаций |
|
|
абсолютное |
относительное |
|
|
Двусоставные элементарные простые предложения |
25 |
22 % |
|
Односоставные элементарные простые предложения |
12 |
|
|
Двусоставные осложненные простые предложения |
29 |
19 % |
|
Односоставные осложненные простые предложения |
2 |
|
|
Сложносочиненные бинарные предложения |
15 |
59 % |
|
Сложноподчиненные бинарные предложения |
9 |
|
|
Бессоюзные бинарные предложения |
23 |
|
|
Многокомпонентные бессоюзные предложения |
11 |
|
|
Многокомпонентные сложносочиненные предложения |
4 |
|
|
Многокомпонентные сложноподчиненные предложения |
2 |
|
|
Многокомпонентные с разными типами связи |
33 |
|
или:
Еще, как Патриарх, не древен я; моей Главы не умастил таинственный елей: Непосвященных рук бездарно возложенье! ( с. 151)
В этих контекстах части конструкций объединены в сложное целое общей идеей вдохновения, творчества, «посвященности / непосвя-щенности» в его тайны, хотя логически могли бы быть расчленены на самостоятельные предложения, что облегчило бы восприятие текста. Однако Баратынский, усложняя текст, заставляет читателя задержаться мысленным взором на фразе, вслушаться в иную интонацию и попытаться мотивировать цель сближения, а не отдаления отрезков текста.
Возможность «зашифровать» текст реализуют и предложения с сочинительными союзами. Посредством «странноватых» сои противопоставлений, дублирования союзов, выражающих каждый раз несколько иной смысл, происходит нанизывание релятов, которое замедляет процедуру интерпретации текста читателем:
Век шествует путем своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья, Промышленным заботам преданы (с. 118).
Расположенные в соседних высказываниях союзы неясно выражают разные оттенки обусловленности: первый – вероятно, следствие, второй – вероятно, причину. Впрочем, и противоположная интерпретация также не может быть с уверенностью отринута.
Приведем пример использования сначала в однородном ряду, а потом между предикативными частями семантически «двоящегося» союза но :
Суровый смех ему ответом; персты Он на струнах своих остановил, Сомкнул уста вещать полуотверсты, Но гордыя главы не преклонил:
Стопы свои он в мыслях направляет
В немую глушь, в безлюдный край, но свет Уж праздного вертепа не являет,
И на земле уединенья нет! (с. 119)
В сочинительных рядах релят выступает поначалу как носитель противительно-уступительного значения, затем оказывается синонимичным союзу однако со значением несоответствия.
Активно использует Баратынский анафорический союз и – в контексте «Сумерек», с их проповедническим пафосом, как явную отсылку к библейскому построению текста: И вот сентябрь! И вечер года к нам // Подходит... (с. 124); И по-прежнему блистает // Хладной роскошию свет... (с. 120); И один я пью отныне! (с. 123); И я даю тебе мое благословенье // Во знаменье ином, о дева красоты! (с. 151).
Отсылки к священным для Баратынского сакральному тексту и произведениям поэтов, близких автору по духу (Ломоносову, Державину, Жуковскому, Батюшкову, Пушкину, Вяземскому, Дельвигу), – одна из циклообразующих доминант «Сумерек». Эти аллюзии, реминисценции часто вводятся в ткань сборника как синтаксические структуры, реализующие ги-потаксисные отношения, например:
Братайтеся, к взаимной обороне Ничтожностей своих вы рождены;
Но дар прямой не брат у вас в притоне, Бездарные писцы-хлопотуны!
Наоборот, союзным на благое,
Реченного достойные друзья,
«Аминь, аминь, – вещал он вам, – где трое Вы будете – не буду с вами я »4 (с. 152);
или:
Когда на играх Олимпийских ,
На стогнах греческих недавних городов, Он пел, питомец муз, он пел среди валов Народа, жадного восторгов мусикийских, В нем вера полная в сочувствие жила... (с. 155)
Гипотаксис широко представлен не только в сложноподчиненных предложениях, но и в бессоюзных конструкциях со значениями обусловленности, пояснения и изъяснения: Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным,// Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье – одно (с. 152), в системе союзных предложений при выражении атрибутивных, уподобительных, темпоральных и пространственных отношений, отношений причины и условия, а также поддержан многочисленными соединительноследственными по значению сочинительными структурами. Например:
Но если бы негодованья крик,
Но если б вопль тоски великой Из глубины сердечныя возник, Вполне торжественной и дикой, – Костями бы среди твоих забав Содроглась ветреная младость, Играющий младенец, зарыдав, Игрушку б выронил, и радость Покинула б чело его навек,
И заживо б в нем умер человек!.. (с. 126)
Многокомпонентные сложные предложения нередко строятся по законам периодической речи 5:
Счастливый сын уединенья,
Где сердца ветреные сны
И мысли праздные стремленья
Разумно мной усыплены;
Где , другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет;
Где я простил безумству, злобе
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно, шумный свет, –
Еще порою покидаю
Я Лету, созданную мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой (с. 117–118).
Совмещение в пределах многочастных сложных структур разных по значению и типам синтаксической связи частей создает содержательно и мелодически насыщенные фрагменты единого «потока сознания», в которых, несмотря на длину, позиционную разветвленность звеньев и их информативный объем, трудно размещаются «втиснутые» во фразы смысл и бессмыслица «бытия-как-творчества»:
Вот буйственно несется ураган,
И лес подъемлет говор шумный,
И пенится, и ходит океан,
И в берег бьет волной безумной;
Так иногда толпы ленивый ум
Из усыпления выводит
Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,
И звучный отзыв в ней находит, Но не найдет отзыва тот глагол, Что страстное земное перешел (с. 127).
При этом характерная в целом для поэзии тенденция к увеличению количества сочинительных связей, выравнивающих и уподобляющих строки интонацией перечисления или завершения (см.: [3, с. 126–127, 273–274]), приходит в напряженное противостояние с ги-потаксически выстроенной логикой развертывания философского текста. Поскольку поэт – пророк и юродивый, его слова могут быть непонятны для «непосвященных», если ему не удается преодолеть «косноязычие», «невнятицу» (выражение А. Белогосм.: [11, с. 681–687]) в мучительных поисках адекватного выражения 6, Божественные истины напоминают и «вдохновенное бормотание» (А.С. Пушкин) как интуитивно постигнутое, вдруг вырвавшееся из груди певца прозрение, и проповедь – отсюда риторический пафос, сложно организованное построение длинной фразы, «темнота» невыразимой обычным языком заветной истины, грамматическая «заумь»:
Иль, отряхнув видения земли Порывом скорби животворной, Ее предел завидя издали,
Цветущий брег за мглою черной, Возмездий край, благовестящим снам Доверясь чувством обновленным, И бытия мятежным голосам,
В великом гимне примиренным, Внимающий, как арфам, коих строй Превыспренний не понят был тобой, –
Пред промыслом оправданным ты ниц Падешь с признательным смиреньем, С надеждою, не видящей границ, И утоленным разуменьем, –
Знай, внутренней своей вовеки ты
Не передашь земному звуку И легких чад житейской суеты Не посвятишь в свою науку;
Знай, горняя иль дольная, она
Нам на земле не для земли дана (с. 126–127).
Частотность использования Баратынским сложных предложений такова, что в среднем на одно стихотворение цикла приходится четыре полипредикативных единицы. При этом сложные предложения могут заполнять все пространство стихотворения («Скульптор», «Алкивиад», «Новинское», «Были бури, непогоды...», «Сначала мысль, воплощена...»).
Редко у Баратынского встречаются короткие полипредикативные высказывания: Ищу я вас, гляжу: что с вами? (с. 118); Блещет солнце: радость мне! (с. 120); Чем душа моя богата, Все твое, о друг Аи! (с. 122), которым в системе цикла противостоят предложения с одним грамматическим ядром, но многократно осложненные различного рода обособленными оборотами:
Красного лета отрава, муха досадная , что ты Вьешься, терзая меня, льнешь то к лицу, то к перстам?
Кто одарил тебя жалом, властным прервать самовольно
Мощно-крылатую мысль, жаркой любви поцелуй?
Ты из мечтателя мирного, нег европейских питомца,
Дикого скифа творишь, жадного смерти врага (с. 155);
или:
Филида с каждою зимою,
Зимою новою своей,
Пугает большей наготою
Своих старушечьих плечей.
И, Афродита гробовая,
Подходит, словно к ложу сна,
За ризой ризу опуская,
К одру последнему она (с. 128).
В стихотворениях цикла использовано около 140 обособленных оборотов (преобладают деепричастные – 41 синтагма), остальные виды оборотов представлены примерно в равном количестве: причастные – 23 репрезентации, адъективные – 23, субстантивные – 25, сравнительные – 21), за исключением малочисленной группы предложно-падежных и наречных обособленных групп (11 употреблений). В среднем 7 обособлений на 1 стихотворение. Это пристрастие поэта к расчленяющим и одновременно предикативно «сгущающим» фразу обособлениям сближает стиль «Сумерек» с традицией классицистической оды. Баратынский прибегает, как представляется, намеренно к архаичным уже для начала 1840-х гг. оборотам с подлежащим внутри обособленной группы: На путь ему выбежав из лесу волк, // Крутясь и подъем-ля щетину, // Победу пророчил... (с. 129); к соединению с помощью союза и причастного, и деепричастного оборотов (что помогает воскресить утраченную приименность и атрибутивность деепричастия, его внутреннюю грамматическую форму):
Иль, отряхнув видения земли Порывом скорби животворной, Ее предел завидя издали,
Цветущий брег за мглою черной, Возмездий край, благовестящим снам Доверясь чувством обновленным, И бытия мятежным голосам,
В великом гимне примиренным, Внимающий, как арфам, коих строй Превыспренний не понят был тобой, – Пред промыслом оправданным ты ниц Падешь с признательным смиреньем... (с. 126–127);
к абсолютным адъективным синтагмам, не согласованным с определяемым, к обороту с примыкающим к прилагательному или причастию инфинитивам (синтаксические галлицизмы): Сомкнул уста, вещать полуотвер-сты ... (с. 119); Кто одарил тебя жалом, властным прервать самовольно // Мощно-крылатую мысль, жаркой любви поцелуй ? (с. 155); С утра дней счастлив и славен , // Кто тебе , мой мальчик, равен? (с. 137). В последней конструкции адъективные синтагмы с кратким прилагательным вносят в текст некоторую грамматическую «сумятицу»: прилагательные грамматически соотносятся с подлежащим, дополнением или обращением (однако по смыслу тяготея, очевидно, к косвенно-объектной словоформе местоимения тебе ).
Эти грамматические «шероховатости», устаревшие синтаксические «неправильности», дополняемые морфологическими и лексические архаизмами, – не оплошность, а намеренное средство «затемнения» смысла и одновременно «отстранения» от массового читателя, с 1830-х гг. уже привыкающего к «низкой» прозе «торгашей» от литературы (вроде Булгарина и Сенковского) и отвыкающего от классической поэзии.
Множество однородных рядов (всего 99, то есть в среднем 4 на стихотворение) заполняют пространство «Сумерек», замедляя, как и обособленные синтагмы, ход времени, необходимого для изречения мысли лирическим героем и прочтения, понимания ее читателем. В качестве примера позволим себе привести большой фрагмент из стихотворения «Недоносок», который иллюстрирует насыщенность текста сочинительными рядами:
Я из племени духов , Но не житель Эмпирея , И, едва до облаков Возлетев, паду, слабея. Как мне быть? Я мал и плох ; Знаю : рай за их волнами, И ношусь , крылатый вздох, Меж землей и небесами .
Блещет солнце – радость мне! С животворными лучами Я играю в вышине И веселыми крылами Ластюсь к ним, как облачко; Пью счастливо воздух тонкой, Мне свободно, мне легко, И пою я птицей звонкой.
Но ненастье заревет И до облак, свод небесный Омрачивших, вознесет Прах земной и лист древесный. Бедный дух! Ничтожный дух! Дуновенье роковое Вьет, крутит меня, как пух, Мчит под небо громовое.
Бури грохот , бури свист !
Вихорь хладный! Вихорь жгучий! Бьет меня древесный лист, Удушает прах летучий!
Обращусь ли к небесам, Оглянуся ли на землю – Грозно, черно тут и там ; Вопль уныло я подъемлю. Смутно слышу я порой Клик враждующих народов, Поселян беспечных вой Под грозой их переходов, Гром войны и крик страстей, Плач недужного младенца... Слезы льются из очей: Жаль земного поселенца! Изнывающий тоской, Я мечусь в полях небесных, Надо мной и подо мной Беспредельных – скорби тесных ! В тучу прячусь я и в ней Мчуся , чужд земного края, Страшный глас людских скорбей Гласом бури заглушая (с. 120–121).
Обращения (29 на 27 стихотворений сборника) в цикле «Сумерки» подчеркнуто «фиктивны» или нацелены на автокоммуникацию: лирический герой апеллирует к сущностям, явлениям, в принципе не имеющим дара речи ( муха досадная , бессмысленная вечность , мой бокал , друг Аи , своенравная струя , бокал уединенья , дни , зима , рифма ), или к некоему творцу, художнику, что, скорее, свидетельствует об обращении к самому себе в акте поэтической саморефлексии ( философ , боец духовный , безумная душа , сын Фантазии , отрок сладкогласной , старец нищий и слепой , оратай жизненного поля ), или иронии ( творец не первых сил , бездарные писцы-хлопотуны , реченного достойные друзья , хозяин тороватый ), и очень редко – к другому лицу: человеку вообще ( смертный ), а значит, и к самому себе, или даме ( блистательная тень , дева красоты ). От всех этих обращений веет холодом одиночества, душевной трагедии и небытия.
Вводные и вставные конструкции , сближающие слог с разговорным, использованы только в двух стихотворениях: одна из них ( наоборот ) содержится в «Коттерии», созданном в «низком» жанре эпиграммы, другая ( быть может ) завершает стихотворение «Что за звуки? Мимоходом...». Инверсия компонентов «повышает» (в сравнении с нейтральным может быть ) стилевую окраску конструкции.
Лирический герой Баратынского стремится напомнить читателю прекрасное и утраченное уже прошлое, предугадать будущее, призвать к изменению настоящего положения дел, чтобы печальные предчувствия не сбылись. Эти призывы и сомнения выражают насыщающие «Сумерки» вопросительные и побудительные предложения, восклицания , получающие в лирическом контексте риторическую, медитативную или ироническую направленность, при этом чаще лирический герой не вопрошает, а именно призывает (13 вопросов и 87 восклицаний на 27 стихотворений цикла). Например:
Куда вы брошены судьбами, Вы, озарявшие меня
И дружбы кроткими лучами,
И светом высшего огня?
Что вам дарует провиденье?
Чем испытует небо вас?
И возношу молящий глас:
Да длится ваше упоенье,
Да скоро минет скорбный час! (с. 118)
Подчеркнутое неприятие наступившего «века промышленных забот» и мысль о ненужности поэзии в современном мире, являющиеся лейтмотивом цикла, постоянно актуализируются благодаря активности отрицательных высказываний (58 конструкций с негацией на 165 предложений). Например, в стихотворении «Бокал»:
Полный влагой искрометной,
Зашипел ты, мой бокал!
И покрыл туман приветный
Твой озябнувший кристалл...
Ты не встречен братьей шумной,
Буйных оргий властелин, –
Сластолюбец вольнодумный,
Я сегодня пью один.
Чем душа моя богата,
Все твое, о друг Аи!
Ныне мысль моя не сжата
И свободны сны мои;
За струею вдохновенной
Не рассеян данник твой
Бестолково оживленной
Разногласою толпой.
Мой восторг неосторожный
Не обидит никого,
Не откроет дружбе ложной
Таин счастья моего,
Не смутит глупцов ревнивых
И торжественных невежд
Излияньем горделивых
Иль святых моих надежд! <...>
О бокал уединенья!
Не усилены тобой
Пошлой жизни впечатленья,
Словно чашей круговой; <...>
И один я пью отныне!
Не в людском шуму пророк –
В немотствующей пустыне
Обретает свет высок!
Не в бесплодном развлеченье Общежительных страстей – В одиноком упоенье
Мгла падет с его очей! (c.122–123)
Анализ морфологического оформления отдельных синтаксических позиций позволяет прийти к заключению о синкретизме и концентрированности, «сгущенности» граммати- ческих значений словоформ. Например, ожидаемый винительный одушевленного существительного заменяется в стихотворении «Недоносок» формой, омонимичной именительному падежу, характерной для неодушевленных имен: Мир я вижу, как во мгле; // Арф небесных отголосок // Слабо слышу... На земле // Оживил я недоносок (с. 121). Так «грамматика идиостиля» помогает подчеркнуть множественность интерпретации символического смысла заглавной номинации: недоносок – это некий дух? мертворожденный земное дитя? поэт? лирический герой? художественное творение, не нашедшее своего почитателя, не понятое никем? слабая человеческая мысль, не способная постичь все тайны бытия?
В «Сумерках» именительные падежи часто оказываются синтаксически многозначны, что приводит к нейтрализации позиций сегмента – именительного темы, или «пролеп-тической конструкции» [16, с. 89], и риторического, «безответного» (в терминах И.И. Ков-туновой) обращения:
Все мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! тебе забвенья нет;
Все тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова. Резец, орган, кисть! Счастлив, кто влеком К ним чувственным, за грань их не ступая! Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой , как пред нагим мечом, Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная (с. 153);
характеризующего субъект именного сказуемого неполного предложения и спонтанно возникшей оценочной и подытоживающей присоединительной конструкции: ... в очах блеснула вдруг отрада : // Сия скала... тень Сафо!.. голос волн... (с. 120); Отбыл он без бытия: Роковая скоротечность ! (с.121). Кроме того, синтаксическая многозначность именительных падежей приводит к взаимной аттракции (притяжению) номинативных словоформ, контаминирующих функции обращения и именительного представления. Например:
Бедный старец ! Слышу слово
В сильной песни... (с. 155);
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ или:
Прощай, прощай, сияние небес!
Прощай, прощай, краса природы!
Волшебного сиянья полный лес, Златочешуйчатые воды!
Веселый сон минутных летних нег!.. Дни сельского, святого торжества!
(с. 124–125);
или:
Звезда разрозненной плеяды!
Так из глуши моей стремлю
Я к вам заботливые взгляды... (с. 118)
Стихотворения Баратынского – один из первых опытов использования функционально многозначных номинативных рядов, больших по протяженности, содержащих тропы и деадъ-ективы, ориентирующих восприятие в дейкти-ческом режиме «здесь и сейчас», выполняющих важную роль в организации символического плана, композиции и хронотопа произведения – те тенденции в области грамматики поэтического текста, которые будут широко представлены в русской лирике последующих десятилетий и ХХ столетия (см.: [6; 14; 15; 19]).
По наблюдениям исследователей, само «деление текста на стихотворные строки приводит к определенным семантическим изменениям в тексте, “деформации смысла ритмом”, как называл это явление Тынянов» [3, с. 275]. Единство и целостность строки позволяет считать межсловные смысловые связи более независимыми от следующего стиха и более тесными внутри строки, поэтому интерпретация вложенного в предложение как синтаксическую единицу смысла может расходиться со смысловым членением текста, подсказанным ритмом и межстиховыми паузами. Например, выделенная строка с риторическими восклицаниями в контексте из стихотворения «Недоносок» позволяет понимать именной ряд как характеристику человеческого духа, его возможностей, а не только как оценку странного существа, пребывающего в метаниях меж землей и небесами: Бедный дух! Ничтожный дух! // Дуновенье роковое // Вьет, крутит меня, как пух ... (с. 121).
Другая строка, например в: Арф небесных отголосок // Слабо слышу... На земле // Оживил я недоносок (с. 121), разрешает мелоди- чески соотнести обстоятельство на земле сначала с глаголом слышу, а затем с находящимся на другой строке и отделенным большей межстиховой паузой предикатом оживил: «слышат» райское пение как будто бы не «дух», а лирический герой и поэт, за ним стоящий: В примере: ...Храм упал; // А руин его потомок // Языка не разгадал (с. 154) срединное положение подлежащего обусловливает амфиболию – двоякое толкование грамматической взаимосвязи членов предложения: потомок его (храма) руин или языка его руин?
Необычный порядок размещения отдельных компонентов и конструкций в строке формирует в «Сумерках» непростой, насыщенный паузами, перебивами плавного речевого потока ритм, характерный не для напевного, а для ораторского или говорного типов интонации (в терминах Б. Эйхенбаума). Той же цели служат переносы из строки в строку (анжамбеманы), усиливающие напряжение между ритмом и синтаксисом, одновременно и поддерживающими друг друга, и борющимися друг с другом. Приведем некоторые примеры резких переносов:
– разделение элементов сказуемого: От вас отвлечь судьбы суровой // Удары грозные хочу... (с. 118); А с тобой издавна тесен // Был союз камены песен... (с. 155);
– отделение переносом атрибута от определяемого компонента или его группы: Неторопливый, постепенный // Резец с богини сокровенной // Кору снимает за корой (с. 156); ... моей // Главы не умастил таинственный елей... (с. 151); На что вы, дни! Юдольный мир явленья // Свои не изменит! (с. 152); ...радостно блиставшие поля // Златыми классами обилья ... (с. 127).
В среднем один перенос встречается на каждые три с половиной строки (высокий показатель для произведений романтической эпохи 7), причем более половины анжамбеманов являются дистантными для разносимых по разным стихам элементов синтагматической цепочки зависимостей и нередко охватывают три и более строки подряд. Например, в «Ахилле»:
Влага Стикса закалила
Дикой силы полноту И кипящего Ахилла Бою древнему явила Уязвимым лишь в пяту.
Обречен борьбе верховной,
Ты ли долею своей
Равен с ним, боец духовный,
Сын купели новых дней?
Омовен ее водою,
Знай, страданью над собою
Волю полную ты дал,
И одной пятой своею
Невредим ты, если ею
На живую веру стал! (с. 155–156)
Поэт, стремясь высказать мысль, как будто бы «захлебывается», «торопится» произнести заветную, вдруг открывшуюся в момент озарения истину.
Затрудняет и «остраняет» текст «Сумерек» перенасыщенное инверсиями расположение членов предложения и отдельных конструкций, например: Благословен святое возвестивший! // Но в глубине разврата не погиб // Какой-нибудь неправедный изгиб // Сердец людских пред нами обнаживший (с. 151).
Словопорядок «затемняет» синтаксические зависимости, формирует амфиболию (двусмысленность на грамматическом уровне). В.И. Чернышов, одним из первых обративший внимание на пристрастие Баратынского к размещению зависимых косвенно-падежных форм перед главными для них компонентами во фразе, подчеркивал, что такое словорасположение соответствует законам поэтики и риторики, когда слово, имеющее в речи наиболее важное значение, выдвигается к началу предложения [24, с. 147].
Синтаксис стихотворной формы тесно связан с метрикой , ритмикой и строфикой , поддерживается ими и сопротивляется им. Метрический репертуар сборника «Сумерки» обобщенно представлен в таблице 2.
В силу высокого удельного веса «длинных» пяти- и шестистопных размеров 8 в сборнике обнаруживается активность второстепенных членов предложения, помогающих заполнять метрическую схему (см. табл. 3): в среднем 5,7 на 1 предложение, однако только 1,3 на строку.
Хотя доля распространителей грамматического центра в цикле «Сумерки» высока и обусловливает большую среднюю протяженность фразы, в заполнении метрического пространства важную роль играют однородные ряды и осложняющие конструкции, а также развертывание сложных конструкций (см. табл. 4).
Таблица 2
Метрический репертуар цикла «Сумерки»
|
Метр |
Количество стихотворений |
Перечень произведений |
|
4Я |
7 |
«Скульптор»; «Сначала мысль, воплощена…»; «Филида с каждою зимою…»; «Увы! Творец не первых сил!»; «Всегда и в пурпуре и в злате…»; «Новинское»; «Князю Петру Андреевичу Вяземскому» |
|
4Х |
7 |
«Что за звуки? Мимоходом…»; «Здравствуй, отрок сладкогласной!»; «Ахилл»; «Были бури, непогоды…»; «Бокал»; «Недоносок»; «Предрассудок! он обломок…» |
|
5Я |
3 |
«Благословен святое возвестивший!»; «Коттерии»; «Все мысль да мысль! Художник бедный слова!» |
|
6Я |
1 |
«Еще, как Патриарх не древен я; моей…» |
|
5Я + 3Я |
1 |
«На что вы, дни! Юдольный мир явленья…» |
|
5Я + 4Я |
1 |
«Осень» |
|
6Я + 4Я; 4Я + 6Я |
2 |
«Толпе тревожный день приветен, но страшна…»; «Рифма» |
|
4Ам + 3Ам |
1 |
«Приметы» |
|
5Я + 4Х |
1 |
«Последний поэт» |
|
Гекзаметр (6Д) |
3 |
«Алкивиад»; «Ропот»; «Мудрецу» |
Примечание. Я – ямб, Х – хорей, Ам – амфибрахий, Д – дактиль.
Таблица 3
Распространители грамматического центра в цикле «Сумерки»
|
Прямые дополнения |
Косвенные дополнения |
Определения |
Обстоятельства |
|
139 |
223 |
357 |
230 |
|
Всего: 949 * на 165 предложений и 690 строк цикла |
|||
Примечание. * – однородные ряды второстепенных членов подсчитывались как 1 позиция распространителя в предложении.
Таблица 4
Соотношение метра и синтаксических конструкций
|
Метр |
4Я |
4Х |
5Я |
5Я + 3Я |
5Я + 4Х |
5Я + 4Я |
Гекзаметр (6Д) |
6Я |
6Я + 4Я |
4Ам + 3Ам |
|
Количество простых предложений |
4 |
15 |
5 |
– |
4 |
9 |
– |
– |
2 |
– |
|
Количество осложненных предложений (кроме предложений с однородными рядами) |
6 |
12 |
3 |
2 |
– |
1 |
4 |
2 |
2 |
1 |
|
Количество предложений с однородными рядами |
18 |
24 |
1 |
1 |
12 |
14 |
6 |
1 |
7 |
5 |
|
Количество сложных предложений |
11 |
2 |
5 |
3 |
8 |
20 |
4 |
1 |
11 |
6 |
Сложные построения в цикле «Сумерки» оформлены сочетанием разностопных ямбов, ямба с хореем или амфибрахием. Предложения с утяжеляющими движение стиха обособленными оборотами характерны для шестистопных ямба и дактиля (6Д – в гекзаметре) – размеров, которыми писались трагедии и героические эпопеи 9, восходящие к классицистической традиции «высоких» жанров XVIII века. Однородные ряды предпочтительны в стихотворениях со схемами 5Я + 4Х, 4Я, 4Х, амфибрахием и гекзаметром. Простых конструкций больше в 5-стопном ямбе, широко использовавшемся романтиками в малых жанрах, и 4-стопном хорее, песенном размере, требующем большей легкости в построении, чем иные. Из этого соотношения следует, что более сложное синтаксическое устройство наблюдается в стихотворениях полимет-рических и разностопных.
Соотношение строфического, стихового и синтаксического членения стихотворений Баратынского представлено в таблицах 5 и 6.
Длина предложений в «Сумерках» чаще соответствует четному количеству строк (как правило, четырем и двум), однако треть поэтических высказываний тяготеет по протяженности к нечетным количествам стихов. Только
15 % от общего числа предложений совпадают с границами строфы – довольно низкий показатель в сравнении с другими авторами. Кроме того, 17 % предложений начинаются или завершаются посередине строки 10.
Таблица 5
Длина предложений в стихах
|
Длина предложений в стихах |
Количество предложений |
|
1 |
23 |
|
2 |
34 |
|
3 |
16 |
|
4 |
36 |
|
5 |
5 |
|
6 |
14 |
|
7 |
3 |
|
8 |
10 |
|
9 |
1 |
|
10 |
5 |
|
11 |
1 |
|
14 |
1 |
|
20 |
1 |
|
26 |
1 |
|
0,5 |
11 |
|
1,5 |
10 |
|
2,5 |
6 |
|
3,5 |
2 |
|
5,5 |
1 |
Таблица 6
Длина предложений в строфах
|
Длина предложений в строфах и тип строфы |
Количество предложений |
|
дистих |
1 |
|
катрен |
10 |
|
пятистрочие |
2 |
|
секстина |
3 |
|
октава |
5 |
|
децима |
5 |
|
2 децимы |
1 |
|
2 дистиха |
1 |
|
2 катрена |
2 |
|
катрен + пятистишие |
1 |
|
3 дистиха |
1 |
|
децима + 1 строка |
1 |
Таким образом Баратынский стремится преодолеть инерцию симметрии стихового, строфического и синтаксического членения, о чем свидетельствуют, наряду с междустрочными анжамбеманами, переносы части предложения из строфы в строфу, особенно резкие из которых – между шестой и седьмой децимами «Осени», разделяющий две части периода межстрофной паузой:
Оратай жизненного поля,
И пред тобой во благостыне всей
Является земная доля;
Когда тебе житейские бразды,
Труд бытия вознаграждая,
Готовятся подать свои плоды.
И спеет жатва дорогая,
И в зернах дум ее сбираешь ты, Судеб людских достигнув полноты, –
Ты так же ли, как земледел, богат? (с. 125);
и в последних двух строфах стихотворения «На что вы, дни! Юдольный мир явленья...», подчеркивающий трагическую разделенность еще живого тела и уже почившей души:
А ты, когда вступаешь в осень дней,
Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела, Безумная душа!
И, тесный круг подлунных впечатлений Сомкнувшая давно,
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь, а оно
Бессмысленно глядит, как утро встанет, Без нужды ночь сменя,
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет, Венец пустого дня! (с. 152)
Большую протяженность, превышающую распространенные формы 2–8-строчных конструкций имеют 10 предложений (6 % от общего числа конструкций). Такие сверхдлинные фразы соседствуют в цикле с близкими устной разговорной речи короткими репликами: На что вы, дни!.. ; Что за звуки?.. ; Все мысль да мысль!.. ; Здравствуй, отрок сладкогласной! ; Воздержи младую силу! ; Опрокинь же свой треножник! и др. Протяженные и короткие фразы, которые как будто бы «набегают», «наталкиваются» одна на другую, лишая стих плавного течения, внося больше темпа и энергии, метаний мысли, стремящейся скорее воплотить себя в слове, изменение ритма соответствуют стилистическим «сбоям», сталкивающим «высокое» и «прозаическое», подчеркивают дисгармонию, хаос и диссонанс, углубляют асимметрию в построении текста.
Итак, основные черты синтаксической организации цикла «Сумерки» свидетельствуют об архаизаторской тенденции к структурно-семантическому и ритмо-мелодическому усложнению в поэтической грамматике позднего Баратынского, о стремлении поэта к трансформации языка и стиля в направлении меньшей его простоты, ясности, доступности, к намеренному сообщению ему «жреческого характера» [2, с. 304], что обусловлено и мучительными новаторскими поисками «метафизического» языка, и неприятием века «промышленных забот», и нежеланием удовлетворять потребности «среднего» читателя, отстранением от «толпы», с ее приверженностью «легкому», не требующему ни от автора, ни от адресата затрат интеллектуальной энергии массовому искусству. «Тайнопись» позднего Баратынского в «сумерках» переходной эпохи требует вдумчивого, неторопливого чтения, знания культурных традиций, поскольку «поэт мысли» перевоплощает их в своем слоге, создает «образы трансформированных традиций» [5, с. 119], сохраняя характерный для классицизма «синтаксический»11 тип фразы, историческую преемственность, «оживляя» прошлое: «чтобы сделать эстетически действенной, ощутимой утрату прежних ценностей... Баратынскому нужно было, чтобы читатель с наибольшей живостью воспоминаний переживал глубину утраты, чтоб он узнавал прекрасное, прежде чем его потерять» [17, с. 284]. Именно поэтому в поэтике позднего Баратынского особенно ярко высвечиваются черты, сближающие ее с ломоносовской и державинской традициями, то есть с эпохой барочной и классицистической оды, а также со стилем «плетения словес» старорусских книжников, «темным» языком библейского пророчества, церковной проповеди, духовного гимна и псалма.
Список литературы "Сумеречный" синтаксис Е. Баратынского (на материале сборника "Сумерки" 1842 г.)
- Альми, И. М. О некоторых особенностях стиля поздней лирики Е.А. Баратынского/И. М. Альми//Ученые записки Владимирского государственного педагогического института. -1972. -Т. 41. -С. 25-44.
- Булаховский, Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века: лексика и общие замечания о слоге/Л. А. Булаховский. -Киев: Изд-во КГУ им. Т. Г. Шевченко, 1957. -491 с.
- Гаспаров, М. Л. Статьи по лингвистике стиха/М. Л. Гаспаров, Т. В. Скулачева. -М.: Языки славянской культуры, 2004. -283 с.
- Гинзбург, Л. О лирике/Л. Гинзбург. -Л.: Сов. писатель, 1974. -408 с.
- Дарвин, М. Н. Русский лирический цикл/М. Н. Дарвин. -Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. -137 с.
- Ковтунова, И. И. Поэтический синтаксис/И. И. Ковтунова. -М.: Наука, 1986. -206 с.
- Кожевникова, Н. А. Симметричные конструкции в композиции стихотворения/Н. А. Кожевникова//Поэтическая грамматика. -М.: Азбуковник, 2013. -Т. 2. -С. 29-37.
- Кожинов, В. В. Как пишут стихи: о законах поэтического творчества/В. В. Кожинов. -М.: Просвещение, 1970. -240 с.
- Кожинов, В. В. Книга о русской лирической поэзии XIX века: развитие стиля и жанра/В. В. Кожинов. -М.: Современник, 1978. -303 с.
- Ломоносов, М. В. Краткое руководство к красноречию/М. В. Ломоносов//Полное собрание сочинений/М. В. Ломоносов. -М.: Изд-во АН СССР 1952. -Т. 7. -С. 89-378.
- Лотман, Ю. М. Поэтическое косноязычие Андрея Белого/Ю. М. Лотман//О поэтах и поэзии/Ю. М. Лотман. -СПб.: Искусство-СПБ, 2011. -848 с.
- Маймин, Е. А. Русская философская поэзия: поэты-любомудры. А. С. Пушкин. Ф. И. Тютчев/Е. А. Маймин. -М.: Наука, 1976. -190 с.
- Матяш, С. А. Стихотворные переносы в лирике Е.А. Баратынского в контексте пушкинской традиции/С. А. Матяш, Н. А. Чекасина//Вестник Оренбургского государственного университета. -2011. -№ 11 (130). -С. 20-25.
- Николина, Н. А. Номинативные предложения в композиции поэтического текста/Н. А. Николина//Поэтическая грамматика. -М.: Азбуковник, 2013. -Т. 2. -С. 38-56.
- Панченко, О. Н. Номинативные и инфинитивные ряды в строе стихотворения/О. Н. Панченко//Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Грамматические категории. Синтаксис текста. -М.: Наука, 1993. -С. 81-100.
- Санников, В. З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве/В. З. Санников. -М.: Языки славянских культур, 2008. -624 с.
- Семенко, И. М. Поэты пушкинской поры/И. М. Семенко. -М.: Худож. лит., 1970. -296 с.
- Скулачева, Т. В. Стих и проза: сочинение и подчинение/Т. В. Скулачева, М. В. Буякова//Вопросы языкознания. -2010. -№ 2. -С. 37-54.
- Тарланов, З. К. Номинативные предложения в истории русского языка/З. К. Тарланов//Тенденции развития русского языка. -СПб.: СПбГУ, 2001. -С. 176-203.
- Тойбин, И. М. Е.А. Баратынский/И. М. Тойбин//История русской поэзии: в 2 т. -Л.: Наука, 1968. -Т. 1. -С. 342-367.
- Томашевский, Б. В. Стих и язык/Б. В. Томашевский. -М.: ГИХЛ, 1959. -470 с.
- Фоменко, И. В. О поэтике лирического цикла/И. В. Фоменко. -Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1984. -78 с.
- Хетсо, Г. Е.А. Баратынский: жизнь и творчество/Г. Е. Хетсо. -Осло: Берген, 1973. -739 с.
- Чернышов, В. И. Язык и стиль стихотворений Е.А. Баратынского/В. И. Чернышов//Избранные труды: в 2 т. -М.: Просвещение, 1970. -Т. 2. -С. 112-182.
- Шапир, М. И. Три реформы русского стихотворного синтаксиса (Ломоносов -Пушкин -Иосиф Бродский)/М. И. Шапир//Вопросы языкознания. -2003. -№ 3. -С. 31-78.
- Шахвердов, С. А. Метрика и строфика Е.А. Баратынского/С. А. Шахвердов//Русское стихосложение XIX в.: материалы по метрике и строфике русских поэтов. -М.: Наука, 1979. -С. 278-328.
- Баратынский, Е. А. Полное собрание сочинений. Т. 1: Стихотворения/Е. А. Баратынский. -Москва; Аугсбург: Im Werden Werlag, 2000. -161 с.