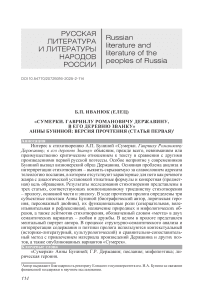«Сумерки. Гавриилу Романовичу Державину, в его деревню Званку» Анны Буниной: версия прочтения (статья первая)
Автор: Иванюк Б.П.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Интерес к стихотворению А.П. Буниной «Сумерки. Гавриилу Романовичу Державину, в его деревню Званку» объясним, прежде всего, невниманием или преимущественно критическим отношением к тексту в сравнении с другими произведениями первой русской поэтессы. Особое неприятие у современников Буниной вызвал визионерский образ Державина. Основная проблема анализа и интерпретации стихотворения - выявить скрываемую за славословием адресата телеологию послания, в котором отсутствуют характерные для него как речевого жанра с диалогической установкой этикетные формулы и конкретная (предметная) цель обращения. Результаты исследования стихотворения представлены в трех статьях, соответствующих композиционному триединству стихотворения - прологу, основной части и эпилогу. В ходе прочтения пролога определены три субъектные ипостаси Анны Буниной (биографический автор, лирическая героиня, персонажный двойник), их функциональные роли (созерцательная, волеизъявительная и рефлексивная), назначение природных и мифологических образов, а также лейтмотив стихотворения, обозначенный словом «мечта» в двух семантических вариантах - любви и дружбы. В целом в прологе представлен ментальный портрет автора. В процессе структурно семантического анализа и интерпретации содержания и поэтики пролога используются контекстуальный (историко литературный, культурологический) и сравнительно сопоставительный метод с привлечением материала произведений Державина и других поэтов, а также опубликованных вариантов «Сумерек».
«сумерки» анны буниной, г.р. державин, послание, мифопоэтика, лирическая героиня
Короткий адрес: https://sciup.org/149148603
IDR: 149148603 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-114
Текст научной статьи «Сумерки. Гавриилу Романовичу Державину, в его деревню Званку» Анны Буниной: версия прочтения (статья первая)
ннотация
Интерес к стихотворению А.П. Буниной «Сумерки. Гавриилу Романовичу Державину, в его деревню Званку » объясним, прежде всего, невниманием или преимущественно критическим отношением к тексту в сравнении с другими произведениями первой русской поэтессы. Особое неприятие у современников Буниной вызвал визионерский образ Державина. Основная проблема анализа и интерпретации стихотворения – выявить скрываемую за славословием адресата телеологию послания, в котором отсутствуют характерные для него как речевого жанра с диалогической установкой этикетные формулы и конкретная (предметная) цель обращения. Результаты исследования стихотворения представлены в трех статьях, соответствующих композиционному триединству стихотворения – прологу, основной части и эпилогу. В ходе прочтения пролога определены три субъектные ипостаси Анны Буниной (биографический автор, лирическая героиня, персонажный двойник), их функциональные роли (созерцательная, волеизъявительная и рефлексивная), назначение природных и мифологических образов, а также лейтмотив стихотворения, обозначенный словом «мечта» в двух семантических вариантах – любви и дружбы. В целом в прологе представлен ментальный портрет автора. В процессе структурно-семантического анализа и интерпретации содержания и поэтики пролога используются контекстуальный (историко-литературный, культурологический) и сравнительно-сопоставительный метод с привлечением материала произведений Державина и других поэтов, а также опубликованных вариантов «Сумерек».
ючевые слова
«Сумерки» Анны Буниной; Г.Р. Державин; послание; мифопоэтика; лирическая героиня.
B.P. Ivanyuk (Yelets)
“TWILIGHT. TO GAVRIIL ROMANOVICH DERZHAVIN, TO HIS VILLAGE ZVANKA” OF ANNA BUNINA: THE READING VERSION (ARTICLE FIRST)1
stract
Interest in A.P. Buninaʼs poem “Twilight. To Gavriil Romanovich Derzhavin, to his village of Zvanka”, we will explain, first of all, by inattention or mainly by a critical attitude towards the text in comparison with other works of the first Russian poetess. Buninaʼs contemporaries were particularly opposed to Derzhavinʼs visionary image. The main problem of analyzing and interpreting a poem is to identify the teleology of the message hidden behind the recipientʼs praise, which lacks the etiquette formulas and specific (objective) purpose of the address characteristic of it as a speech genre with a dialogical setting. The results of the study of the poem are presented in three articles corresponding to the compositional trinity of the poem – the prologue, the main part and the epilogue. During the reading of the prologue, three subjective hypostases of A. Bunina (biographical author, lyrical heroine, character double), their functional roles (contemplative, volitional and reflexive), the purpose of natural and mythological images, as well as the leitmotif of the poem, designated by the word “dream” in two semantic variants – love and friendship, were identified. In general, the prologue presents a mental portrait of the author. In the process of structural and semantic analysis and interpretation of the content and poetics of the prologue, contextual (historical, literary, cultural) and comparative methods are used using the material of the works of Derzhavin and other poets, as well as other published versions of the “Twilight”.
ey words
“Twilight” by Anna Bunina; G.R. Derzhavin; message; mythopoetics; lyrical heroine.
Романовичу Державину, в его деревню Званку
Ⅰ
Блеснул на западе румяный царь природы, Скатился в океан, и загорелись воды.
Почий от подвигов! усни, сокрывшись в понт!
Усни и не мешай мечтам ко мне спуститься,
Пусть юная Аврора веселится, Рисуя перстом горизонт, И к утру свежие готовит розы;
Тогда как добрый чародей,
Рассыпав мак, отрет несчастных слезы, Тогда отдамся я мечте своей.
Вдруг настоящее сменяя ложным,
Из дыма храм сооружу, Со счастием союз свяжу, Блаженством упиясь возможным.
Взгляну – и снег согреется в полях, Стряхнется иней на кустах;
Дохну – и льдины распадутся,
Как воск, кремни погнутся, Содвинется смягчась металл. Иль вырвавшись из стен пустынных, В беседы преселюсь великих, мудрых, сильных: Усни, царь дня! тот путь, который описал, Велик и многотруден.
Ⅱ
Откуда яркий луч с высот ко мне сверкнул, Как молния, по облакам скользнул?
Померк земной огонь... о! сколь он слаб и скуден Средь сумраков блестит, При свете угасает…
Чьих лир согласный звук во слух мой ударяет?
Бессмертных ли харит Отверзлись мне селенья? Сколь дивные явленья!
Где ночь в окрестностях, а здесь восток, Златым лучем весення утра Мне кажет чистых вод поток;
Вдали, ‒ из перламутра,
Сквозь пальмовых дерев я вижу храм, А там,
Средь миртовых кустов, склоненных над водою, Почтенный муж с открытой головою
На мягких лилиях сидит,
В очах его небесный огнь горит, Чело, как утро ясно, С устами и с душей согласно, На коем возложен из лавр венец;
У ног стоит златая лира;
Коснулся, ‒ и воспел причину мира;
Воспел, ‒ и заблистал в творениях Творец.
Ⅲ
Как свет во все концы вселенной проникает, В пещерах мраки разгоняет,
Так глас его, во всех промчавшися местах, Мгновенно пролетел из царства в царство: Согнулось злобное коварство, Рассеялось неверие, как прах,
Открылись в будущем для скорбного надежды, Расчистился туман в понятии невежды, И каждый возгласил: велик в твореньях Бог!
Ⅳ
Умолк певец... души его восторг Прервал согласно песнопенье;
Но в сердце у меня осталось впечатленье, Которого ничто изгладить не могло.
Как образ, проходя сквозь чистое стекло, Единой на пути черты не потеряет:
Столь верно истина себя являет, Исшед устами мудреца:
Всегда равно ясна, всегда умильна, Всегда доводами обильна, Всегда равно влечет сердца.
Ⅴ
Певец отер слезу, ‒ коснулся вновь перстами, Коснулся, загремел, И сладкозвучными словами
Земных богов воспел;
Воспел великую из смертных на престоле, Ея победы в бранном поле,
Союз с премудростью ‒ любовь к благим делам, Награду ревностным трудам,
И лиру окропя слезою благодарной, Во мзду щедроте излиянной, Он вновь умолк, восторгом упоен.
Но глас его в цепи времен Бессмертную делами
Блюдет бессмертными стихами!
Ⅵ
Спустились грации, переменили строй, Смягчился гром под гибкою рукой, И сельские послышались напевы, На звуки их стеклися девы.
Как легкий ветерок
Порхая чрез поля с цветочка на цветок, Кружится, резвится, до облак извиваясь: Так девы юные, сомкнувшись в хоровод, Порхали по холмам у тока чистых вод, Стопами легкими едва земле касаясь, То в горы скачучи, то с гор. Певец веселый бросил взор.
(И мудрым нравится невинная забава.)
Ⅶ
Стройна, приятна, величава, В одежде тонкой изо льна, Без перл, без пурпура, без злата, Красою собственной богата Явилася жена;
В очах певца под пальмой стала, Умильный взгляд к нему кидала, Вия из мирт венок.
Звук лиры под рукой вдруг начал изменяться, То медлить, то сливаться;
Певец стал тише петь ‒ и наконец умолк.
Пришелица простерла руки,
И миртовый венок за сельских песней звуки, Едва свила,
Ему с улыбкой подала;
Все девы в тот же миг во длани заплескали.
Ⅷ
Где я?..
От изумления к восторгу преходя, Спросила я у тех, которы тут стояли? «На Званке», ‒ со всех стран ответы раздались.
Постой, мечта… продлись!..
Хоть час один!.. но ах! сокрылося виденье, Оставя в скуку мне одно уединенье. [Бунина 2016, 84–87]
В 2024 г. исполнилось 250 лет со дня рождения А.П. Буниной. История восприятия ее поэзии полна перипетий, отслеженных многими исследователями ее творчества [Грот 1929; Бочаров 1991; Нестеренко 2015; Пуряева 2018 и др.]. Появлялись и спорадические мнения о «Сумерках», основанные преимущественно на прочтении текста, так сказать, «в первом приближении», без должного аналитического усердия. В качестве примера приведем дневниковую запись от 31 марта 1807 г. С.П. Жихарева, присутствующего при устном чтении этого стихотворения, еще до его публикации в 1808 г.: «Стихотворение А.П. Буниной “Видение в сумерки” не похоже на предыдущее: это великолепный набор слов, предпринятый, кажется, в намерении польстить Державину ˂…˃ Но изображение Державина ‒ образцовая нелепость. Я не мог не списать его для своего архива курьезностей ˂…˃ Этим, однако ж, не кончено: сочинительница продолжает бредить, но бредить так, что уж из рук вон ‒ даже и не смешно» [Жихарев 1955].
Предварительно согласившись с автором относительно образа Державина, отметим в этом в целом нелицеприятном суждении непохожесть стихотворения, вводное сомнение «кажется» и отказ тексту в смысловой связности ‒ и начнем с очевидного для С.П. Жихарева и читателей – с адресации.
Она маркирует стихотворение как эпистолу, тем самым позволяя соотнести его наличные жанровые признаки с ожидаемыми, общепринятыми. Об адресации В.К. Тредиаковский писал: «Рассуждать в эпистолах надобно и о сем: кто пишет, к кому пишет, куда пишет, для чего и о чем пишет, ибо по разности сих обстоятельств разно эпистола написана быть может» [Тредиа-ковский 1963, 388]. Исходя из этого, типичного для эпистолы, определения, можно отметить следующее. В стихотворении Буниной отсутствуют предметный повод обращения к адресату (просьба, приглашение и т.д.), а также конкретные, помимо прямой и отделенной от основного текста адресации, признаки коммуникативной интенции автора, фиксированные, прежде всего, этикетной формулой эпистолы ‒ начальным и/или заключительным обращением к адресату. Послание Буниной соответствует эпистоле как речевому жанру с характерным для него отсутствием жанровой темы, следовательно, его проте-истическое содержание, не регламентируемое ею, определяется автором как субъектом монологического высказывания. Содержанию послания, а именно, славословию Державину, которое стало общим местом в интерпретациях стихотворения, вполне релевантен речевой стиль. Тот же Тредиаковский писал: «Слог панегирических эпистол долженствует быть гладок, сладок, способно текущий и искусный, а особливо в дедикациях ˂…˃» [Тредиаковский 1963, 389], т.е. в посвящениях. Но остается непроясненной телеологическая модальность (модальность цели) послания («для чего ˂…˃ пишет»).
Диалогическая установка характерна, прежде всего, для эпистол, в которых в роли адресанта выступает биографический автор, а в роли адресата – его современник(и). Она обусловлена внеэпистолярными обстоятельствами – общей памятью, знанием и пониманием своего визави и т.д. Контурное содержание стихотворения Буниной отвечает этому условию, притом что в тексте нет никаких намеков на личное общение адресата и адресанта. В комментариях же Б. Эйхенбаума к упомянутой дневниковой записи Жихарева сообщается: «Стихотворение А.П. Буниной, под заглавием “Сумерки” (с пометкой ‒ “Прислано”), напечатано в “Драматическом вестнике” (1808, ч. 1, No 20, стр. 163‒168; с подписью “‒ а ‒ а”) ˂…˃ К предпоследней строке сделано примечание: “Сочинительница сих стихов не имела еще тогда чести знать почтенного творца Фелицы”» [Жихарев 1955].
В этом биографическом контексте сноска к публикации, при всей ее, не усомнимся, правоте, воспринимается лукавой. Она дает Буниной право на остраненное, без имен и топонима, представление о Званке, в целом обусловливающее модальное содержание, номинированное в заключительной части стихотворения фразой «от изумления к восторгу преходя». Авторская (субъектная) правота этого содержания объективируется стихотворным событием, роль свидетеля, комментатора и коммуникатора которого Бунина поручает своей лирической героине, а именно, ее персонажному двойнику. За каждым из трех субъектов стихотворения закреплен свой участок текста, разбитого для удобства на условные строфоиды, как в издании 1819 г., воспроизведенном в [Поэты 1971]: за биографическим автором – адресация, за лирической героиней – обрамление (первый и последний строфоиды), за двойником – основной текст, состоящий из пяти написанных разностопным ямбом строфоидов – от Ⅱ до Ⅶ включительно).
Но приступим к анализу и интерпретации текста. В Ⅰ-м, прологовым по значению строфоиде, происходит рецептивное знакомство с лирической героиней в разных ипостасях ее субъектности, которые будут сменяться на протяжении всего стихотворения – созерцательная, волеизъявительная и рефлексивная. Первая эксплицирована начальным двустишием, отграниченным смежной рифмовкой. Изображение природного события подается в конвенциональном, характерном для классицизма, мифопоэтическом стиле, придающем происходящему эпическую величественность. Вторая, волеизъявительная, субъектность проявляется в повелевании Гелиосом, который, как известно от Гомера, переложившего в гекзаметрах греческие мифы, «К вечеру с неба ˂…˃ в Океан опускается ˂…˃» [Гомер 1988, 137]. Эта субъектность выражена обращенными к солнцу эмфатическими повторами повелительного глагола «усни», организованными подхватом (3‒4 стихи) и анафорической эпистрофой (3 и 17 стихи). Мотивное слово «мечта», номинирующее, но не раскрывающее реф- лексивную субъектность лирической героини, произносится дважды как авто-логичное по значению и бессодержательное. При этом связанный с ним глагол «спуститься» придает «мечтам» собственную одушевленную субъектность ‒ встречную волеизъявительной субъектности лирической героини («отдамся»), а притяжательное, со значением принадлежности, местоимение «своей», выделенное рифмой и инверсией, активизирует рецептивное ожидание осо-держанивания этой мечты, ожидание в составе суггестивного повтора «Усни и не мешай мечтам ко мне спуститься» и «Тогда отдамся я мечте своей». Вставка же мифопоэтических образов утра и ночи (ср.: «Стихотворцы воспевают / Розовой Авроры перст» в «Лизе. Похвала розе», 1802 [Державин 1958, 398]); «Как на мир сей сон всеместной / Сыпал маковы цветы» в переводном, из Анакреона, «Купи-доне», 1797 [Державин 1958, 349]) прерывает это ожидание. Но ретардация позволяет определить значение мечты для лирической героини, в чем и заключается ситуативная уместность вставки. Стихи «Тогда как добрый чародей, / Рассыпав мак, отрет несчастных слезы» проявляют скрытую антитезу ночного забытья «несчастных» и ночного бодрствования в счастливых мечтах лирической героини, а стихи «Пусть юная Аврора веселится, / Рисуя перстом горизонт, / И к утру свежие готовит розы» – опять же скрытую – антитезу жизненной радости и экзистенциального самочувствия лирической героини, выраженного в сдержанных стихах «Иль вырвавшись из стен пустынных» и (в заключительном) «Оставя в скуку мне одно уединенье» (в издании 1819 г. была строка «На рок вериги наложу» в рифменном соседстве со строкой «Со счастием союз свяжу» [Поэты 1971, 451]).
В совокупности же все природные образы участвуют в развернутом макрообразе суточного цикла с общим для всех его фаз мотивом труда, антитетичного человеческой мечте. При семантическом же аналогизировании суточного цикла как жизненного (от «пробуждения» до «сна») мечту можно интерпретировать как не вписывающийся в него иной, не схожий с обычным, предопределенным модус существования, а ее субъект – как не отождествляющий себя ни с юным существом в аллегорическом образе юной Авроры, ни с многотрудным Гелиосом, ни с уставшими от жизни несчастными, нуждающимися в утешении. Содержание же волеизъявительной мечты («Со счастием союз свяжу, / Блаженством упиясь возможным») предваряется стихами «Вдруг настоящее сменяя ложным, / Из дыма храм сооружу» как перифразом слова «мечты» («“первонач.” Призрак, видение» [Толковый словарь русского языка 1935‒1940]). И это упреждающее осознание несбыточности «женского желания» объясняет появление другого – честолюбивого – варианта ночного бдения лирической героини («В беседы преселюсь великих, мудрых, сильных»), обособленного отдельным предложением, но связанного с первым разделительным союзом или в значении альтернативного замещения. Оба варианта обоснованы «первичной эмансипацией русской женщины» ⅩⅧ ‒ начала ⅩⅨ вв. [Улюра 2001], но второй, в отличие от первого, не оговаривается несбыточностью (об участии Буниной в «Беседе любителей русского слова» см.: [Бочаров 1991]). Эти варианты разведены многостишной и функционально не связанной ни с одним из них прослойкой, которая отсутствует в издании 1819 г. [Поэты 1971, 451] и которая создает эффект явного намерения избежать их сближения. Текст, изобилующий глаголами («Взгляну – и снег согреется в полях, / Стряхнется иней на кустах; / Дохну – и льдины распадутся, / Как воск, кремни погнутся, / Содвинется смягчась металл») с семантикой имагинатив-ного, напоминающего детское, преображения внешних реалий, организован вокруг семы растопить. Ее волеизъявительное назначение проявляется в контексте следующего за «Сумерками», но отсылающего к нему, стихотворения 1809 г. под жанровым названием «Отречение» (палинодия) и маскировочным подзаголовком «Перевод»: «Иссякни для меня, прозрачный / Кастальских, сладких вод ручей; ˂…˃ Что мне вселенной удивленье? / Что цепь веков? Потомства глас? ˂…˃ Вон там, ‒ на твердом основаньи / Воздвигнут из алмаза храм; ˂…˃ Вокруг его сонм игр, ‒ веселья; / Внутри поставлен мой кумир: / Туда хожу на поклоненья ˂…˃ Кто легки облака перловы / От жертв ко храму воссылал? / Кто свежие венцы лавровы / К стопам кумира полагал? / Кто розы, мирты нес, ‒ лилеи и жасмины? // Не я ль, роскошной Флоры ткани, / К нему перенесла на трон? / Но что кумиру почесть, дани? ‒ / Изваян из металла он: / К мольбе, ‒ к куренью, ‒ к фимиамам хладен. // Вотще мастики благовонны / На жертвенном я жгу огне; / Вотще, слагая гимны стройны, / Пою хвалы ему одне: / Ни уст движенья нет, ‒ ни вежд в неблагодарном. ˂…˃ Умолкни, лира тихозвучна! / Почто твой слабый глас? ‒ Престань… / С металлом твердость неразлучна; / С кумиром ‒ жертв мастичных дань; / Со мной ‒ могильный мрак и тишина усопших» [Бунина 2016, 143–145]. В этих аллюзивных стихах – обида Буниной, видимо, на не-ответ Державина на послание к нему.
Следует отметить контекстуальной ремаркой, что Бунина относилась к Державину и его творчеству не столь однозначно, как в «Сумерках». С одной стороны, с пиететом, к примеру, в стихотворении «Мой портрет, списанный на досуге в осенние ветры для приятелей»: «Хотя б Державина похитила ты струны; / Но важность, сладость и перуны / От рук его не перейдут к тебе ˂...˃ / Оставь, когда угодно так судьбе, / Оставь лишь одному ему влиянья / Столь дивные в умах производить, / Чтоб смертных имена бессмертными творить, / Всех прелестей собрав очарованья» [Бунина 2016, 121–122]. С другой стороны, с полемичностью, например, в стихотворении, датированном также 1809 г., «Тем, которые предлагали мне писать гимны»: «Отвсюду бедством утесненна, / Могу ль воспеть Творца миров? / Отвсюду бедством утесненна, / Могу ль слагать хвалы царям? / Отвсюду бедством утесненна, / Могу ль утехи петь родства? / Отвсюду бедством утесненна, / Могу ль петь сладость нежных уз? / Отвсюду бедством утесненна, / Хочу блажить могильный свод» [Бунина 2016, 109]. Приведенные стихи доказывают, что «Сумерки» – один из стихотворных эпизодов в истории отношения Буниной к Державину.
Но вернемся к «Сумеркам». Оба варианта мечты подаются не как визуализированный (в отличие от природы) образ, а как краткое изложение «затек-стовых» грёз лирической героини, релевантное их еженочному возвращению. Последнее подтверждается повторным обращением к «царю дня», образующим тем самым композиционную фигуру кругового движения иллюзий. Отсутствие же в нем слова «мечта» и иное, не связанное с этим словом, обоснование глагольного повеления «усни» (сон как награда за дневной труд) указывают на выход лирической героини из грёз в реальность, а именно, к исходной ситуации своих мечтаний. Обнуление иллюзий поддержано композиционной неожиданностью обращения, создающей рецептивный эффект речевого обрыва. При этом и само обращение является обрывом: оно заканчивается обособленными комматическим стихом краткими и инверсированными эпитетами «велик и многотруден», придающими ему характер торжественного каданса. В целом же, повторное обращение к Гелиосу, образующее с начальным композиционное кольцо, является знаком завершения всего пролога. Его основное содержание репрезентирует «внутреннего человека» (Жан-Поль) лирической героини, ее ментальный автопортрет с исповедальными мотивами мечты и экзистенциальной жалобой на судьбу. Третье слово «мечта» появляется в эпилоге («фаустианское» «Постой, мечта! продлись!..») уже в новой редакции, связанной с визионерским посещением Званки.