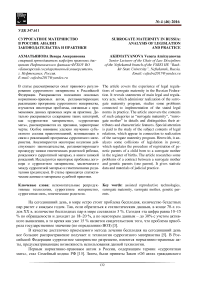Суррогатное материнство в России: анализ законодательства и практики
Автор: Ахматьянова Венера Амирзяновна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Статья в выпуске: 4 (46), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается опыт правового регулирования суррогатного материнства в Российской Федерации. Раскрываются положения основных нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию программы суррогатного материнства, изучаются некоторые проблемы, связанные с применением данных правовых норм на практике. Детально раскрывается содержание таких категорий, как «суррогатное материнство», «суррогатная мать», рассматриваются их признаки, характерные черты. Особое внимание уделено изучению субъектного состава правоотношений, возникающих в связи с реализацией программы суррогатного материнства. Анализируются некоторые коллизии действующего законодательства, регламентирующего процедуру записи генетических родителей ребенка, рожденного суррогатной матерью, в книги записей рождений. Исследуются некоторые проблемы договора о суррогатном материнстве, заключаемого между суррогатной матерью и генетическими родителями (родителем). В статье приводятся статистические данные и материалы судебной практики.
Вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное материнство, суррогатная мать, генетические родители
Короткий адрес: https://sciup.org/142232704
IDR: 142232704 | УДК: 347.611
Текст научной статьи Суррогатное материнство в России: анализ законодательства и практики
На сегодняшний день, в мире остро стоит проблема бесплодия, количество бездетных пар растет с каждым годом. Так, если обратиться к статистическим данным, в конце 70-х годов ХХ в. количество бесплодных пар в мире составляло 5 %. Сегодня эта цифра равна 10–15 % по обращаемости и доходит до 18–20 %, а по некоторым данным – до 30% с учетом активного выявления, в то время как уже 15 % является свидетельством того, что проблема приобрела государственное значение (по определению ВОЗ) [3].
В качестве достаточно приемлемого метода лечения бесплодия на сегодняшний день все большее распространение получает и технология суррогатного материнства [5]. В Российской Федерации суррогатное материнство разрешено, имеются нормативно-правовые акты, предусматривающие возможность использования данной технологии.
Первым нормативно-правовым актом в России, содержащим термин «суррогатная мать», стал Семейный кодекс РФ [15]. Затем, были приняты Закон «Об актах гражданского состояния» [16] и Приказ Минздрава РФ от 26.02.2003 № 67 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия» [9], в которых также встречались понятия «суррогатное материнство», «суррогатная мать».
В связи с принятием Приказа Минздрава России от 30.08.2012 № 107н [10], утвердившего порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их применению (далее - Приказа Минздрава России о порядке использования ВРТ), Приказ Минздрава РФ от 26.02.2003 № 67 утратил силу.
Суррогатное материнство позволяет иметь детей женщинам, неспособным выносить и родить ребенка самостоятельно по медицинским показаниям (п. 79 Приказа Минздрава России о порядке использования ВРТ). Приказ Минздрава России о порядке использования ВРТ определил требования, предъявляемые к суррогатным матерям (п. 78), и алгоритм проведения программы «Суррогатное материнство» (п. 83). Несмотря на то, что термин «суррогатное материнство», как мы уже отметили, встречался в действующем законодательстве России, долгое время в нашей стране отсутствовало легальное определение этого понятия.
Отсутствие легальной терминологии породило соответствующие научные изыскания. К проблеме определения понятия «суррогатное материнство» неоднократно обращались в своих работах различные авторы. Так, например, Т.Е. Борисова, пишет, что «суррогатное материнство следует определять как взаимную договоренность между суррогатной матерью и потенциальными родителями о том, что суррогатная мать пройдет процедуру имплантации эмбриона, зачатого с применением метода экстракорпорального оплодотворения, выносит, родит и передаст ребенка потенциальным родителям» [2].
А. Асламурзаева определила суррогатное материнство как «соглашение между лицами (лицом), желающими стать родителями, и женщиной, согласной на искусственное оплодотворение, вынашивание и рождение ребенка (суррогатной матерью) с последующей его передачей другой стороне по договору, за вознаграждение либо без такового» [1, с. 8].
Проблема отсутствия легального определения понятия «суррогатное материнство» в России была решена в 2011 году. 21.11.2011 г. был принят Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [17] Согласно ч. 9 ст. 55 этого нормативно-правового акта суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.
Опираясь на данное определение можно сделать следующие выводы:
-
1) суррогатное материнство, в первую очередь, - физиологический процесс вынашивания и рождения ребенка; зачатие ребенка при этом происходит путем ЭКО и имплантации эмбриона в полость матки суррогатной матери;
-
2) между ребенком и потенциальными родителями имеется генетическое родство;
-
3) отношения между суррогатной матерью и потенциальными родителями (либо одинокой женщиной) строятся на основании договора, заключенного между ними;
-
4) применение этой технологии возможно, если имеются соответствующие медицинские показания.
Из данного определения не вытекает, что потенциальные родители обязательно должны состоять в зарегистрированном браке, более того, законодатель подчеркивает, что обратиться за помощью к суррогатной матери может и одинокая женщина.
Интересно отметить, что согласно п. 4 ст. 51 СК РФ лица, состоящие в браке между собой (выделено мной. – В.А.) и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ре-

бенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). Такое же положение закреплено в Законе об актах гражданского состояния (п. 5 ст. 16). На практике неверное толкование этих норм привело к тому, что работники органов ЗАГСа стали отказывать лицам, не состоящим в браке, в регистрации их в качестве родителей детей, рожденных суррогатными матерями [11].
Немаловажно отметить, что в ч. 9 ст. 55 Закона об основах охраны здоровья граждан не названа обязанность суррогатной матери передать ребенка после его рождения родителям-заказчикам, не определен характер соглашения (возмездный или безвозмездный), заключенного между суррогатной матерью и потенциальными родителями.
В ч. 10 ст. 55 Закона об основах охраны здоровья граждан определены требования, предъявляемые к суррогатной матери:
-
˗ возраст от двадцати до тридцати пяти лет;
-
˗ наличие не менее одного здорового собственного ребенка;
-
˗ наличие медицинского заключения об удовлетворительном состоянии здоровья;
-
˗ женщина должна дать письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
В Приказе Минздрава России о порядке использования ВРТ содержатся аналогичные требования. Очевидно то, что законодатель, устанавливая возрастные рамки для потенциальной суррогатной матери, прежде всего, заботился о здоровье будущего ребенка, т.к. согласно данным медицинской статистики почти 70% всех детей с синдромом Дауна родили женщины старше 35 лет [8]. Однако в юридической литературе можно встретить и противоположенную точку зрения. Так, Т.Е. Борисова отмечает, что известны случаи, когда матери вынашивали детей для своих бездетных дочерей. Более безопасный и недорогой способ вряд ли можно предложить. Как заявляют медики, если женщина здорова, то зачать методом ЭКО и выносить здорового ребенка возможно и когда женщина уже находится в менопаузе, а это в среднем 50-55 лет [2].
На наш взгляд, очевидно, что законодательно установленные требования, предъявляемые к суррогатной матери, целесообразны и отвечают интересам будущего ребенка, его генетических родителей, суррогатной матери.
Суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки. Таким образом, с 1 января 2012 года (с этого дня вступила в силу ст. 55 Закона об основах охраны здоровья граждан) в России возможна лишь программа гестационного суррогатного материнства (т.е. суррогатная мать не может иметь генетического родства с ребенком, которого вынашивает). Этот вариант представляется наиболее приемлемым с морально – этической точки зрения.
Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга. Данное положение уже успело вызвать нарекания. Так, К.Н. Свитнев отмечает, что «требование получения «согласия» представляется неуместным, так как любая совершеннолетняя женщина вне зависимости от своего супружеского статуса является равноправным субъектом гражданских правоотношений <…>, тем более что п. 1 ст. 56 того же закона говорит о том, что «каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве»» [14, с. 138]. Однако, ст. 1 СК РФ к принципам регулирования семейных отношений относит принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. Кроме того, согласно ст. 31 СК РФ вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов. Очевидно, что самостоятельно принятое женщиной решение стать суррогатной матерью (и осуществление этого намерения), лишает возможность ее супруга стать отцом в ближайшее время. Если, конечно, он не обратиться за помощью к другой суррогатной матери. Здесь возникает следующий вопрос: может ли мужчина, желающий стать отцом, заключить договор с суррогатной матерью?
В ч. 9 ст. 55 Закона об основах охраны здоровья граждан в качестве лиц, с которыми может быть заключен соответствующий договор, упоминаются лишь потенциальные родители и одинокие женщины. Однако для одинокого мужчины программа суррогатного материнства в сочетании с донорством ооцитов практически единственный шанс стать отцом генетически своего ребенка. Здесь нельзя не согласиться с телеведущей, публицистом М. Арбатовой, которая высказалась по этому поводу так: «Коль скоро у нас женщина законодательно имеет право пойти в банк спермы, родить ребенка и считать его абсолютно собственным, то лишать мужчину этой же возможности было бы не только негуманно, но и нечестно» [13]. Более того, очевидно, что лишение одинокого мужчины права стать участником программы «Суррогатное материнство», в то время как одинокая женщина такое право имеет, на наш взгляд, является дискриминацией по половому признаку.
Интересно отметить, что согласно п. 1 ст. 127 СК РФ усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола. То есть, исходя из обозначенной позиции законодателя, можно сделать вывод о том, что одинокий мужчина может быть усыновителем, но не может стать отцом генетически своего ребенка, воспользовавшись технологией суррогатного материнства.
Обратимся к правоприменительной практике. 4 августа 2010 г. Бабушкинский районный суд Москвы (судья Мартыненко А.А.) обязал ЗАГС Бабушкинского района зарегистрировать ребёнка, родившегося в результате реализации программы гестационного суррогатного материнства с использованием донорских ооцитов для мужчины, не состоящего в браке, с указанием в актовой записи о рождении в качестве отца заказчика суррогатной программы и сведений о матери по его заявлению (сведения о матери в запись акта о рождении могут не вноситься или же фамилия «матери» записывается по фамилии отца, а имя и отчество – по его указанию). Имя суррогатной матери в свидетельстве о рождении фигурировать не будет. Отказ органа ЗАГС в регистрации ребёнка на имя истца был признан незаконным [12].
-
4 марта 2011 года Смольнинский районный суд С.-Петербурга обязал ЗАГС зарегистрировать не состоящего в браке молодого человека, ставшего отцом при помощи программы суррогатного материнства, единственным родителем его «суррогатных» двойняшек.
Молодой человек реализовал свою программу гестационного суррогатного материнства в сочетании с программой донорства ооцитов в одной из московских клиник репродукции. Обратиться в суд его вынудил отказ ЗАГСа в регистрации его детей. Делопроизводители ЗАГСа аргументировали своё решение тем, что процедура суррогатного материнства предусмотрена, якобы, лишь для людей, состоящих в браке. Суд не согласился с работниками ЗАГСа и признал отказ в регистрации незаконным [12].
Отметим, что такая практика сложилась до вступления в силу соответствующего положения Закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, не содержащего прямой запрет, но и прямо не предусматривающего возможности для одинокого мужчины стать родителем-заказчиком суррогатной программы. Как в дальнейшем будет решаться поставленный нами выше вопрос, покажет время.
Как мы уже отмечали, лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери) (п. 4 ст. 51 СК РФ). То есть, в случае, если суррогатная мать откажется передать рожденного ею ребенка, решит оставить его у себя, то она будет записана в качестве матери этого ребенка. У такой позиции законодателя есть свои сторонники. А.П. Кокорин, отмечает, что «приоритетным фактором при определении принадлежности родительских прав является вынашивание ребенка [6, с. 28–31].

Высказывалась в юридической литературе и противоположенная точка зрения. И.А. Михайлова считает, что закрепление в законе приоритета суррогатной матери при установлении происхождения ребенка противоречит закрепленному в ст. 38 Конституции РФ принципу охраны семьи, материнства и детства, так как в данном случае не защищаются интересы матери и отца ребенка, т.е. его генетических родителей [7, с. 17]. Представляется, что положение, существующее ныне, может привести к шантажу, вымогательствам со стороны суррогатной матери, которая, понимая, что не обязана передавать ребенка потенциальным родителям, будет чувствовать свою полную безнаказанность.
Может сложиться и другая ситуация. В случае рождения ребенка, страдающего каким-либо заболеванием, потенциальные родители могут отказаться его принять, мотивировав свой отказ тем, что они не обязаны этого делать. Отметим, что согласно п.1 ст. 48 СК РФ происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств. То есть, в России действует презумпция материнства (та, которая родила, и есть мать). Но, что делать, если и суррогатной матери ребенок будет не нужен?
Кроме того, если суррогатная мать не успеет в силу объективных обстоятельств (наступление смерти при родах, непосредственно после родов) дать свое согласие на то, чтобы в качестве родителей ребенка были записаны его генетические родители, то рожденный малыш будет призван к наследованию после смерти суррогатной матери. Тем самым, будут ущемляться права её супруга, родителей, детей (наследников по закону) или наследников по завещанию, если таковое было составлено ею при жизни (Ст. 1142, 1118, 1119, 1149 ГК РФ) [4].
Таким образом, несмотря на то, что технология суррогатного материнства не первый год применяется в России в качестве метода, позволяющего преодолеть бесплодие, существует еще немало проблем нормативно-правового регулирования соответствующих общественных отношений.