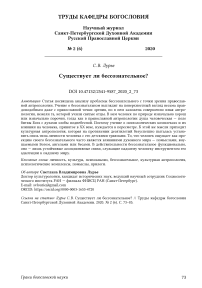Существует ли бессознательное?
Автор: Лурье Светлана Владимировна
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Грани богословской науки
Статья в выпуске: 2 (6), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу проблемы бессознательного с точки зрения православной антропологии. Учение о бессознательном выглядит на поверхностный взгляд весьма правдоподобным даже с православной точки зрения, но в нем заложена совершенно иная антропология, нежели та, которой учили святые отцы. В нем человек по природе изначально хорош или изначально порочен, тогда как в православной антропологии душа человеческая - поле битвы Бога с духами злобы поднебесной. Поэтому учение о психологических комплексах и их влиянии на человека, принятое в ХХ веке, нуждается в пересмотре. К этой же мысли приходит культурная антропология, которая на протяжении десятилетий безуспешно пыталась установить связь типа личности человека с его детскими травмами. То, что человек ощущает как проекцию своего бессознательного часто является влияниями духовного мира - помыслами, внушаемыми Богом, ангелами или бесами. В действительности бессознательное функционально, оно - лишь устойчивые ассоциативные связи, служащие падшему человеку инструментом его адаптации к падшему миру.
Личность, культура, психоанализ, бессознательное, культурная антропология, психологические комплексы, помыслы, прилоги
Короткий адрес: https://sciup.org/140294856
IDR: 140294856 | DOI: 10.47132/2541-9587_2020_2_73
Текст научной статьи Существует ли бессознательное?
About the author: Svetlana Vladimirovna Lurie
Article link: Lurie S. V. Does the Unconscious Exist? Proceedings of the Department of ^eology of the Saint Petersburg ^eological Academy, 2020, no. 2 (6), pp. 73–85.
То учение о человеческой психике, которое породил психоанализ, мощно внедрилось как в теоретическую и практическую психологию, так еще в большей мере в междисциплинарные исследования с психологическим уклоном и обыденное сознание. Причина этого в его видимой правдоподобности и импонировании идейным парадигмам нашего времени, т. е. тому, что можно было бы назвать идеологической антропологией: набору идей, которые лежат в основе нашего современного представления о человеке, и из которых вытекают многие современные выводы о мире. Причем не обязательно упрощенные, порой вполне серьезные и научные — научные подходы ведь могут быть и ошибочными.
Что до правдоподобности, то мысль о том, что нами, людьми руководят некие мотивы, которые мы не осознаем, которые не понимаются нами как наше «Я», не входят в нашу осознанную идентичность, и руководят решительно и навязчиво, — самоочевидна. Кто может с ней поспорить? И логично предположить, тем более предположить современному человеку, воспитанному на гуманистическом комплексе идей, что гнездятся они где-то в нашем подсознании. Человек, таким образом, находится как бы в значительной мере во власти подсознания. И именно так он себя ощущает. А ученый — он тоже человек, он тоже ясно ощущает наличие некоторого иррационального и не всегда понятного своего «подполья», поэтому охотно включает представление о бессознательном в свою научную картину мира. Есть психологи, которые спорят с идеей бессознательного, но спорят слишком наивно, не предлагая столь же по видимости очевидной и инстинктивно приемлемой концепции. Поэтому их голоса слабо слышны, а весь мир более-менее образованных людей XX– XXI веков уже привычно говорит о бессознательном, подсознании, которое отражает их иррациональное внутреннее подполье.
Так же есть потребность прибегнуть к категории бессознательного, когда мы говорим об идеалах и ценностях, которые нами руководят. Очевидно, что мы понимаем их часто как некие комплексы образов, чувств и не вполне вербализированных идей, нами когда-то воспринятых и интериоризирован-ных, обычно в раннем детстве, чуть не в материнской утробе, которые до старости нами руководят, к чему-то нас поощряя, что-то нам запрещая, часто мы и не знаем, почему. Причем это тоже кажется самоочевидным, и тут мы снова говорим о бессознательном или надсознании.
Зигмунд Фрейд написал много разнообразных трудов. Порой он менял свои взгляды, и вряд ли кто сейчас дословно следует его учению, но многие его ключевые идеи также многим кажутся правдоподобными. Причем, если быть честным, даже с христианской точки зрения некоторые его идеи могут показаться правдоподобными. Ну, например, та, что падший человек наделен множество негативных интенций, глубинной порочностью, которую он стремится спрятать, загнать в подсознание и которые все равно настойчиво проявляют себя, порой начинают руководить человеческим поведением, приводя к неврозам, если не к греховным поступкам. Собственно, сама идея вот такого иррационального греховного подполья падшего человека не должна была бы вызывать у православного антрополога автоматического отрицания и могла бы и ему показаться правдоподобной. Разные психоаналитики брали за основу некую определенную страсть и строили на ней свою концепцию, видя ее центральной в ядре личности. Фрейд говорил о сексуальности, Альфред Адлер — о самоутверждении (компенсации чувства неполноценности), а Карин Хорни — о комплексе гордости (pride-system). То есть то, что, по сути, должно бы согласовываться с православным учением. Вроде бы остается только добавить, что свое бессознательное человек вычищает только в Церкви, достигая святости и оБожения. Но на самом деле в психоанализе мы имеем дело с иной, нежели православная, антропологией. Последняя видит человека совершенно иначе.
В психоанализе, как он теперь предстает и влияет на различные психологические течения, причудливым образом сосуществуют и переплетаются две, казалось бы, противоположные посылки, две антропологии, одна из которых исходит из того, что человек по природе порочен, а вторая — что человек по природе хорош. Так, предполагается, что в психике человека зарождаются и множатся негативные интенции, которые вытесняются в бессознательное (подсознание) человека и оттуда им руководят, порождая комплексы, неврозы и всячески калеча ему эту самую психику. А раз человек запрограммирован на порождение такого рода негативного и дурного, значит, и с его природой что-то кардинально не так. У Фрейда человек, проходя разные стадии своего формирования, наполняется извращенной сексуальностью, которую ему всю жизнь приходится подавлять с величайшим трудом и далеко не всегда успешно. Сам Фрейд, хотя и много практиковал на ниве лечения неврозов, вызванных недостаточно эффективным подавлением сексуальных извращений, относился к человеку все-таки весьма скептически и видел в нем порочное существо. Сам он после рождения шестого ребенка в семье жил в строгом воздержании. Но последователи Фрейда поверили, что человека от комплексов можно вовсе избавить. Причем более «оптимистично» стали смотреть на избавление от комплексов и в моральной сфере — той, что Фрейд называл надсознанием. Получалось, что человек может, пусть не своими силами, но с помощью партнера-психоаналитика изменить и исправить себя. Причем так человек будто бы избавляется от последствий психических травм и возвращается к себе истинному. А истинный человек — это человек, излечивший психические травмы, теперь уже воспринимаемые психоаналитиками как нечто внешнее для человека (последствия интериоризации), в отличие от Фрейда, который смотрел на них, скорее, как на законы человеческой природы. А раз травмы внешние, то природа человека у последователей Фрейда хороша. Психоанализ становится гуманистическим, еще более далеким от православной антропологии.
Надо сказать, что влияние на психику человека пережитых им в детстве травм, хотя и кажется правдоподобным, не получает строгого научного подтверждения. Психологическая антропология с легкой руки Маргарит Мид еще в 1920-е годы приложила много усилий для изучения детства в разных культурах, влияния различных практик детского воспитания на формирование специфической для данной культуры личности, носителя того, что называли национальным характером. Вообще тема влияния детских психических травм на последующий характер человека в разных культурах была центральной темой всей довоенной культурной антропологии. Эти исследования не дали ничего.
Тут для примера приведем концепцию американского антрополога Абрама Кардинера, пытавшего увязать культуру и ранний опыт детей на примере относительно простых культур малочисленных бесписьменных народов. Сходство детского опыта в них, схожесть детских травм должна была, казалось, вести к формированию схожих1 личностей (Kardiner, Linton,
-
1 Существует, считал Кардинер, первичные общественные институции, основная личностная структура и вторичные общественные институции. В этой трехчастной структуре первичные общественные институции определяют основную личностную структуру, а та, в свою очередь, и порождает вторичные общественные институции. В любом обществе наблюдаются свои способы жизнеобеспечения, семейной организации, практики ухода за детьми, их воспитания и социализации. Все это формирует человека членом определенного общества, обеспечивает усвоение им черт характера, знаний, навыков и т. п., принятых в данном обществе. Они же и определяют степень тревожности, характер неврозов и способы психологической защиты, характерные для членов данного общества. Они составляют первичные институции общества, которые непосредственно участвуют в формировании основной личностной структуры. Поскольку основная личностная структура формируется под влиянием единого для всех членов данного общества опыта, она обязательно включает в себя такие личностные характеристики, которые делают индивида максимально восприимчивым к данной культуре и дают ему возможность достигнуть в ней наиболее комфортного и безопасного состояния. Поэтому она же является наиболее удобной для преобладающих институций и культурных тем данного общества. Другими словами, основная личностная структура включает такие психологические особенности и способы отношений с другими, которые делают человека максимально восприимчивым к культурным моделям и идеологиям его общества. Вторичные общественные институции включают в себя фольклор, мифологию, религию и т. п. По существу своему они являются проекцией основной личностной структуры, ее порождением. В основании идей Кардинера лежало предположение о наличии в том или ином обществе, в той или иной культуре основной личностной структуры, соответствующей в большей или меньшей степени всем членам данного общества. Объяснялось это тем, что на ее формирование влияет единая культурная практика. Ведь модели семейной организации, ухода за младенцами, воспитания детей, представляющие собой первичные общественные институции, различны для разных культур и относительно единообразны в рамках одной культуры, а потому способствуют выработке схожих психологических черт у всех членов общества. Адаптируясь к этим первичным общественным институциям, человеческая психика получает специфическую коррекцию, особым образом «лепится» ее психологическая структура, ее эго-структура приводится в соответствие с основной личностной структурой данного общества. Поэтому в каждом обществе есть один доминирующий тип личности, определяющий все культурные проявления в обществе. И, главное, этот тип возможно выявить с помощью психологических и психотерапевтических методик. Дети в одном обществе испытывают одни и те же психологические травмы, поскольку растут в пределах единой системы первичных общественных институций. Поэтому же все члены данной культуры имеют приблизительно одни и те же психологические комплексы. Вторичные общественные (социальные) институции, к коим Кардинер относил мифологию, искусство, фольклор, политические учреждения, экономическую систему, религию, все они — результат попыток многих индивидов cкомпенсировать полученные ими в раннем детстве травмы. Поскольку у всех эти травмы примерно сходны, то сходны и модели их компенсации. Это определяет, в частности, стиль культуры данного народа (Kardiner, 1939).
1945). Но Кардинеру, основывавшемуся на психоанализе, не удалось показать ни в одной культуре связи детского опыта человека с его типом личности, вообще не удавалось выделить доминирующие в той или иной культуре типы личности — основную личностную структуру (basic personality structure), что долго казалось непостижимым. Примечательны и работы более поздних антропологов, в частности, Джеффри Горера, в которых происхождение сталинского тоталитаризма в России объясняется практикой тугого пеленания, распространенной у русских (Gorer, Rickman, 1949), что поражает своей прямолинейностью. Антропологам не удалось обнаружить не только основной личностной структуры, которая, по мысли Кардинера, в обществе всегда одна, но и «модальных личностей» (modal personality) (наиболее распространенных типов личности) в какой-либо даже самой примитивной культуре, которые, по мысли Коры ДюБуа, должны были вычисляться просто статистически (DuBois, 1944). Сотрудник ДюБуа Энтони Уоллес, используя статистическую концепцию модальной личности, показал, что даже гомогенным обществам присуща большая вариативность типов личности (Wallace, 1961). В 1960-е годы антропологи пришли к полному скепсису в этом вопросе, а отец и сын Кис-синги выразили мнение многих антропологов, что человеческая душа — это «черный ящик»: что-то в нее закладывается, что-то с этим опытом происходит, но почему происходит тот или иной результат, почему формируется тот или иной человеческий характер — сказать невозможно (Keesing, Keesing, 1971). Наверное, Киссинги здесь утрировали, но такое признание от антропологов дорогого стоит, поскольку не одно поколение стремилось эту связь найти. И то, что на долгие десятилетия антропологи отказались рассматривать культуру в увязке с психологией, произошло не случайно, а было само следствием психологической травмы: ни в одной культуре не удалось определить модального для нее характера. Но для нас сейчас здесь важно другое: значение детских травм, якобы оседающих глубоко в бессознательном детей и влияющих на всю их последующую жизнь, очень сильно преувеличено!
Тут сомнительной кажется и очень серьезная психоаналитическая разработка середины ХХ века Мелани Кляин. Она предположила, что весь тот опыт ранних детских радостей, боли, ласок и больных ушек — все это младенцем воспринимается идущим от няньчащей его матери и формируются в интери-оризированный образ матери, составляющий затем основу его психики и руководящий его восприятием хорошего и дурного (Кляин, 2010).
Я не хочу сказать, что не существует никакого влияния опыта ранних родительских ласк и наказаний, но современный человек этому опыту придает несоразмерное значение, опять же исходя из неверной предпосылки, что человек по природе хорош, а ребенок чуть не ангел во плоти: добрый и талантливый. Это гуманистическая парадигма, которая не соответствует истине, что и подтверждают исследования антропологов.
С православной точки зрения неверно как то, что человек по природе хорош, так и то, что он по природе дурен. Из писателей православное учение о человеке, православную антропологию, выразил более всего Ф. М. Достоевский, который говорил, что в человеке Бог и дьявол борются, и место битвы — сердце человека.
А означает эта мысль то, что многие помыслы, интенции, мыслительные веяния как добрые, так и дурные, приходят к человеку из внешнего для него духовного мира, а не гнездятся непосредственно в его над- и подсознании. Человек их воспринимает и как-то к ним относится. Существует целая градация степеней, последовательности особенностей принятия человеком по-мысла2. Так же под влиянием внешних впечатлений зарождается в человеке собственный помысел3. Человек находится в состоянии постоянного выбора,
-
2 «По определению рассудительных отцов, иное есть прилог, иное — сочетание, иное — сосложение, иное — пленение, иное — борьба, и иное, так называемая — страсть в душе. Блаженные сии определяют, что прилог есть простое слово, или образ какого-нибудь предмета, вновь являющийся уму и вносимый в сердце; а сочетание есть собеседование с явившимся образом, по страсти или бесстрастно; сосложение же есть согласие души с представившимся помыслом, соединенное с услаждением, пленение есть насильственное и невольное увлечение сердца, или продолжительное мысленное совокупление с предметом, разоряющее наше доброе устроение; борьбою называют равенство сил борющего и боримого в брани, где последний произвольно или побеждает, или бывает побеждаем; страстию называют уже самый порок, от долгого времени вгнездившийся в душе, и чрез навык сделавшийся как бы природным ее свойством, так что душа уже произвольно и сама собою к нему стремится. Из всех сих первое безгрешно; второе же не совсем без греха; а третие судится по устроению подвизающегося; борьба бывает причиною венцов или мучений; пленение же иначе судится во время молитвы, иначе в другое время, иначе в отношении предметов безразличных, т. е. ни худых, ни добрых, и иначе в худых помышлениях. Страсть же без сомнения подлежит во всех, или соразмерному покаянию, или будущей муке; но кто первое (т. е. прилог в мысли), помышляет бесстрастно, тот одним разом отсекает все последнее» (Иоанн Лествичник, 2014, 73: Лествица, Слово 15).
-
3 Свт. Феофан Затворник по данному вопросу говорит: «Скажу вам, когда начинается грешность. Вот как идет искушение: 1) представляется в мыслях худое или глаз что увидит, и виденное пробуждает мысли недобрые! Это есть прилог или приражение. Тут нет грешного, ибо и то и другое невольно нападает. Если вы тотчас, как только сознаете, что это худое, воспротивитесь ему и к Господу обратитесь, вы сделаете должное — подвиг духовный. Но если вы не воспротивитесь, а станете думать и думать, не сопротивляясь и не ненавидя, не отвращаясь, то это уже не доброе. Душа пошатнулась. Тут нет еще греха, но шаг ко греху сделан^ Но если кто займется помыслом этим и станет думать о нем и думать, то он сделает второй акт грехопадения: 2) внимание к злому помыслу или собеседование с ним. Тут нет еще греха, как я сказал, а полагается ему начало; 3) третий момент в грехопадении — сочувствие худому помыслу: приятно думать и самое дело приятно. Тут больше греха, но еще нет его. Это нечистота. И бывает, сочувствие вырывается вдруг — непроизвольно; 4) четвертый момент в грехопадении есть склонение воли, пожелание дурного, хотя еще не решительное. Тут грех есть, ибо есть дело произвольное. Чувствами не всегда можно владеть, но пожелания в нашей власти. Однако ж все это не настоящий грех, а только преддверие к нему; 5) пятый момент — согласие на грех или решение согрешить. Тут грех настоящий, только внутренний. За этим не замедлит явиться и 6) грех делом^ И се настоящее падение, пагуба души, потеря благодати, подпадание под власть врага. Так вот^ гоните помыслы, не вступая с ними в разговоры, подавляйте тотчас сочувствие, уничтожайте пожелания^ Тут вся борьба^ И бывает, что помысел, сочувствие и пожелание — все в один момент прои-зойдут^ Ничего^ В таком случае они все стоят будто прилог^ И борьба всё удобно прогонит их. Чувство грешно, когда соизволяют на него, удерживают и разжигают его; а когда оно невольно врывается в душу, душа не хочет его и напрягается вытеснить его — тут греха нет, а есть борьба добрая^ Грешное дело так идет: мысль, чувство
по каждому случаю и поводу. Мозг обычного человека, не святого и не подвижника, порой просто переполнен разнообразными помыслами. Он может жить по их течению, не вникая в них и не стремясь в них детально разбираться, а может в каждом случае, по поводу каждого помысла совершать свой выбор: в пользу Бога или в пользу дьявола. В результате переполненности сознания человека помыслами, которые тянут его то в одну, то в другую сторону, человеку его внутренний мир может показаться иррациональным, если он вообще о нем задумается. Обычный человек просто поддается потоку разрозненных мыслей и живет как бы в некоей туманной пелене. В такой же туманной пелене человек совершает порой и серьезный выбор своей жизни, порой и в пользу добра, поскольку Бог борется за человека в сердце его. По мере продвижения в духовной жизни человек высветляет все свое полное помыслов подполье, научаясь не просто осознанно относиться к каждому помыслу, но различать его на дальних подступах, когда заметна только еще легкая тень его — прилог, как это называется в православной аскетике.
Таким образом, психика человека — поле битвы, которая в идеале вся должна осознаваться, вся быть сознательной, рациональной, но человек по лени и неразумности своей не желает осознавать, поскольку это не просто работа — это искусство, и живет в мире иррационального и неосознаваемого (бессознательного).
Помыслы, которые мелькают в сознании, если они не отвергнуты, усложняются — становятся психологическими комплексами и захватывают части сознания, опять же превращая сознание в бессознательное, правильно было бы сказать, расширяя поле неосознаваемого психического. Что представляет собой комплекс? Связку устойчивых ассоциаций и коннотаций, которые по рабощают человека, не давая ему мыслить и чувствовать с вободно4.
и сочувствие, соизволение, решение или избрание и дело. Кто прогонит мысль^ чист остается. С чувства и сочувствия начинается грешность по мере соизволения. Где нет соизволения, там нет греха» (Добросельский, 2009).
Но может ли человек избавиться от комплексов человеческими — своими или психолога, наставника, учителя — силами? Нет, поскольку в отличие от представлений современного гуманистического психоанализа человек по природе вовсе не хорош. Он образ Божий, но он пал. И поднять его вновь, дать возможность сделать свою психику правильно сознательной и правильно рациональной может только Бог. Человек же может только проявить интенцию к тому: выбрать среди своих помыслов те, что внушает Бог, и напрячься, чтобы им последовать.
Как правило, человек плывет по течению мысли, в уме у него всплывают то те, то другие помыслы, которые кажутся происходящими из подсознания. Порой эти помыслы весьма странны, и человек, иногда совместно с психоаналитиком, пытается разобраться, с какими комплексами они связаны. Но чаще человек просто живет в мареве разнообразных помыслов, как в тумане, и самому себе кажется сильно зависимым от своего подсознания. Ему кажется, что марево это невозможно рассеять. Но вся православная аскетика учит именно тому, как его рассеять. Подвижник постоянно, можно сказать, профессионально занимается тем, что оценивает каждый помысел: от Бога он или от дьявола, и на ранних подступах отсекает все греховные, дьявольские. Для этого подвижник постоянно пребывает в состоянии собранности и определенного напряжения, трезвения, как это называется. И пребывает он в состоянии перманентного противоборства, внутренней брани, мысленной брани, невидимой брани, как ее называют. Именно поэтому подвижника часто именуют духовным воином, который постоянно начеку и готов отбить любой удар противника. Именно потому в православной антропологии не говорится о бессознательном. Сферы психики, в которой бы содержались принципиально неосознаваемые комплексы, у человека просто нет; есть лишь человеческой природы, которые выявились по грехопадении. Таким образом, два эти стремления в человеке различны хотя бы потому, что у них совершенно разный источник. Эти два несводимых друг к другу вида стремлений — то, что от сотворения и возникшее по грехопадении — определяют ряд «экзистенциальных» кризисных проблем в жизни человека, в том числе и ту, о которой писал Святой Апостол^ Однако телесными проявлениями не ограничивается действие тления в человеке. Из греческого текста 2 Кор 11:3 — ^ боюсь, чтобы ваши умы не повредились (φοβοΰμαι δέ μή πως φθαρή τά νοήματα ύμών; слав.: да не истлеют умы ваша), уклонившись от простоты во Христе, можно понять, что тление проявляется и на уровне души. Ум растлевается, обращаясь от простой веры в Бога, основанной на созерцании и надежде, к сложным теологическим системам. На уровне всех сил души заметна дезинтеграция, появляются противоречивые стремления и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую (Рим 2:15). Рассогласование душевных сил приводит к специфическим психопатическим проявлениям. Основатель современной психопатологии Пьер Жанэ считал, что в основе истерии лежит механизм, называемый диссоциация. Часть психики, которая обычно подавляется и не может проявиться в какой-либо форме активности, отщепляется от целостности психической жизни, приобретает собственную автономию и начинает самостоятельно управлять определенными психическими или физическими процессами. Тогда они уже не подчинены психике как целостность, не подвластны актам воли, а являются лишь отщепленной частью. Расщепление, но уже в значительно более сильной степени, характерно и для шизофрении» (Новиков, 2000).
некие безотчетные мысли, комплексы, образы, которые человек не может вполне осознать потому, что не особенно этого хочет (или просто не хочет) и не прикладывает к тому достаточных усилий. Эти мысли, комплексы и образы загромождают периферию сознания человека, образуя там темную хаотическую зону, подполье человека. Но человек призван не культивировать свое подполье, а вычистить, осветлить его, вывести на свет Божий с помощью тех средств, которые предлагает ему православная традиция духовной жизни.
Если мы говорили о том, что значение детских травм в формировании человека преувеличено, то такие комплексы, которые соотносятся, например, с ин-териоризированным образом матери с его доминирующей ролью в жизни человека, кажутся некоторой научной мифологемой. Душа человека — это отнюдь не область, которую только дьявол заполняет своим голосом, через помыслы и наветы; прежде всего, Бог говорит в душе человека. У христианина не возникает вопроса о том, как у человека формируются представления о нравственности: Бог вкладывает их в душу. Совесть — это постоянно звучащий в душе голос Бога. Звучащий до тех пор, пока человек желает его слышать. Такие объяснительные механизмы как «супер-эго», образ матери — излишни. В психике человека нет жесткой оформленной структуры, которая бы руководила его действиями и предписывала бы ему, что добро и что зло. Бог ежеминутно сообщает человеку, что добро и что зло, а человек имеет свободную волю, чтобы принять это различение и последовать ему в своей жизни или отвергнуть: в целом и в каждом конкретном случае, даже самом мелком.
Но человек, конечно, не сепаратор, который просто механически совершает выбор. То, как он его совершает, индивидуально, личностно, и зависит от опыта пережитого и переработанного, выстраданного личностью. Кроме того, это зависит и от выстраданного, переработанного и пережитого тем коллективом, сообществом, к которому человек себя относит, его культурой. Если добро и зло объективны, не зависят от культуры человека, то, как его воспринимает человек, зависит от его личного и коллективного опыта. Но что именно определяет опыт?
Опыт определяют приемы восприятия, механизмы восприятия, которые становятся привычными и потому удобными для человека. На личностном уровне человек склонен прибегать к тем приемам восприятия, мышления, объяснения, действия, которые в прошлом оказались более эффективными: в смысле реальных последствий или для психологического комфорта. Вопрос внутреннего опыта и отбора того или иного арсенала средств на личностном уровне сложный и отдельный, мы его в подробностях касаться не будем. Лишь скажем: сами по себе приемы, способы и механизмы мышления не нейтральны, они могут более или менее прояснять для нас противостояние Добра и Зла в этом мире или вовсе замутнять его, нивелировать сам факт существования объективной Истины. Кому-то удобно мыслить так, словно Истины вне его не существует; ему так комфортно, он выбрал этот мыслительный комфорт и привык к нему. Мы ведь уже говорили, что жизнь подвижника никогда не комфортна, она всегда труд, трезвение. Она сознательна. Жизнь выбравшего психологический комфорт пребывает в области безотчетности, функциональной бессознательности. Ибо бессознательное, как оно действительно существует, функционально. Оно является функцией стремления мысли, сознания человека находиться в покое, не трудиться. Но не надо говорить о стремлении мысли к покою с однозначно негативным оттенком. Часто это — необходимая экономия усилий. Воспринятые и выученные приемы восприятия, мышления, чувствования, действия — необходимая реальность человеческой жизни, и они функционально бессознательны.
Большую часть таких функционально неосознаваемых орудий, механизмов и инструментов дает человеку культура. Они, как правило, не индивидуальны, а воспринимаются человеком из арсенала, который содержит в себе культура, в которой человек живет. Культура — хранилище таких мыслительных и деятельностных инструментов адаптации и интерпретации человеком мира материального и духовного.
Некоторые психологи и филологи говорят о том, что человек рождается предрасположенным к усвоению языка, в его психике уже к моменту рождения содержатся матрицы, которые впоследствии заполняются парадигмами того или иного человеческого языка. Точно так же человек рождается предрасположенный к восприятию и научению культуре. Майкл Коул полагал, что специфической характеристикой человека выступает его потребность и способность обитать в окружении, измененном деятельностью живших до него людей. Дети обладают способностью к восприятию артефактов и оперированию ими, а также, со временем, и производству их (Коул, 1997). Мы полагаем, что подобно врожденным парадигмам языка в психике ребенка существуют врожденные культурные парадигмы, которые наполняются конкретным содержанием в процессе обучения человека культуре. Эти парадигмы наполняются не только значениями, специфическими для той или иной культуры, но и, что важно, моделями поведения, восприятия, чувствования, познаниями, характерными для культуры того или иного человеческого сообщества.
Как человек, разговаривая на родном языке, обычно не рефлексирует языковых парадигм, так и в процессе всей самой широкой культурообусловленной деятельности человек не осознает парадигмы, в соответствии с которой он эту деятельность осуществляет. Так же как путем особой рефлексии, к которой специально не обученный человек неспособен, человек может осознать правила, по которым строит свою речь, так же принципиально осознаваемы культурные парадигмы, но практически они руководят деятельностью людей — носителей той или иной культуры — безотчетным для них образом.
Культура — сложная среда, которая делает возможной земную жизнь человека, это — система, устанавливающая связь между человеком, материальным миром и миром духовным. Культурная связь с миром Высшим (а в некоторых культурах с миром падших духов) устанавливается через Символы и значения. Это некие идеальные инструменты, если можно так сказать, орудия, через которые Высший смысл о явлениях земной жизни проникает в нее, и материальная жизнь получает осмысленность, становится средой обитания человека как существа не только материального, не только даже душевного, но и духовного. Значения и смыслы в своей идеальной форме концентрируются в концептосфере человека, являющейся для него орудием интерпретации духовного, душевного и материального. В несколько формализованном виде она выражается через систему ценностей — ответов, которые человек в каждой культуре дает на основные вопросы бытия. В сознании человека ценности присутствуют в виде системы концептов, разложенных на специфические для каждой культуры парадигмы восприятия и познания, чувствования. Концепты — это интерпретации заложенных Творцом в мир символов и значений с помощью психических орудий и механизмов человека. Человек интерпретирует также и материальный мир через адаптацию к нему и адаптирование материального мира к человеку посредством человеческой деятельности. Тут деятельность и интерпретация неразрывно связаны. Орудия интерпретации-деятельности — специфический инструментарий культуры.
Вот эти парадигмы интерпретирования мира — духовного и материального — и следует сопоставить с парадигмами человеческого языка. Более того, язык включается в культурную парадигматику. Именно способность к усвоению парадигм интерпретирования, где частным случаем интерпретирования выступает деятельность человека, является ключевой врожденной способностью человека.
Как парадигмы языка, к усвоению которых предрасположен человек, отражают отношения между основными частями речи — существительными, глаголами, прилагательными, — так и парадигмы культуры отражают базовые понятия, внутри которых интерпретирует и действует человек. Базовые понятия — это образ Творца, образ человека как личности, индивида, соборности как связи с другими личностями, поскольку по естеству своему человек существо соборное (а в преломлении к падшему миру — существо коллективное, живущее и действующее по преимуществу в коллективе). Базовые понятия — это также все модели действия и взаимодействия, приемы интерпретирования, то есть совокупность когнитивных, перцептивных, эмоциональных, интеллектуальных и материальных орудий приспособления к духовному и материальному миру эмпирического, падшего человека.
По мере восхождения человека к Творцу его орудия интерпретации становятся все более духовными и универсальными, жизнь человека становится все в большей мере молитвой и созерцанием с минимальными уступками материальному, а система воспринимаемых им символов и значений все более соответствует объективной реальности — они становятся все более настоящими и истинными. Тут значение культуры постепенно отступает. Но эмпирический, падший человек живет в мире разделенном и затуманенном, в мире множественности культур, которые более или менее далеки от Истины. Генезис множественности культур восходит к греховности устремлений человека, разнообразие культур, равно как и разнообразие языков, — это наказание, которое Творец наложил на человека. Тем не менее, культура — это тот инструмент, с помощью которого эмпирический, падший человек может начать свое восхождение к Творцу через содержащиеся в культуре символы и значения. Одни культуры ближе к истинным Символам, другие дальше, но в каждой из них они так или иначе преломляются.
Таким образом, культура состоит из орудий интерпретации духовного и материального мира (в большей или меньшей мере, в культурах человеческих разнящихся), которые позволяют человеку постигать духовный мир и адаптировать мир материальный, причем адаптировать и практически, и психологически. И эти орудия для подавляющего большинства людей безотчетны. Человек просто обитает в среде, наполненной этими орудиями, использует их, вовсе того не осознавая. Совокупность, систему этих орудий можно назвать имплицитной, скрытой культурой.
Но имплицитная культура не что-то внешнее по отношению к человеку, доминирующее над ним, бессознательное, а потому необоримое, иррациональное. Человек своими усилиями, посредством формирования и переформирования концептосферы своей культуры является со-творцом значений символов вещей и явлений материального мира, трансформируя картину мира, в которой живут носители той или иной культуры, приближая ее к истинной, объективно существующей, такой как ее сотворил Творец, или отдаляя от нее, погружаясь в мир иллюзий. Совершают это конкретные люди, которые менее других погружены в «социальный» поток, социальное окружение, более обращены к ценностям и смыслам культуры.
Список литературы Существует ли бессознательное?
- Добросельский (2009) — Добросельский П.В. О полемических аспектах происхождения, грехопадения и цели земной жизни человека. М.: Благовест, 2009. 816 с.
- Иоанн Лествичник (2014) — Иоанн Лествичник, прп. Лествица, или скрижали духовные. М.: Сибирская благозвонница, 2014. 576 с.
- Кляин (2010) — Кляин М. Детский психоанализ. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2010. 160 с.
- Коул (1997) — Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего. М.: «Когито-Центр», Издательство «Институт психологии РАН», 1997. 432 с.
- Новиков (2000) — НовиковД.В. Христианское учение о человеке // Человек. 2000. № 5. С. 112-126; № 6. С. 97-108; 2001. № 1. С. 119-127.
- DuBois (1944) — DuBois C. The People of Alor: a Socio-Psychological Study of an East Indian Island. Minneapolis: University Minnesota Press, 1944.
- Gorer, Rickman (1949) — Gorer G, Rickman J. The People of Great Russia: a Psychological Study. London: The Cresset Dress, 1949.
- Kardiner (1939) — Kardiner A. The Psychological Frontier of Society. New York: Columbia University Press, 1939.
- Kardiner, Linton (1945) — Kardiner A., Linton R. The Individual and His Society. New York: Columbia University Press, 1945.
- Keesing, Keesing (1971) — Keesing P. M., Keesing F. M. New Perspectives in Cultural Anthropology. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971. 457p.
- Wallace (1961) — WallaceA.F. C. Culture and Personality. New York: Random House, 1961. 213 р.