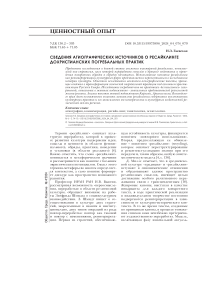Сведения агиографических источников о ресайклинге дохристианских погребальных практик
Автор: Гаевская Н.З.
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Ценностный опыт
Статья в выпуске: 4 (73), 2024 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования в данной статье является культурный ресайклинг, понимаемый как стратегия, цель которой переработка смыслов в процессе подготовки и проведения похоронных обрядов и обрядов почитания. Использование понятия ресайклинга как реинтерпретации культурных форм представляется перспективным в исследовании истории культуры. Объектом исследования являются агиографические тексты, хранящие сведения о трансформации языческой погребальной традиции под влиянием христианизации Русского Севера. Иccледование сосредоточено на практиках «безземельных» захоронений, описанных в житиях подвижников - уникальных представителей религиозной жизни региона. Анализ текстов житий подвижников Карелии, Архангельска, Вологодского края дает возможность выявить механизмы ресайклинга содержания коллективных культурных практик и его зависимость от исторических и культурных особенностей религиозной жизни региона.
Агиография, коммеморация, ресайклинг, танатология, эсхатология
Короткий адрес: https://sciup.org/140308633
IDR: 140308633 | УДК: 130.2-393 | DOI: 10.53115/19975996_2024_04_074_079
Текст научной статьи Сведения агиографических источников о ресайклинге дохристианских погребальных практик
Общество. Среда. Развитие № 4’2024
Термин «ресайклинг» означает культурную переработку, которой в процессе развития культуры подвержены идеи, смыслы и ценности (в области феноменального), обряды, практики, поведение и установки (в области реального) [4]. Важно отметить, что слово «ресайклинг» понимается в метафорическом значении и рассматривается как понятие с большим эвристическим потенциалом. Смысл этого термина-метафоры во многом определяется контекстом, а само понятие формирует дискурс как пространство возможного развития.
Профессор ИРЛИ РАН И.В. Вьюгин, рассматривая возможность «переосмысления, переработки» в области религиозной культуры, обращает внимание на работы Зигфрида Шмидта о социокультурном взаимодействии. З. Шмидт пишет о сосуществовании в культуре двух стратегий, закрепленных в памяти и институционально, двух типов операций из ряда повтор-переработка: повтор как таковой и повтор с изменениями, реинтерпретация. Первая из стратегий, обеспечиваю- щая устойчивость культуры, фиксируется понятием «повторного использования». Вторая, предполагающая ее обновление – понятием «ресайклинг» (recycling), которое означает переструктурирование и реконтекстуализацию знания при его передаче и, таким образом, особую эпистемологическую модель [4, с. 136].
Д. Миллс отмечает, что в средневековой культуре «традиция» и «ресайклинг» вступают в синонимические отношения и образовывают единое пространство религиозных смыслов, имеющее целью достижение особого религиозного переживания связи с трансцендентным [18]. Жанровые каноны, выступая в качестве инварианта для каждого конкретного текста, в ходе практической реализации в индивидуальном творчестве постоянно подвергаются реинтерпретации в зависимости от культурно-исторического контекста. В то же время тексты, созданные по принципам канона,в процессе умножения списков сами неизбежно претерпевают художественную переработку. Модель, включающая фазу изначальной актуаль- ности топики, фазу ее вытеснения на периферию и фазу повторного возвращения, может быть также востребована для анализа проблемы ресайклинга, переосмысления, в области религиозной культуры [17, 4, с. 150].
Теория ресайклинга открывает новые возможности исследования дохристианских элементов коммеморативных практик в русской культуре. Предмет данного исследования – это культурный ресайклинг в похоронных обрядах и обрядах почитания. Основной источник – агиографические тексты Русского Севера XVI–XVII вв. Исследование сосредоточено на практиках «безземельных» захоронений, описанных в житиях подвижников – уникальных представителей религиозной жизни региона, с которыми связаны места памяти. Обращение к житийной топике как основе культурной памяти позволяет рассматривать тексты северной агиографии в качестве историографического источника.
Жития местночтимых святых имели большое значение для становления системы религиозных представлений Русского Севера и формирования христианской культуры на этой территории. Известный вологодский исследователь Р. Биланчук пишет: «Мемориальная триединая система: житийный текст – устная традиция – обрядово-праздничная практика, выполняла важнейшую функцию установления пространственно-временных координат существования малого коллектива и способствовала поддержанию в нем нормативного порядка и коллективной идентичности» [3, с. 26]. Процесс переработки культурных смыслов начинается автором житийного текста, который становится историческим толкователем, интерпретация автора входит во взаимодействие с каноном, формируется коммеморативный и танатологический дискурс. Эсхатологическая перспектива жанра жития определяет особое значение описания христианского похоронного обряда,в котором сохраняются сведения о погребальных практиках славянской традиционной культуры.
Агиографический нарратив обусловлен не только христианским каноном и народной традицией, но и присутствием рядом с подвижником коренных жителей Севера (обобщенно – чуди) с их мифологическими представлениями и архаическими ритуалами. Н.М. Тере-бихин пишет: «Цикл чудских преданий является универсальным этнологическим и историографическим мифом, с по- мощью которого всё странное, чужое и неизвестное получало свое объяснение и включалось в освоенный человеком пространственно-временной континуум» [15, с. 205]. Одним из наиболее характерных текстов, говорящих о присутствии чудского культурного элемента, является житие Кирилла Челмогорского, свидетельствующее о постоянном контакте с нехристианским народом, о поведении чуди и обычаях некрещенных чудинцев. В житии мы читаем: «Бяху же инии еще некрещени живуще во окрестныхъ ж местехъ, имяху чудский языкъ и веру. <…> Во время убо некое приидоша к преподобному по прозванию чудь белоглазая» [6].
В житийных текстах об Афанасии На-волоцком Шенкурском (XV в.), Прокопии Устьянском (1692), Кирилле Вельском (1450), Иакове Боровичском (1540), Иоанне и Логгине Яренгских (1544), Артемии Вер-кольском (1532), Варлааме Важском (1462), основой нарратива является ресайклинг сюжета о «безземельной смерти» в контексте христианской традиции.
Так, праведный Артемий Верколь-ский (1545) умер от удара грома во время страшной грозы, когда он с отцом работал в поле. Тексты свидетельствуют, что отец положил тело в лесу: «Положив же бысть тело на пусте месте, в лесе верх земли, не погребено, одаль от церкви» [5, с. 254]. Объектом коммеморативной практики здесь становится умерший «напрасной» смертью [8, с. 99], так в житии Верколь-ского отрока нашла отражение традиция заложных покойников: «Тело блаженного, как умершего от внезапной смерти, осталось неотпетым и непогребенным, его положили поверх земли, прикрыли хворостом и берестою и огородили деревянной изгородью» [7, с. 463]. Однако мощи отрока были обретены нетленными в 1577 г. и перенесены в Никольскую церковь Верколы, а место обнаружения мощей отмечено строительством новой церкви, а затем монастыря. В традиционной культуре умершие безземельной смертью, незахороненные по христианскому обряду, считались табуированной фигурой, но одновременно наделялись сакральным, магическим значением [16, с. 149]. Они внушали окружающим людям страх как нечистое, опасное явление. Придавать тело земле по общему правилу в подобном случае было запрещено народными верованиями, а безземельные захоронения становились источником народных легенд, фантазий и новых поверий.
Общество
Общество. Среда. Развитие № 4’2024
Традиционная обрядовая практика преимущественно основана на фольклорномифологических представлениях, тогда как в церковно-литургической практике преодолевается архаическое представление о смерти как инверсии мира живых и, как следствие, исключается традиция заложных покойников [2, c. 115]. Прославление мощей – это часть обряда по христианскому канону, открывающего в сакральном пространстве смерть ритуальную, выражающую идею жертвы. Нарративы о многочисленных исцелениях от нетленных мощей св. Артемия отражают процесс ресайклинга представлений о сакральности тела покойного, погибшего внезапной смертью: перехода от идей опасности и вредоносности к идее помощи и исцеления.
Традиция безземельных захоронений известна в славянской культуре еще с языческих времен. Например,в Повести временных лет: «И аще кто умряше, тво-ряху трызну надъ нимь, и посемъ творяху кладу велику, и възложать на кладу мерт-в ѣ ца и съжигаху, и посемъ, събравше кости, вложаху въ ссудъ малъ и поставляху на столп ѣ на путехъ, иже творять вятичи и нын ѣ » [12, с. 15]. Она же присутствует в погребальных обрядах коренных народов севера: саамов, ижорцев и др. Еще в середине XX в. на северных землях Кар-гополья и Мезени встречались чудские «домики мертвых», срубцы и производные от них формы.
Проблемы культурной переработки традиций языческих захоронений в исторической ситуации христианизации региона нашли отражение в священнических наставлениях. В «Вопрошании Кирика» о правилах погребения говорится: «Оже кости мертвых валяются где, то велика человеку тому мзда, оже погребут их» [10, с. 377]. Языческие представления о погребении, непридании земле стали предметом последующего культурного осмысления, послужившего основой трансформации обрядов захоронения в домиках мертвых и ингумации – повторного придания земле в христианском похоронном обряде. Ре-сайклинг и его перформативные свойства не противоречили процессам культурной трансляции: языческое безземельное погребение – традиция заложных покойников в христианскую эпоху – формирование нового типа житийного героя-праведника в позднем средневековье [13, с. 432]. Одновременно с этим, как показывают тексты северной агиографии, переосмысление элементов погребальной практики идет в соответствии с законом инверсии, сформулированным К. Леви-Строссом: «Когда при переходе от одной группы к другой пластическая форма сохраняется, то семантическая функция инвертируется. Наоборот, когда семантическая функция сохраняется, то инвертируется пластическая форма» [9, с. 64]. То есть при переводе одной и той же погребальной структуры из архаической (языческой) культурной системы в христианскую происходит ее семантическая инверсия.
Неотъемлемое условие исследования ресайклинга – изучение контекста этого явления. Вопрос о закономерностях северных похоронных обрядов и танатологических мотивов агиографии контекстуально связан с географическими условиями местности. Регион от Карелии, Подвинья до Пинежья и Поморья обладает уникальными характеристиками. Это сложные природные условия, холодный климат, долгая зима, малое количество дорог, труднодоступная местность.
Ведущий контекст формирования языческих представлений – это стихия севера, прежде всего водная стихия. Беломорье, бесчисленные реки и озера, островное существование жителей порождают мотивы неопределенности, затерянности в водных пространствах и мотивы преодоления водной преграды.
Одна из особенностей жизни севера – это позднее открытие льда на реках, когда идут продолжительные весенние паводки, которые затапливают обширные пространства побережий северных рек. Наводнения повлияли на формирование местной культуры, в частности практики захоронений в убогих домах. Культурологические исследования захоронений в районах древних чудских поселений позволяют сделать вывод о том, что языческие коммеморативные практики «не-придания земле» связаны с природными условиями местности. Захоронение в срубцах, срубах, известное в регионе Северной Двины, служило для решения трудностей похоронного обряда в зимних условиях. Впоследствии в христианском дискурсе захоронения в домиках мертвых стали связывать с представлениями о некрещенной смерти, гибели без причастия, в нарушение христианской традиции.
Вместе с тем история северных земель показывает, что захоронение неизвестных погибших путников или мореплавателей было религиозным долгом, особенно для поселенцев-христиан. Житийное описание захоронения по христианскому канону, «придания земле», мы можем рассматривать как форму культурного переосмысления практики безземельных захоронений.
Так, устное предание об Афанасии Шенкурском Наволоцком повествует о том, что Афанасий умер в трех верстах от Каргополя зимой на дороге в лесу. Тело Афанасия осталось непогребенным. Во сне он явился четырем заболевшим людям, которые чудесным образом выздоровели. Они и совершили по обету похороны Афанасия по христианскому обряду. В 1725 г. было обнаружено, что «мощи целые и нетленные. В земле лежат, а не во гробе. Благоуханье от мощей везде и погребальные ризы не истлели» [11, с. 136]. Имя Афанасия включено в Собор Карельских святых, празднование которого возобновлено в 1974 г.
В житии Иоанна и Логгина Яренгских мы читаем о прославлении праведных иноков,в разное время застигнутых сильной бурей на море и потонувших. Тела блаженных были найдены нетленными, положены около села Яреньга в часовне на берегу [14, с. 546, 579–591]. Сказание гласит: «Некоей жене Акилине, живущей в Яренге, явился в видении старец, велел пойти “тамо есть срубец и в нем человек погребен”. Старожильцы Яреньги рассказали, что они взяли его в весне на льду и в срубец той положили» [5, с. 218]. Так же как в случае со святым отроком Артемием, со временем на месте погребения святых иноков возник монастырь.
Прославление мощей – это форма освоения в культурном сознании практики «непридания земле» через обращение к со-териологическим смыслам. Строительство монастыря на месте чудесного обретения мощей когда-то «незахороненных» утонувших мореплавателей является еще одной формой культурной переработки языческих представлений. Монашество проводило миссионерскую работу с языческим населением, основывало монастыри, как общежительные, так и скитские, и духовно окормляло большие районы вокруг монастыря, сохраняло и транслировало религиозную традицию. Языческое прошлое подлежало культурной переработке в современном христианском мемориальном дискурсе. При этом топос места для строительства монастыря и религиозномифологические мотивы, его составляющие, часто связаны с «чудским» прошлым. Так, в прошлом часто на месте монастырей проводили погребения еще в дохри- стианский период. Место строительства монастыря становилось местом памяти, объединяя различные смысловые и содержательные пласты.
Нарратив безвестной смерти в христианской агиографии – это всегда история чуда, нахождения жителями северных земель незахороненного тела христианина, чудеса и пророчества, захоронение по христианскому обряду, строительство церкви на этом месте. Феномен чуда находил выражение в визуализации, представляя уникальную модальность феноменального, в которой раскрывается эсхатологический модус невидимого. Невидимое как проявление чуда отсылает к определенной форме темпоральности за пределами времени. Культурные модели, например, сновидческая модель, задает критерии эстетизации изображаемого: все поступки, помыслы и деяния средневекового человека оцениваются с позиций христианского эстетического идеала. Вещий сон также имеет темпоральный аспект: открытие прошлого (судьба и имя неизвестного погибшего) и постижение будущего в явленном в образных формах предсказаний дальнейшей жизни и судьбы. Так, в житийных повестях и сказаниях о чудесах фиксируется в культурной памяти трансформация языческих мотивов.
В целом, в агиографических текстах представлены сведения о процессе христианизации коммеморативных практик. Сказание об Афанасии Наволоцком Шенкурском представляет тематическую группу текстов о пропавших без вести в дороге. Отдельная группа – это тексты об утонувших в море (сказание об Иоанне и Логгине Яренгских, житие Вассиана и Ионы Пертоминских). Житие Артемия Веркольского и житие Иакова Боровичского представляют группу текстов об «убитых грозою» и похороненных как заложные в надземных формах. Феномен обретения мощей во время наводнения, когда земля или вода «издаде», представлен в сказании о Кирилле Вельском, житии Варлаама Важского,житии Прокопия Устьянского, повести о Симеоне Верхотурском, сказании о явлении мощей и чудесах Петра Черевковского.
В агиографии выстраивается определенный вектор эволюции мотива погребения: от стихийности и неопределенности природной северной земли – к именованию и утверждению памяти по жребию, от чудесного обретения мощей – к очищению души. Мотив сакрализуется и фиксирует переосмысление культурных
Общество
дохристианских представлений. Переосмысление практики безземельных захоронений в христианском дискурсе, поиск и захоронение погибших зимой и замерзших по пути, восстановление кладбищ, ингумация,повторное захоронение по религиозному обету, строительство монастырей на месте древних обрядовых комплексов становились формой как культурного ресайклинга, так и коллективной памяти. Коллективная коммеморативная деятельность служила способом социальной солидаризации, объединяя сообщество в трудных условиях севера.
Результатом культурной переработки языческих коммеморативных практик, выражающейся в христианизации обряда, стало то, что дни после Пасхи – Радоница и Семик – стали церковными праздниками и днями коллективного поминовения. В XVI в. митрополит Макарий учредил поминовение «общей памяти»: «В лето 7056 (1548) месяца июня в 21-й день … христолюбивый царь и великий князь Иван Васильевич уставил общую память всем православным христианом от иноплеменных на бранях и на всех побоищех изби-енных, и наготою, и мразом измерших, и во всех пожарах огнем скончавшихся, и в водах истопших. И повелел по них митрополит со всеми соборы пети понафиду и обедню служити» [1, с. 135]. Учреждение «общей памяти» стало важным этапом формирования комплекса христианских обрядов погребения и коммеморативной деятельности.
Обращение к теории ресайклинга является новым подходом в исследовании культурных процессов и генезиса культурных явлений, позволяет исследовать этапы преобразования культурных прак- тик и их смыслового содержания. Выявленная в процессе исследования взаимосвязь агиографического нарратива о «безземельной смерти», танатологических житийных мотивов и исторических сведений о поминовении «общей памяти» позволяет сделать вывод о том, что в процессе ресайклинга, понимаемого как культурное преобразование под влиянием христианизации, выстраивается новая христианская аксиология. Смерть становится не естественным, неизбежным событием, что свойственно языческому сознанию, но преодолевается надеждой на спасение в «жизни будущего века» и обязывает к оценке собственных мыслей и поступков, к покаянию. Обращаясь к теории культурной переработки смыслов, можно добавить, что результатом ресайклинга становилось преображение и героев нарратива, и читателей, что позволяет говорить об эсхатологическом дискурсе, обусловливающем развернутую коммеморативную практику, «с помощью которой сообщество постепенно “вспоминает” истоки “своей” истории и пытается оформить вехи реконструируемого прошлого в новом культе» [3, с. 26].
Надо отметить, что исторические изменения в жизни общества, культурное развитие и когнитивные изменения как культурного, так и религиозного сознания являлись причиной ресайклинга культурных форм, в частности мемориа как единства сакрального и мирского планов существования средневековой христианской общины. Таким образом, ресайклинг становится механизмом воспроизведения культуры, возобновления в новом качестве культурных действий и смыслов.
Общество. Среда. Развитие № 4’2024
Список литературы Сведения агиографических источников о ресайклинге дохристианских погребальных практик
- Алексеев А.И. Духовная культура средневековой Руси. - М.: Индрик, 2016. - 271 с.
- Бедина Н.Н. Эсхатологический хронотоп средневековой русской культуры в служебных и повествовательных книжных текстах / Дисс. ... д-ра культурологии. - Архангельск: САФУ, 2020. - 335 с.
- Биланчук Р.П. Коммуникация с «прошлым» в памятниках агиографии Поважья (XVI-XVIII вв.) // Альманах современной науки и образования. - Тамбов: Грамота, 2015, № 12 (102). - С. 22-27.
- Вьюгин В.Ю. «Культурный ресайклинг» в XXI в. Как его теперь понимать? // Антропологический форум. - СПб.: Институт антропологии РАН, 2023. - № 56. - С. 120-168.
- Дмитриев Л.А. Житийные повести Русского Севера как памятник литературы XIII-XVII веков. -Л.: Наука, 1973. - 302 с.
- Житие прп. Кирилла, игумена Челмогорского, Каргопольского чудотворца [Прив. по списку XVIII в. // Барс. № 794, л. 11об.; л. 12. Публ., подгот. текста и примеч.: А.Б. Мороз // Альфа и Омега. -1998, № 3. - С. 200-236]. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.pravmir.ru/kargopolskogo-ЛЫот>та/ (28.09.2024).
- Жития святых по руководству Четьих Миней святителя Димитрия Ростовского. - М.: Синодальная типография, 1903-1916. Т. II. Октябрь. 20. - 646 с.
- Зеленин Д.К. Очерки русской мифологии: Умершие неестественною смертью и русалки / Институт славяноведения РАН. - М.: Индрик, 1992. - 430 с.
- Леви-Строс К. Путь масок / Пер. с фр., сост., вступ. ст. и примеч. А.Б. Островского. - М.: Республика, 2000. - 399 с.
- Мильков В.В., Симонов Р.А. Кирик Новгородец: ученый и мыслитель // Вопрошание Кириково (по списку ГИМ, Увар. № 791, л. 246) / РАН Ин-т философии. - М.: Кругъ, 2011. - 534 с.
- Никодим (Кононов), иером. Архангельский патерик. «Сказание о чудесах явленного святого Афанасия Наволоцкого» (по списку «Сказания о чудесах Афанасия Наволоцкого» ГИМ, собр. П.И. Щукина, № 429, л. 1-2 об.). - СПб., 1901. - 228 с.
- Повесть временных лет. - М. - Л.: Издательство Академии наук СССР, 1950. - 404 с.
- Рыжова Е.А. Жития праведников в агиографической традиции Русского Севера // Труды Отдела древнерусской литературы / РАН. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Н.В. Понырко. - Т. 58. - СПб.: Наука, 2007. - С. 390-442.
- Сергия, смиреннаго инока... Сказание о чюдесех святых Иоанна и Логгина / Изд.: О.С. Сапожникова (по спискам РНБ, Соловец. собр. № 963/1073, XVII в., № 969/1079) // Русская агиография: Исследования, публикации, полемика. - СПб., 2005. - 789 с.
- Теребихин Н.М. Метафизика Севера. - Архангельск: Издательство Поморского университета, 2004. - 271 с.
- Туминская О.А., Гаевская Н.З. Образ юродивого в слове и изображении. - СПб.: Джазпринт, 2021. -220 с.
- Thompson M. Rubbish Theory the Creation and Destruction of Value / New ed. - London: Pluto Press, 2017. - 304 p.
- Mills D. Recycling the Cycle: The City of Chester and Its Whitsun Plays. - Toronto, Ontario: University of Toronto Press, 1998. - 296 p.