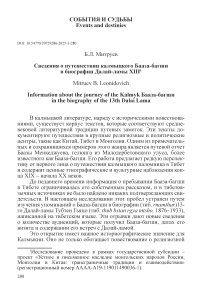Сведения о путешествии калмыцкого Бааза-багши в биографии Далай-ламы XIII
Автор: Митруев Б.Л.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: События и судьбы
Статья в выпуске: 3 (85), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется присутствие калмыцкого буддийского монаха и паломника Бааза-багши (Баазы Менкежуева) в тибетской биографии 13-го Далай-ламы Тубтена Гьяцо (тиб. thub bstan rgya mtsho; 1876–1933), проливая новый свет на ранее недостаточно изученные аспекты калмыцко-тибетских религиозных отношений. Хотя собственное повествование о путешествии Бааза-багши – «Сказанию о хождении в Тибетскую страну» – долгое время служило ключевым источником о его паломничестве в Тибет с 1891 по 1893 год, до недавнего времени в тибетских источниках не было найдено никаких подтверждающих свидетельств. Благодаря тщательному филологическому и историческому изучению биографии Далай-ламы «Ожерелье чудесных драгоценностей», написанной Пхурбучок Тубтен Джампа Цултрим Тендзином, это исследование выявляет и анализирует подробные ссылки на визиты Бааза-багши, его взаимодействие с Далай-ламой и почести, которые он получил, включая долгосрочные посвящения и официальные печати. Статья предлагает детальное изображение Бааза-багши как религиозного представителя и культурного эмиссара калмыцкого народа. В ней документируется значительная поддержка, которую он получил от калмыцкой знати, в частности от нойона Малодербетовского улуса, и исследуется его укорененность в давней семейной линии буддийских священнослужителей, связанных с монастырем Дунду-хурул – одним из самых выдающихся религиозных и художественных центров Калмыкии того времени. Работа также помещает путешествие Бааза-багши в более широкую традицию буддийского паломничества и дипломатии, подчеркивая важность повествования от первого лица в дореволюционной калмыцкой литературе и роль тибетских биографических текстов (тиб. rnam thar) как богатых источников для реконструкции межрегиональных исторических сетей. Вводя в диалог тибетские и калмыцкие источники, статья вносит вклад в растущий объем исследований мобильности буддийских практиков во Внутренней Азии и культурных потоков, которые сформировали религиозный и политический ландшафт позднего Цин и границ Российской империи. Она также подчеркивает необходимость междисциплинарных методологий, объединяющих историческую, текстовую и лингвистическую экспертизу, особенно в случаях, связанных с многоязычной и кросс-культурной документацией. В конечном счете, это исследование углубляет наше понимание духовных связей между Тибетом и Калмыкией и подчеркивает роль паломничества как средства как для личного религиозного удовлетворения, так и для трансрегиональной связи в буддийском мире.
Бааза-багши, калмыцкий буддизм, Далай-лама, калмыцкая степь, Тибет, путевые заметки, буддийское паломничество, калмыцко-тибетские отношения, трансрегиональные буддийские сети
Короткий адрес: https://sciup.org/149149222
IDR: 149149222 | DOI: 10.54770/20729286-2025-3-280
Текст научной статьи Сведения о путешествии калмыцкого Бааза-багши в биографии Далай-ламы XIII
Mitruev B. Leonidovich
Information about the journey of the Kalmyk Бааза-багши in the biography of the 13th Dalai Lama
В калмыцкой литературе, наряду с историческими повествованиями, существует корпус текстов, которые соответствуют средневековой литературной традиции путевых заметок. Эти тексты документируют путешествия в крупные религиозные и политические центры, такие как Китай, Тибет и Монголия. Одним из примечательных и сохранившихся примеров этого жанра является путевой отчет Баазы Менкеджуева, гелюнга из Малодербетовского улуса, более известного как Бааза-багши. Его работа предлагает редкую перспективу от первого лица о путешествии калмыцкого паломника в Тибет и содержит ценные этнографические и культурные наблюдения конца XIX – начала XX веков.
До недавнего времени информация о пребывании Бааза-багши в Тибете ограничивалась его собственным рассказом, и в тибетоя-зычных источниках не было найдено никаких подтверждающих свидетельств. В настоящем исследовании этот пробел устранен путем изучения упоминаний о Бааза-багши в биографии (тиб. rnamthar )13-го Далай-ламы Тубтен Гьяцо (тиб. thub bstan rgya mtsho, 1876–1933), написанной на тибетском языке. Эти отрывки дают новые сведения о количестве аудиенций, которые получил Бааза-багши, датах его визита и содержании его встреч с Далай-ламой.
Это открытие имеет важное историографическое значение для Калмыкии. Оно не только обогащает повествование о религиозной и дипломатической миссии Бааза-багши, но и подтверждает более широкую традицию: включение встреч с иностранными паломниками в биографическую литературу Далай-лам. Такие ссылки подчеркивают международный характер тибетского буддийского мира и роль Далай-ламы как межрегионального духовного авторитета. Подтверждение визита Бааза-багши как в калмыцких, так и в тибетских источниках позволяет лучше понять калмыцко-тибетские отношения и способствует изучению межрегиональных буддийских сетей.
Рис. 1. Бааза Менкеджуев. Фото Г. Дж. Рамстедта. Семь путешествий на Восток, 1898–1912: среди черемисов, калмыков, монголов, в Туркестане и Афганистане.
Бааза Менкеджуев родился в 1846 году в Малодербетовском улусе в калмыцкой семье, связанной с Дунду-хурулом Малодербе-товского аймака. Как старший сын в большой семье – его отец был отцом десяти детей от двух жен – Бааза происходил из рода, который обладал значительным религиозным авторитетом в регионе1.
Семья Менкеджуевых пользовалась широким уважением среди малодербетовских калмыков и за их пределами, во многом благодаря духовным достижениям представителей этой семьи. Его дед, Чжалцан-багши, был уважаемым настоятелем монастыря Дунду-ху-рул и основал линию духовной преемственности. Точно так же дядя Баазы, Бальчир-багши, приобрел репутацию исключительной эрудиции; его толкования и учения привлекали хувараков (начинающих монахов или младшее духовенство) из соседних улусов , подчеркивая его статус регионального авторитета в буддийской доктрине2.
Дунду-хурул сам по себе функционировал не только как религиозный центр, но и как культурный и художественный хаб. Он был особенно известен как центр иконописной школы, место сосредоточения художников зурачи – традиции калмыцкого религиозного искусства. Первый иконописец Дунду-хурула создал изображения четырех Белых Тара, которые Бааза-багши позже передал в Российскую академию живописи3. В Дунду-хурул производили и великолепно украшенные расписные деревянные столы, известные на калмыцком языке как ширя , украшавшие монастырские алтари4.
Рождение Баазы Менкеджуева в столь выдающейся клерикальной среде обеспечивает важный контекст для понимания его более позднего выдающегося положения в религиозной и общественной жизни Калмыкии. Религиозный капитал, накопленный его семьей, вероятно, определил как его доступ к монашескому образованию, так и его последующее положение уважаемого учителя и влиятельной фигуры в более широком калмыцком буддийском сообществе.
Полное светское имя Бааза-багши было Бадма, в семье же родители и родственники звали его в детстве уменьшительно-ласкательным Бааза, и с тех пор это прозвище утвердилось за ним на всю жизнь. Благодаря работе А.М. Позднеева нам также известно его монашеское имя – Лобсан Шараб .
В возрасте семи лет Бааза Менкеджуев был официально приобщен к монашеской жизни, когда его отправили в монастырь Ду-нду-хурул. Официально он получил свидетельство на свой первый духовный сан, манджи, 23 октября 1879 г., что ознаменовало начальный этап монашеского рукоположения в рамках калмыцко-тибетской буддийской традиции. Это раннее посвящение отражает как обычную практику ухода за священнослужителями в наследственных монашеских родословных, так и культурные ожидания, возлагаемые на многообещающую молодежь в религиозных семьях. В 1886 г. он был утвержден послушником, гецулем , а в 1895 г. полностью посвященным буддийским монахом, гелюнгом5.
В «Списке хурулов в северной части Малодербетовскаго улуса» сказано, что База/Бадма/Менкедженовым постановлением от 4
апреля 1895 г. утвержден в звании старшего бакши 1-го Сангак-Чон-корлинг большего хурулова, исходящая грамота № 24. Также сказано, что его возраст в 1898 году был 52 года6. Данная запись предоставляет тибетское название Дунду-хурула, в котором служил Ба-аза-багши – Сангак-Чонкорлинг (тиб. gsangsngagschos ‘khorgling ), «Обитель колеса Дхармы тайной мантры».
Дунду-хурулбыл одним из старейших передвижных монастырей в Калмыкии, весной и летом он кочевал по урочищам Зельмин Адык и Салин Кеке-Усун, а зимой располагался недалеко от озера Ханата7. Хурул обслуживал шабинеров, баргасов, туктунов роды, а также прихожан Большедербетовского улуса и донских калмыков8. В конце 1930-х годов в Малодербетовском улусе насчитывалось 24ху-рула. В течение первой половины XX в. российское правительство приняло ряд законов, подчиняющих калмыцкий народ имперскому правлению. Согласно этим же законодательным актам, численность калмыцкого духовенства и хурулов подлежала сокращению, а также регулировалось строительство церквей и основание новых ху-рулов. Согласно «Положению об управлении калмыцким народом» (23 апреля 1847 г.), Шаджин-лама калмыцкого народа Гелик (тиб. dgelegs? ) был вынужден закрыть восемь хурулов в этом улусе в 1856 г.9 Со второй половины XX в. контроль за деятельностью калмыцкого духовенства был ужесточен. В 1887 году, Лама сообщили в Главное управление, что в Дунду-хуруле числится 36 учеников, а поулусу в целом их было 27310.
Проявляя заметную интеллектуальную любознательность и способность к обучению, Бааза быстро продвинулся в учебе. Он приобрел знания в основных областях буддийской догматики и исполнения ритуалов, заложив основу для своей дальнейшей роли уважаемого наставника буддийской доктрины. Его образование не ограничивалось схоластикой; в юности Бааза также проходил специализированное обучение тибетской медицине, обучаясь у известного эмчи (врача) Джамцо-гелунга11. Такое приобщение к медицинским знаниям, основанным на канонических текстах и эмпирической практике, было обычным дополнением к религиозному образованию среди высокопоставленного духовенства, особенно тех, кто, как ожидается, будет выполнять как духовную, так и терапевтическую роль в своих общинах.
Семейные узы позволили Бааза-багши пользоваться сокровищами библиотеки Дунду-хурула, и он читал все хранящиеся в ней произведения: исторические памятники, письма. Здесь он ознакомился с документами, свидетельствующими о связи калмыков с Тибетом. В предисловии к «Сказанию о хождении в Тибетскую страну» А.М. Позднеев пишет, что среди письменных исторических памятников, хранившихся в Дунд-хуруле находилась Далай-ламская грамота, выданная калмыкам еще в период посольства Галдан-Це-рена в 1756 г. На самом деле эта грамота была выдана посланнику дербетского нойона Галдан-Церена Табка-гецулю (тиб. Thabs mkhas dge tshul), который посетил Тибет вместе калмыцким посольством хана Дондук-Даши к Далай-ламе VIIв 1756 г. Во втором томе «Краткого изложения биографии Далай-ламы VII „Сноп деревьев, исполняющих желания‟» (тиб. rgyal ba’i dbang po thams cad mkhyen gzigs rdo rje ‘chang blo bzang bskal bzang rgya mtsho dpal bzang po zhal snga nas kyi rnam par thar pa mdo tsam brjod pa dpag bsam rin po che’i snye ma), написанном Чангкья Ролпе Дордже (тиб. lcang skya rol pa’i rdo rje; 1717–1786) упоминается «Табка, посланник дербетского владельца Галдан-Церена»12.
Интересно отметить, что в письмах дербетского нойона Гал-дан-Церена его имя пишется на ойратском «ясном письме» тодо би-чиг skal ldan cering13 или Γaldan cering14 .
В ойратском тексте грамоты, опубликованном А. М. Поздне-евым – dga’ ldan cereng15 , и в биографии Далай-ламы VII – dga’ ldan tshe ring16 . Вероятно, правильно написание его имени – skal ldan cering , которое ошибочно было записано в тибетских документах dga’ ldan tshe ring .
А. М. Позднеев предисловии к «Сказанию о хождении в тибетскую страну Малодербетовского База-бакши»17, также Н. Н. Пальмов в «Этюдах по истории приволжских калмыков»18 идентифицируют Джиджетена (Чжичжэтэна) с дербетским владельцем Галдан-Цере-ном, но такое отождествление ошибочно. Галдан-Церен, потомок Далай-тайши и сын Лабан Дондука (тиб. Lha dbang don grub ), умер в 1764 г. в Петербурге19, оставив после себя сына Цебек-Убаши, умершего в 1774 г. также в Петербурге20. Таким образом, маловероятно, что Галдан-Церен мог быть Джиджетен-бакшой, также известным как Джиджетен-лама, которого в преданиях называют «восемнадцатилетним гецелом Джиджетен, гелюнгом Джиджетен, маленьким манджи»21 . Информация об этом посольстве из биографии 7-го Далай-ламы подробно рассмотрена нами в другой статье22.
После того, как Бааза-багши узнал о грамоте Далай-ламы, стремление совершить паломничество к священным местам Тибета и выразить почтение Далай-ламе стало постоянной и глубоко усвоенной духовной целью. Видение такого путешествия все больше занимало мысли Баазы, формируя как его религиозное воображение, так и будущие амбиции.
Осуществление своей главной мечты – паломничества в далекий и малоизвестный Тибет – Бааза-багши предпринял 5-го числа калмыцкого месяца Курицы (что приблизительно соответству- ет августу) 1891 г. вместе со своими спутниками манджи Личжи Идэруновым и калмыком-простолюдином Дорчжи Улановым23. Огромную материальную и финансовую помощь в этом нелегком начинании им оказал правящий нойон Малодербетовского улуса Церен-Давид Тундутов, который не только субсидировал, но и устроил пышные проводы, а затем и встречу паломников24.
Проведя в пути более двух лет, путешественники испытали множество трудностей, связанных с «влиянием атмосферы» или «болезнью застоя крови», другое название горной болезни, наймом верховых и вьючных животных, поиском проводников и закупкой провизии.
Так, близ Лхасы Бааза-багши заболел: «…грудь мою вспучило, дыхание усилилось, снизу как будто поднимались газы, печень страдала, в теле, в костях, в мясе не было места, которое бы не болело…» 25. Бааза-багши больше не мог ходить. Думая, что умирает, он отдал своему спутнику Дорджи Уланову все свои вещи и поручил его тибетскому монаху Джинбе, сойбону тибетского Ба-риду-гэгэна. Бааза-гелюнг, поставив диагноз, начал лечить себя: заварил черный чай, налил в него немного коньяка и вспотел. Выпив бульон из свежей баранины, он принял лекарство сурукцзан дзучжик (тиб. srog ‘dzin bcu gcig ). Сурукцзан дзуджик или сокдзин чучик («Держатель жизни из одиннадцати компонентов») – тибетское растительное лекарственное средство. В его состав входят: Aquilaria agollocha, Myristica fragrans, Melia composita, Bambusa textilis, Shorea робуста, Saussurea lappa, Terminalia chebula, Mesua Ferrea, Eugenia caryophyllata, сердце яка, Ferula jaeschkeana. Оно оказывает сильное обезболивающее действие при болях, вызванных воздействием ветра. Затем он обжарил соль на сливочном масле и нанес ее на печень на ночь. После этих процедур он проснулся на следующее утро практически здоровым26. В своих записках о путешествии он пишет, что причиной его болезни была не только окружающая среда («атмосферное влияние»), но и незнакомая пища: «Проживая в своих кочевьях, мы не переносили таких трудностей, как питаться черным чаем, кушаньями из вяленой крошеной говядины и просом, да при этом еще двигаться каждый день, без остановки» 27. Известно, что калмыки перед началом любого дела обращались к зурхачи (астрологу) и узнавали благоприятные дни для любого важного дела, такого как отправление в дальнее путешествие и т.д. Так, в Урге одному из спутников Баа-за-багши, Л. Идэрунову, Богдо-гэгэн и высшие ламы не рекомендовали продолжать его путешествие – «если пойдет он в долгое путешествие, дальнюю дорогу, – заболеет» 28, после чего Л. Идэру-нов остался в Урге.
Во время своего пребывания в Их Хуре в Монголии Бааза-баг-ши получил от Йонзон-хамбо (тиб. yongs ‘dzin mkhan po ) несколько посвящений: «Посвящение пяти форм Манджушри» (тиб. ‘jam dbyangs lha lnga’i dbang ), «Разрешение в виде вверения жизненной силы Защитника Пяти Тел» (вид передачи, обычно связанный с гневными божествами-защитниками) (тиб. sku lnga’i srog gtad rjes nang ), « устную передачу Гурупуджи» (тиб. bla ma mchod pa’i lung ) и « посвящение долгой жизни Амиртаюса» (тиб. tshe dpag med kyi tshe dbang )29.
Здесь необходимо заметить, что А. М. Позднеев ошибочно исправляет Бааза-багши в примечании: «Аюкайн-цэбан» – странное, хотя довольно часто встречающееся в литературе, соединение калмыцкого слова «аюкайн» с тибетским «цэван». Разбирая это последнее tshedbang, мы находим, что вторая половина dbang есть уже объясненное слово «ван», т. е. известный религиозный обряд, приравненный нами к посвящению; первая же половина tshe представляет собою начальный слог имени tshe dpag med обозначающего того же Аюку (Шмидтъ, Тиб. Сл. стр. 459). Автору, очевидно, следовало, если хотел он говорить по-монгольски, сказать ayukayin abišiq а если хотел употребить тибетское название, то достаточно было слова čebang30 .
На самом деле, тибетское цеванг/цэбан (тиб. tshedbang ) обозначает любое посвящение долгой жизни, которых множество. Данное посвящение служит для того, чтобы продлить жизнь верующему посредством какого-либо божества долгой жизни, каковым может быть Амитаюс, Белая Тара, Ушнишавиджая, Белый Чакрасамвара, Желтый Ваджрабхайрава и т.д. Поэтому в термине «Аюкайн-цэбан» слог «цэ» (тиб. tshe ) обозначает долголетие, а не Амитаюса (тиб. tshe dpagmed ), как его интерпретирует А.М. Позднеев, поэтому «Аюкайн-цэбан» значит «посвящение долгой жизни Амитаюса».
Перед тем, как мы обратимся к истории путешествия Баа-за-багши в Тибет, следует отметить, что хотя согласно А. М. Позд-нееву, калмыцкий месяц Собаки соответствует августу по западному календарю, месяц Свиньи – сентябрю, месяц мыши – октябрю, и месяц коровы – ноябрю31, нет строгой корреляции этих месяцев. В разные годы это соотнесение может меняться. Мы знаем, что в калмыцком календаре Зул, годовщина ухода Ламы Цонкапы, приходится на 25-й день месяца Коровы, соответствующий 25-й дню10-го месяц тибетского календаря. Нам также известно, что в 1892 г. эта дата пришлась на 13 декабря. Таким образом, в 1892 г. калмыцкий месяц Лошади приблизительно соответствовал маю по западному календарю, месяц Овцы – июню, месяц Обезьяны – июлю, месяц Курицы – августу, месяц Собаки – сентябрю, месяц Свиньи – ок- тябрю, месяц Мыши – ноябрю, а месяц Коровы – декабрю и т.д. Кроме того, при расчете дат также необходимо учитывать, что Россия перешла с юлианского календаря на григорианский только в 1918 году, и разница составила 12 дней, что также влияет на расчет дат.
26 числа месяца Лошади 1892 г. (приблизительно соответствующего маю) Бааза-багши прибыл в Лхасу и, поклонившись многим святыням, получил благословение самого Далай-ламы32. Кроме того, он совершил поездки в главные монастыри Гандан, Гумбум, на озеро Окон Тенгри и посетил монастырь Нартханг, где находилась типография для печатания Кангьюра и Тенгьюра. Проведя зиму в Лхасе, он отправился в обратный путь и в месяце Курицы 1893 г. (приблизительно соответствующем августу) вернулся в свой родной Дунду-хурул, где, уединившись, начал писать книгу о своем долгом путешествии. Он завершает свою работу следующими словами: «Да низойдет спасение будды, да утвердятся стопы нашего августейшего Императора, да наслаждаются все одушевленныя существа спокойствием и да возродится дух добродетели!» 33. Мы знаем, что Бааза-багши завершил свое сочинение 17-го числа месяца Мыши 1896 года Огня и Обезьяны34.
Правдивая история о завершенном паломничестве в Тибет вызвала большой интерес не только у калмыков, но и в научном сообществе. Рукопись, как только она была завершена, была приобретена профессором А. М. Позднеевым, который опубликовал ее с переводом и комментариями буквально год спустя под названием «Сказание о хождении в Тибетскую страну Малодöрбöтовского Бааза-бакши». Факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета даже счел необходимым посвятить это издание XI Международному конгрессу востоковедов в Париже.
В «Отчете Русского географического общества за 1903 год» Базза-багшине только назван членом-сотрудником, но также указано, что его рассказы «Записки эти, кроме интереса, вызываемого простым описанием пройденных мест, имеют еще и то значение, что они являются для европейских ориенталистов первым образцом описательных калмыцких произведений и представляют собою прекрасный пример живого языка современной калмыцкой литера-туры» 35.
После своего путешествия в Тибет Бааза-багши принимал активное участие в социальной жизни своего народа. Так, он участвовал в выставке «Исторические и современные костюмы», которая проходила в 1902 году в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. В «Каталог костюмов Астраханских калмыков» его имя, хотя и записанное неверно как «Менкедженов, Биза, бакша 1 большаго хурула Малодербетевскаго улуса», упоминается в списке калмыков и хуру- лов, экспонирующих своими костюмами на выставке36. Имя Бааза Менкеджуева находится и среди тех, кто выразил свое намерение о поездке в Санкт-Петербург37. После выставки 26 марта 1903 г. старший бакша Малодербетовского улуса Бааза Менкеджуева сообщил в Управление, что выражает «полное согласие на безвозмездное пожертвование всех моих вещей, которые находятся на выставке в Таврическом Дворце в Музей Императора Александра III»38. Музей Императора Александра III носил это название от создания в 1895 году до 1917 года, позднее он был переименован в Государственный Русский музей. За этот дар Русскому музею он был награжден серебряной медалью «За усердие»39.
Бааза Менкеджуев умер в Минеральных Водах в 1903 году. Его тело было привезено на родину и кремировано нойоном Церен-Да-видом Тундутовым в местности под названием «Оран Булг». На месте кремации усопшего был воздвигнут субурган40. Снимок этого субургана был опубликован Г. Дж. Рамстедом в книге «Семь путешествий на Восток, 1898–1912: среди черемисов, калмыков, монголов, в Туркестане и Афганистане»41.
Рис. 2. Субурган Бааза-Багши. Фото Г. Дж. Рамстедта. Семь путешествий на Восток, 1898–1912: среди черемисов, калмыков, монголов, в Туркестане и Афганистане.
Информация из биографии 13- го Далай - ламы
Биография Далай-ламы XIII Тубтен Гьяцо (тиб. thub bstan rgya mtsho ; 1876–1933) «Ожерелье из удивительных драгоценностей», была написана Пхурбучок Тубтен Джампа Цультим Тендзином (тиб. phur bu lcog thub bstan byams pa tshul khrims bstan ‘dzin ) является одним из малоисследованных источников исторической информа-ции42.
Этот биографический отчет содержит множество исторически значимых деталей. Особого внимания заслуживает ссылка на дарование как круглой, так и квадратной печати партнеру Далай-ламы в философских диспутах, ценшабу (тиб. mtshanzhabs ), Агвану Доржи-еву и Ганджурва-гэгэну Данзану Норбоеву– событие, подчеркивающее их высокий статус и официальное признание их роли в тибетской и более широких трансрегиональных буддийских иерархиях43.
В своем собственном отчете Бааза-багши описывает только четыре личные аудиенции у Далай-ламы, хотя, возможно, он встречался с ним шесть раз. Далее мы рассмотрим эти встречи в официальной биографии Далай-ламы. Примечательно, что хотя Бааза-багши это повествование содержится никаких упоминаний о даровании Далай-ламой диплома, круглой и квадратной печатей–Далай-ламы биография предоставляет сведения о даровании этих вещей.
Отчет о первой аудиенции у Далай-ламы в повествовании Ба-азы Багши выглядит следующим образом:
«Засим, когда по утру 3-го числа этого месяца собаки пришли мы пешком из Хласы (одно из принятых произношений названия столицы Тибета Лхасы – Б. М.) в Норбу линка, то поклонники были уже в сборе и на поклонении этого дня кланялось человек 300, 400. Наперед их ввели и дали поклониться нам. Поклонников этих обыкновенно заставляют проходить непосредственно друг за другом, а вводящие и сопровождающие их привратники держать в руках длинные, предлинные плети, вводят же и сопровождают люди высокого, превысокого роста. Проведя нас посредине разместившихся вышеописанным образом гэгэна и предстоящих ему прислужников, и поставив перед гэгэном, они заставили нас трижды поклониться, касаясь лбом до земли; а когда мы поднесли своими руками поданный нам мандал, то гэгэн соблаговолил принять его своими руками и передал стоявшему поблизости сойбуну. Еще поднес я при гусун-туке, по порядку: одного бурхана, одну религиозную книгу и один субурган, а далее положил на стол длинный хадак, 5 лан белого серебра и золотую монету нашего русского царя; засим, когда, сняв шапку, хотел я получить благословение, то гэгэн соизволил положить мне на голову в благословение свои руки. Тотчас же, без замедления, меня провели дальше и допустили к руке сле- дующего человека. Для предшествующего (между тем) сойбун свивал кусочек красного или желтого шелка, освящал его дуновением и жаловал ему такой шнурок, под названием “цзангӣ”. Нас всех посадили перед гэгэном и удостоили остатков чая и рису от кушанья гэгэна. В то же время находящийся при гэгэне переводчик подошел к нам и сказал нам по-монгольски: “гэгэн спрашивает, все ли вы в дороге пришли в добром здоровьи и пребываюте ли в мире вера и гражданское правление каждой (пройденной вами) страны”? Мы, сидя, отвечали, что приехали благополучно и страны находятся в спокойствии, а потом поклонились. Тот человек передал гэгэну и помимо этого он ничего не спрашивал. Засим гэгэн соизволил преподать пришедшему на это поклонение народу лун на две маленьких священных книги: “д’Галдан-лха-бчжа-ма” и “Пакс-сдодъ”»44.
По-видимому, поскольку Бааза-багши его товарищи в то время еще не были знакомы с Агваном Доржиевым, которого в повествовании называют Акбан , и, соответственно, не были представлены Далай-ламе, а приняли участие в аудиенции как ординарные верующие, по этой причине запись о его первой встрече с Далай-ламой не была отдельно описана в биографии Далай-ламы. Позже Бааза-баг-ши встретился с бурятом Акбаном или Агваном Доржиевым. Вот что Бааза-багши рассказывает нам об Агване Доржиеве:
«…еще по дороге в Тибет, слышали говор, что (в Хласе) проживает гэгэновский сойбун, монгол, именуемый бурят-Акбан и слышно было, что если этот человек станет знакомым, то он будет очень полезен для монгола; зная это, мы немедленно по прибытии в Хласу, и представились этому человеку. Он очень обрадовался и оказал нам много почестей. Мы сделались очень хорошими приятелями с этим человеком, разговаривали с ним, он руководил нас в каждом нашем деле, а при представлениях далай ламе и номыйн хану этот Акбан отменно указывал и сопутствовал нам. Что касается до помещения этого сойбуна, то он проживает в казенном байшине гэгэна и, по разказам, из людей, говорящих монгольским языком, не выходило еще человека, который так возвысился бы в Тибете, как он. Доложили мы этому Акбан сойбуну и о своих намерениях, которыя обдумывали мы еще в родных кочевьях, и о том как шли мы в дороге, и обо всем и просили его направлять как людей, имеющих впоследствии приходить из наших кочевьев на поклонение в Цзӯ (калмыцкое название Тибета – Б. М.), так и теперь нас, обитателей страны, из которой уже много лет никто не приходил. Сверх сего мы вдвоем переговорили, что, будучи людьми, прибывшими из далеких мест и, претерпевая лишения, шедшими в течение целаго года, мы, по справедливости, должны совершить какую либо отменную добродетель. Доложили этому Акбан-сойбуну и на вопрос к нему, во что обойдется поднести даньшик гэгэну далай ламы, он отвечал, что это составить разсчет в 1000 лан. Тогда мы собрали вещи, которыя покупали для приношений и привезли с собою, прибавили к ним из денег, ассигнованных на дорожное продовольствие и, доведя по разсчету до 1000 лан, 9-го числа этого месяца собаки поднесли даньшигийн мандал»45.
Вторая встреча , состоявшаяся в седьмом тибетском месяце года Воды-Дракона (примерно соответствует сентябрю) описана в биографии Далай-ламы следующим образом:
«Когда Далай-ламе исполнилось 17 лет, в седьмом месяце года Воды-Дракона (1892 г. – Б. М.) <…> Далай-лама принял подношение для создания благоприятной взаимосвязи посредством пышного молебна о долгой жизни через ритуал Ушнишавиджайи, поднесенного посланцем дербетского Далай-тайши настоятелем Сангак Чой-корлинг Лобсан-Шарабом, который пригласил установленное количество монахов монастыря Намгьял совершил им подношение»46.
В этом отрывке мы можем увидеть, что Бааза-багши назван настоятелем (тиб. mkhan po ) монастыря. Из русских документов нам известно, что Бааза-багши имел звание старшего багши хуру-ла Сангак Чойкорлинг. Таким образом, можно сделать вывод, что эквивалентом его звания «багша» является тибетское «настоятель». По всей видимости, настоятели хурулов среди калмыков назывались багша , что соответствует монгольскому обозначению настоятеля монастыря ширээт лам, буквально «держатель трона».
Кроме того, здесь Бааза-багши назван посланником дербет-ского Далай-тайши. Далай-тайши упоминается в повествовании Бааза-багши47. Однако здесь речь, скорее всего, идет о потомке дер-бетского Далай-тайши нойоне Давиде Цанджиновиче Тундутове. Дербетский Далай-тайши жил во второй половине ХVII века и не мог быть современником Далай-ламы XIII.
Во время второй аудиенции Бааза-багши встретился с Йонгсанг Джамба Ринбоче или Третьим Пурчок Пхурчок Лобсанг Джампа Гьяцо Ринпоче (тиб. yongs ‘dzin phur lcog blo bzang byams pa rgya mtsho ; 1825–1901), который был одним из официальных наставников обоих Далай-ламы.
Кроме того, Бааза-багши совершил подношение Дэмӯ-хутух-ту или Демо Хутугту Нгаванг Лобсанг Тинле Рабгье (тиб. de mo hu thug thu ngag dbang blo bzang ‘phrin las rab rgyas; 1855–1899), который был девятым воплощением Демо Ринпоче и регентом Тибета до правления Тринадцатого Далай-ламы. В 1886 году, когда Тринадцатому Далай-ламе было 11 лет, Демо стал регентом Тибета. Демо был главой монастыря Тенгьелинг (тиб. bstan rgyas gling). В год Деревянной Овцы (1895 г.) Демо отошел от дел, и Далай-лама был возведен на трон в качестве духовного и политического правителя Тибета. Он был осужден за заговор против Далай-ламы и казнен в 1899 году.
Во время второй аудиенции Бааза-багши совершил подношение даньшиг (тиб. brtanbzhugs ) или молебна о долгой жизни Далай-ламы.
Отчет о второй аудиенции у Далай-ламы в повествовании Ба-аза-багши следующий:
«9-го числа этого месяца собаки поднесли даньшигийн мандал гэгэну. Внешняя формы принесения этого даньшигийн мандал сходны с вышеописанными формами поклонений с принесением гу-сун-тукскаго мандала, лишняго же есть вот что. В Бодале имеется дацан, приблизительно с 400 хувараков, именуемый Намчжал-да-цан, на обязанности котораго лежит отправлять хурулы у гэгэна. Из числа хуваракоъ этого дацана, по мере состоятельности прино-сителя, приглашают хувараков; их заставляют отслужить дань-шикский хурул пред гэгэном и, по окончании этого хурула, приводят к поклонению вышеописанным образом. Мы пригласили на этот даньшик сто хувараков и заставили их отслужить хурул; на этот хурул прибыли также Дэмӯ-хутухту с Йонцзан Чжамба-ринбочэ и сели перед гэгэном. Из даньшикских приношении одну третью часть поднесли Дэмӯ-хутухту, а Йонцзан Чжамба-ринбочэ поднесли 15 лан серебра. Засим, по старому порядку, посадили нас перед гэгэ-ном и пожаловали нам от остатков его кушанья, а еще повесили на шею белый хадак из рук гэгэна. Нам самим последовала милость, от гэгэновскаго казначейства: пятьдесят лан серебра, три куска тибетскаго сукна, две лубочных корзины тибетскаго чая, употре-бляемаго при кушаньях далай ламою и один сверток толстых курительных свечей; от казначейства Номыйн хана: хадак, один кусок сукна, одна лубочная корзинка чая и 25 лан серебра; от Йонцзанъ чжамба-ринбоче: один хадак; от каждаго из них в отдельности: священныя рилу, священные снурочки для подвязывания на шею и освященная вода. После того как удостоившись таких милостей, мы вышли, нас пригласили приходить к сегодняшнему полуденному столу и оба мы в большой зале где гэгэн жалует поклонения, вместе с прислужниками гэгэна удостоились принять в пищу варенаго мяса, проса и дзамбы (жареной ячменной муки – Б. М.). Гэгэн изволил кушать точно такое же кушанье в особой комнате. Мы удостоились также и остатков его кушанья»48.
Во время третьей аудиенции , состоявшейся 8-го числа калмыцкого месяца Свиньи (приблизительно соответствующего 29му сентября) Бааза-багши получил от Далай-ламы посвящение долгой жизни Амитаюса. Вот что он рассказывает об этом:
«8-го числа, отправившись в Норбу-линка, я представился и засвидетельствовал свое почтение бурятскому Акбану. Еще до вышеописанного выхода своего из Хласы, я докладывал этому Акбан-сойбуну о возможности получить Аюкайн цэванъ от гэгэна. После нашего ухода он довел об этом до сведения гэгэна и они решили пожаловать этот “цэванъ” 15-го числа настоящей луны. Услыхав об этом, я пришел домой с радостью»49.
Само посвящение состоялось 15-го числа месяца Свиньи:
«15-го числа, когда далай-ламайн-гэгэн соизволил на пожалование посвящения, именуемого Аюкайн-цаван, то, во главе с держащим тибетское гражданское правление Дэму хутухту, сидели тибетские гэгэны, князья, духовные и светские, а равно и монголы; всего сидело нас две, или три тысячи человек и все мы удостоились. Начиная с 16-го числа, когда гэгэн соизволил на пожалование луна Чжад-домба, мы, вместе с предстоящими гэгэну сойбунами, в числе 21-го человека, слушали 5 дней»50.
В биографии Далай-ламы сказано, что он согласился даровать это посвящение долгой жизни 14-го числа восьмого тибетского месяца, что соответствует 5-му октября 1892 года. В данном отрывке монашеское имя Бааза-багши – Лобсанг Шараб (тиб. blo bzang shes rab ) – ошибочно записано как Шадруб (тиб. bshad sgrub ):
«14-го числа <...> восьмого тибетского месяца <...> в [резиденции] Ньио он изящно установил обе ноги на платформу для подношений. Сразу после этого, все, кто выполняет приказы, начиная с регента, вплоть до конюха, старшие, средние и простые служители, [настоятели] различных монашеских обителей, а также великие ламы и воплощения, все, кто живет благодаря его постоянной доброте, поднесли облака благоприятных подношений. Он даровал благословения и наслаждался светским и религиозным пиршеством шестикратным образом.
В ответ на настойчивые просьбы гелонга Лобсанг Шaдруба, кхенпо [монастыря] Сaнгаг Чокорлинг, [принадлежащего] тургуд-ским дербетам – одного из отдельных племен монголов, живущих в северном направлении – народа, исполняющего слово [Далай-ламы], связанного веревкой его сострадания на протяжении предыдущих воплощений верховного Предводителя трех миров, несравненный Владыка лама (Далай-Лама – Б. М.), любезно согласился даровать безграничные этапы посвящения и благословения Бхагавана Владыки Амитаюса подходящим ученикам. Среди бесчисленных стадий посвящений и благословений этого божества наиболее известной и наделенной особенно мощным благословением является посвящение единственного божества, единственной вазы долголетия, передаваемое от единственной Владычицы Йогинов, Единственной Ма- тери, Сиддхараджни. Он согласился даровать эти посвящения и благословения на долголетие».51
В данном отрывке Бааза-багши назван настоятелем монастыря Сaнгаг Чокорлинг, принадлежащего тургудским дербетам. В тибетских биографиях и исторических трудах калмыки называются тургудами, поскольку их ханы принадлежали к этому племени. Поэтому «тургудский дурбед» здесь означает «дурбеды калмыцкого народа».
Само посвящение долгой жизни было дарована на следующий день,15-го числа восьмого тибетского месяца .
Четвертая аудиенция состоялась в день празднования годовщины ухода Ламы Цонкапы 25-го дня 10-го тибетского месяца, что соответствует 13 декабря 1892 года. Эта встреча не описана в «Сказание о хождении в Тибетскую страну» Бааза Багши. Вот его описание в биографии Далай-ламы:
«В десятом месяце <...>принял участие традиционном праздновании годовщины ухода Ламы Цонкапы. Он даровал благословение настоятелю дербетского [монастыря] Чокорлинг и прочим пятидесяти людям, а также дал устную передачу на Сердечную сутру Праджняпарамиты и мантры Защитников трех семейств.52
Последняя пятая встреча Бааза-багши с Далай-ламой состоялась 5-го числа калмыцкого месяца Дракона, что соответствует 19 февраля 1893г., вот как она кратко описана в его отчете:
«После сего мы 5-го числа (калмыцкого месяца Дракона – Б. М.) (9-го февраля) отправились на поклонение новаго года в Бода-лу и поклонились далай-ламайн-гэгэну»53.
Та же аудиенция, которая состоялась 19 февраля 1893 г., описана гораздо более подробно в биографии Далай-ламы. Здесь мы видим расхождение в два дня между датами, указанными в работе Бааза-багши и биографии Далай-ламы. Хотя оба источника ссылаются на один и тот же месяц, работа Бааза-багши указывает 5-й день, а биография Далай-ламы – 3-й день одного и того же месяца. Хотя А. М. Позднеев в своем переводе приводит дату 9 февраля, согласно биографии Далай-ламы, эта встреча состоялась 19 февраля 1893 г.:
«Когда [Далай-ламе] исполнилось восемнадцать лет, в год Воды-Змеи (1893 г. – Б. М.) <…> третьего числа <…>[первого тибетского месяца] <…>[Далай-лама] даровал благословение дланью прибывшему с прощальным визитом настоятелю [монастыря] Чонкорлин дербетского нутука торгутского [ханства] Лобсанг-Шарабу вместе с окружением, также [Далай-лама] дал угощение чаем, наставления о временном и постоянной добро- детели и пышные прощальные подарки. В особенности, как выражение признания достижений, достигнутых силой возвышенных помыслов, [Далай-лама] даровал полный комплект одежды настоятеля, квадратную и круглую печати, диплом с титулом и множество видов субстанций самайи и благословенных опор. В виде прощального наставления [Далай-лама] с большой радостью даровал устную передачу на “Изложение стадий пути ‘Сущность расплавленного золота’”».54
Интересно, что Бааза Багши не поминает то, что Далай-лама даровал ему две печати. Более того, Шамба Балинов в своей статье «О княжеском роде Тундутовых» пишет, что: «…Сам Далай-Лама, в знак особого своего благоволения, подарил Тундутову свою особую печать («вечная виза») перед обладателем которой в любое время ворота Лхассы были открыты»55 . По всей видимости, здесь имеется в виду одна из печатей, которые Далай-лама дал Бааза-баг-ши. Вероятно, после прибытия на родину, Бааза-багши отдал одну или обе печати Церен Давиду Тундутову. Хотя мы не знаем, как выглядели эти печати, вероятно, квадратная печать была схожа с печатью Ганджурва-гэгэна, которая также была выдана Далай-ламой XIII. Изображение этой печати можно увидеть в каталоге выставки «Совершенство традиции: произведения буддийского бурятского искусства из коллекции Государственного Эрмитажа (XIII – начала XX вв.)»56. К сожалению, судьба данных печатей неизвестна.
Возможно, что Бааза-багши встретился с Далай-ламой в шестой раз непосредственно перед отъездом. Бааза-багши описывает краткую встречу с гэгэном, ранее этим титулом именовался Далай-лама:
«…засим 28-го числа (3-го марта) я представился и поклонился гэгэну, причем удостоился получить освященной воды, благословение, кумир будды Шачжамуни, священную книгу в одном томе и проч»57.
Эта встреча не упоминается в биографии Далай-ламы. Возможно, что это не было записано из-за его краткости.
Таким образом, биография Далай-ламы является источником важных исторических данных, ценных для исследователей истории Тибета. Кроме того, это важный источник информации о калмыцком паломнике Бааза-багши и его посещении Лхасы и встречи с Далай-ламой.
Данное исследование является не только полезным для изучения истории Калмыкии, но и для дальнейшего исследования и, возможно, перевода биографии 13 Далай-ламы, так как отрывки об этих встречах с Бааза-багши возможно полно и верно перевести только имея знание о Калмыкии и ее реалиях того времени.