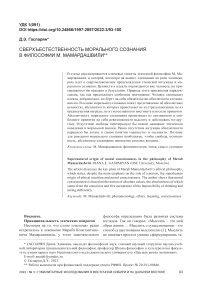Сверхъестественность морального сознания в философии М. Мамардашвили
Автор: Гаспарян Диана Эдиковна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 3 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются ключевые сюжеты этической философии М. Мамардашвили, в которой, несмотря на акцент, сделанный на роли человека, речь идет о сверхчеловеческом происхождении этической интуиции и морального сознания. Ценности и идеалы порождаются вне человека, но присваиваются им надежно и безусловно. Природа этого присвоения парадоксальна, так как предполагает свободное подчинение. Человек схватывает идеалы добровольно, но берет на себя обязательство абсолютного следования им. В основе морального сознания лежит представление об абсолютных ценностях, абсолютность которых проистекает не из страха наказания, не из предвкушения награды, не из неосознанного инстинкта или силы привычки. Абсолютность морального следования проистекает из осознанного и свободного принятия на себя невозможности мыслить и действовать по-другому. Отсутствие свободы перечеркнуло бы всякое ожидание этического поведения и моральной оценки. Равно отсутствие интуиции абсолютности нарушило бы логику в самом понятии «ценности» и «ценного». Поэтому для рождения морального сознания необходимо, чтобы свобода, осознанность, абсолютное следование ценностям сошлись воедино.
М. мамардашвили, феноменология, этика, смысл, сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/170195333
IDR: 170195333 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-3/93-100
Текст научной статьи Сверхъестественность морального сознания в философии М. Мамардашвили
Введение.Принципиальность этических вопросов
Несмотря на то, что слово «система» редко встречалось в лексиконе Мераба Константиновича Мамардашвили, у этого замечательного философа определенно была развитая система взглядов. Так он говорил: «Мыслить – это мой образ жизни.... Мыслить о существовании – это способ существования мыслителя» [1]. Мыслить не означает простое умение сформулировать те- зис. Нужно показать себе и другому, если таковой имеется, как мыслится какая-то мысль, как она понимается. Для этого надо что-то заново понять в присутствии другого. Его философское мышление – это скорее отчет о проистекающем мышлении, в то время как система подразумевает пересказ того, что стало историей.
Одним из самых системных разделов философии М. Мамардашвили является область анализа этического. Попробуем выделить принципиальные моменты его философии этики.
Натурализм и трансцендентализм в этике
Ключом к пониманию позиции Мамардашвили будет чуждость натурализму всех мастей и, напротив, близость трансцендентализму, которому он придал расширительное звучание и собственную интерпретацию.
Первый, натуралистский, способ говорить и думать об этике определяет этическое как результат, следствие, продукт этого мира, как что-то, что является следствием существующего порядка вещей, неким порождением природы или тем, что от нее производно и вторично. В рамках такого подхода, как правило, философы занимают внешнюю исследовательскую позицию в отношении этического, так же как мы поступаем в отношении разных других предметов. Изучение предполагает выполненное отстранение, субъектно-объектный дуализм, дистанцию между активным исследующим и пассивным исследуемым. Эта процедура предполагает также определенную диспозицию во времени. Подразумевается, что почти всегда был момент, когда исследуемого вообще не было. Может быть, мы не можем сейчас стать непосредственными наблюдателями того периода, когда не было каких-то организмов, но этот момент точно был. Потому что это то явление природы, тот предмет и тот продукт, который появился в мире. То есть общая концептуальная рамка первого подхода такова: сначала мир, потом этика. Он определяет этическое как порождение мира объектов. Те, кто занимает такую позицию, могут даже уточнить, что этика – не буквальное порождение природного мира, но, собственно, человеческого. Сначала человек появляется и лишь потом вырабатывает и формирует некую особую нормативную область правил и ценностей. Совокупность этих правил и ценностей и обозначается как этическое. Но и в этом случае сторонник натурализма полагает человеческое измерение эволюционно возникающей частью природы. То есть опосредованно человек и его этическое чувство индуцируются из естественно-природного порядка вещей.
Но есть и второй способ мыслить этическое, который был явно ближе Мамардашвили. Данный способ можно назвать трансцендентальным или трансценденталистской программой в этике. Согласно этой позиции, этическое не является объектом природного мира. Этическое не может быть объектом, потому что мы, как носители этого этического, никогда не можем встать в позицию исследующих, то есть занять метапозицию наблюдателя, отстраняющегося от своего объекта. Почему? Потому что мы – люди – совпадаем с этическим. Человек – не просто этическое существо, он всегда уже этическое существо. Любые попытки научной ретроспективы, предполагающей возможность изучать этическое как явление, возникшее в момент, которому предшествовало наше существование как неэтических существ, оказываются неуспешны. Потому что мы никогда не можем предположить такого промежутка времени, когда этики не было. С точки зрения второй позиции, нельзя сказать, что было время, когда человек уже был, а ценностей у него еще не было. Согласно Мамардашвили, это не единственная ситуация подобной уникальности. Примерно то же самое будет происходить и с такими «предметностями», как язык, сознание и культура. Пытаться говорить о языке в терминах историчности и объектности у нас вряд ли получится. Человек появляется вместе с языком, сознанием, культурой и системой ценностей, и поэтому ничто из этого не получится описать в тех же терминах, в которых описываются объекты науки.
Итак, этическое сопротивляется тому, чтобы быть «нормальным» объектом научного изучения. Тогда как можно работать с этическим? По мнению философа, здесь будет работать тот же механизм, который верен в отношении любой философской работы. Понять и обосновать что-то получится только в том случае, если обнаруживаемое переживается как собственный опыт, здесь и сейчас.
Поступоккак единица этического смысла
Критерий такого обнаружения простой. Нужно сосредоточиться и пропустить сквозь собственную мысль то или иное суждение. На- пример, знаменитое декартовское «Я мыслю, следовательно, существую!» является примером такого самоудостоверения. В подобных суждениях верность конструкции дается сразу, выводить их истинность в систематически пошаговой процедуре не требуется. Эти практики хорошо знает и проделывает всякий философ. И поэтому со «знанием» философ работает напрямую. Но в случае с этикой здесь возникает определенная трудность. Занятия этикой как предметом даже философских изысканий может оказаться не вполне релевантным исследованием. Дело в том, что одна из важнейших особенностей философии состоит в том, что всякое ее положение мы обязаны не принимать на веру, но можем и должны самостоятельно проверить на истинность. Философия абсолютно прозрачна для своего носителя – в ней нет никаких зон непрозрачности, каковых так много в науке, по крайней мере, для человека, не вовлеченного в науку на правах профессионального ученого. Мы верим на слово различным экспертам в науке, потому что в том, что они говорят, слишком много информации, к которой у нас нет прямого доступа. В философии, напротив, нет никакой скрытой информации. Каждый философ не предполагает, что ему будут верить на слово, но честно показывает, что нужно делать, чтобы оказаться в той же точке убедительности, в которой он или она оказались сами. Чтобы понять, истинна или ложна умозрительная задача, нужно лишь самостоятельно проверить ее мыслимость, т.е., научившись пользоваться своим собственным умом, проверять все положения на аксиоматическую самоочевидность. Этот опыт доступен в любой момент, мысль всегда под рукой. Если кто-то из нас смог один раз понять правоту Декарта или Канта, то он или она могут быть спокойны, что в будущем этот опыт приятия будет автоматически воспроизведен. Проверить истинность любого теоретического рассуждения, если только оно не эмпирическое, а философское, можно именно так.
На первый взгляд то же самое должно происходить и в случае с этическими суждениями, со сферой нашей практической деятельности. Но в практической сфере все работает по-другому. В отличие от ситуации, когда мы говорим «понять идею – значит проделать с собой работу, ведущую в опыт промысливания этой идеи», с этической интуицией так сделать не получится. Чтобы понять этическое действие, бесполезно мысленно реконструировать какую-то абстрактную ситуацию. Понимать этическое – значит действовать. Смысл и ценность поступка до-определяются по месту исполнения этого поступка. Равно я точно знаю, как я буду мыслить завтра, если сегодня я мыслила так-то и так-то. Однократный опыт промысли-вания бетонирует и определяет типовым образом все прочие акты мышления. Если мы сегодня поняли, как доказывать какую-то теорему или почему был прав определенный философ, то завтра я не могу перестать это понимать. Я могу, разумеется, забыть свой путь понимания и согласия, но при напоминании пути понимание разом восстанавливается. В свою очередь, чтобы обосновать верность той или иной ценности или этической нормы, чтобы понять, как следует поступать в определенной ситуации, действие должно стать конкретным, а не абстрактно сконструированным. Это означает, что следует непосредственно выполнить какое-то действие. Только после этого может быть извлечен этический опыт. Мы должны иметь не теоретический, а практический опыт ценностного действия. А это всегда достигается через поступок, где агентом является непосредственно тот, кто «проводит этическое исследование» – каждый из нас, «я сам (а)». Поэтому до того, пока поступок не совершен, невозможно ничего знать о том, каким он будет. Равно как после того, как он совершен, нет никаких гарантий в том, каким он будет в будущем.
Связь этики и свободы
Из таких вводных можно сделать вывод, что этическое является чем-то принудительным, врожденно присущим нам. Но мамардашви-левская интерпретация этики как трансцендентальной способности требует осторожности и разъяснений. Во-первых, это не биологическая врожденность, а во-вторых, это не тот тип присущности, который имеет отношение к когнитивным способностям. По Мамардашвили, в отношении этического важнейшей является оговорка, что это та присущность, которая не предполагает детерминизма. Это удивительная и уникальная способность быть свободным. Наша свобода заключается в выборе определенных ценностей, а сама потребность в совершении выбора свойственна неотменимым образом. Человек – это существо, которое всегда будет выбирать, как бы он ни старался перекинуть бремя ответственности на внешние обстоятельства, полагаясь во всем на предре-шенность. Человек неизбежно делает выбор, а если он уклоняется, значит, он сделал выбор уклониться. Соответственно у Мамардашвили подразумевается некая трансцендентальная присущность к свободному волеизъявлению. В пакет представлений об этическом в обязательном порядке входит свобода. Если не допустить свободу как основание для того, чтобы быть ценностным существом, все мгновенно обессмысливается. Нельзя быть носителем этической потребности, если отсутствует свобода выбора между разными ценностями, которые для агента выбора равновозможны. Способность к выбору является формальным условием этического. Этическое определяется как понимание отличия между добром и злом. Каждую минуту наш жизненный опыт прошит тысячами разных, иногда трудноуловимых выборов. Но мы хорошо понимаем, что действие является этическим только в том случае, если оно может быть объяснено в терминах добра и зла. Если же оно не объясняется в этих терминах, то мы скорее посчитаем событие этически нейтральным природным фактом.
Уже на лингвистическом уровне мы знаем, что есть формулировки, в которых использование модальностей «хорошо/плохо» практически бессмысленно. Например, ребенок может спросить: «А это хорошо, что одуванчик желтый?» И взрослый говорит: «Это не хорошо и не плохо». Заданный вопрос бессмысленен, поскольку речь идет о ценностно нейтральном факте. Если же спросить, хорошо или плохо, что ребенок сорвал одуванчик, то вопрос будет вполне осмысленен. Есть большой класс этически нейтральных фактов – одуванчик желтый, трава зеленая, камень твердый. Можно спросить: почему камень такой формы? На этот вопрос ответит физика, а не этика. Нетрудно заметить, что событие внешнего мира окрашивается как этическое тогда, когда в нем присутствует особая человеческая активность – режим долженствования, а не описания. Если событие кажется нам этически нейтральным, то этическое измерение не включается и не переживается. Так, например, бросание раков в горячую воду может быть представлено сугубо описательно. Однако в случае изменения оптики мы можем посчитать это действие безобразным и жестоким.
Содержательным моментом для понятия этического является разделение на добро и зло.
Эти понятия ясны и ребенку. Если нас спросить, что такое добро, то, вероятно, мы скажем, что хорошо понимаем, что это. Вопрос нас смутит не столько сложностью, сколько простотой. Действительно, зачем спрашивать о том, что и так понятно? Обычно спрашивают о том, над чем надо подумать, здесь же все тривиально. Но если мы не будем торопиться и попробуем все же объяснить, что именно мы понимаем, то окажемся в трудном положении. Мы не сможем объяснить, что есть добро не в качестве ситуации, а в качестве сущности, делающей всякое доброе добрым. Сначала мы начнем приводить примеры: добро – это помощь людей друг другу, любовь и сострадание к ближнему, честность и искренность в отношениях. Потом можем попробовать определить понятие через противное: добро есть тогда, когда нет никакого несчастья, нет никакого страдания. Но если мы считаем отсутствие страдания добром, значит, мы знаем, что такое добро и должны были бы уметь задать его вполне позитивно. Далее мы начнем говорить тавтологиями: «добро – это то, что хорошо». Так мы тоже ничего не объясним, поскольку «хорошее» – это и есть «доброе». Здесь тоже ничего не проясняется, потому как тавтологии только создают видимость объяснений. Но как же в таком случае мы распознаем добро в мире? Что это такое, в чем его сущность? Об этой проблеме непрояс-ненности базовых этических категорий – все диалоги Платона, и в этом же русле мыслит Мамардашвили. Очевидно, что есть ряд ключевых понятий, которые определяют наше этическое измерение, делают нас этическими существами, но они находятся в очень странном статусе. Никто не скажет, что не понимает, что есть благо. Но в то же время мы понимаем его не так же, как понимаем, что есть стул или стол. Ответом на вопрос «Что есть добро?» будет невыразимая интуиция.
Какое действие становится этическим
В своих лекциях Мамардашвили многократно возвращался к разбору того, как ценностно-нейтральное действие переходит в этическое. В основе этой трансформации лежит встреча с другим. Пока мы не пересекаемся с другими, действие остается этически нейтральным. Если мы взаимодействуем с миром субъектно-объектных отношений, где я – субъект, а все остальное, что встречается на пути, – это объект, этическое не появится. Но как только мы начинаем понимать, что, к примеру, неправильная утилизация отходов – это не просто субъектно-объектные отношения, это попадание вредных элементов в пищу и организм других людей, то во взаимодействии с миром вещей появляется субъект. Тут начинаются субъект-субъектные отношения и появляется другой. Отныне события переходят из этически нейтральных в этически нагруженные и в обществе возникает пространство этического. Чтобы оказаться в пространстве этического в рамках цивилизованных процессов, люди должны договариваться о том, что хорошо, а что плохо, хотя в действительности у них уже должно быть предпонимание того, что это такое. Натуралистские этические доктрины пытаются все этическое выводить из конвенции. Однако в рамках трансценденталистских подходов речь идет о том, что о базовых интуициях добра и зла нельзя договориться; мы всегда уже будем пользоваться предпониманием того, что это есть такое. Еще до начала дискуссии должна быть ясность в фундаментальных вопросах. Есть не просто предел договоренностей, есть необходимое условие возможностей того, чтобы договоренность вообще произошла. Условием того, чтобы договоренности случались и были успешными, является то, что о каких бы вещах мы ни договаривались, мы, агенты коммуникации, уже должны понимать их как универсально значимые. Это как раз та самая трудно вербализуемая, но понятная многим интуиция блага. Если бы мы договаривались обо всем, то, наверное, никогда не смогли бы ни о чем договориться.
Одно только принятие существования трудно формализуемой интуиции, присущей роду человеческому, недостаточно для того, чтобы включить в нас трансцендентальное измерение этического, пробудить моральное сознание. Ее (интуиции) недостаточно для того, чтобы мы включились как этические существа. Для того, чтобы это случилось, требуется дополнительное условие – вступить в коммуникацию с другими. Поэтому, если взаимодействие строится как субъект-объектное, то мы просто не увидим оснований для реактивации этической интуиции. Для того, чтобы этическое включилось, необходимо, чтобы тот «предмет», с которым я вступаю в отношения, также был носителем этического. После этого я каждое свое действие рассматриваю с точки зрения ценностей.
Сверхъестественность морального сознания
Ключевой мотив философии Мамардашвили можно обозначить так: все самое важное сокрыто от нашего видения. Не только этика и моральное сознание, но и язык, культура, мир как космос и как предельное сущее даны человеку в режиме «когда все уже произошло», являясь результатом незримой работы, которая породила мир, где себя можно только застать в качестве уже мыслящего, уже наделенного языком и уже наделенного каким-то символическим культурным кодом. Человечество не способно последовательно проследить себя от безъязы-кости к наделенности словом, от бессознательного к сознанию и от небытия к бытию мира. У людей отсутствует опыт молчания, немыслия и небытия, то есть невозможно быть их субъектом. Поэтому традиционно декартовский субъект вводится как то Я, которое всегда уже есть и мыслит в понятиях.
Второй мотив тесно связан с первым, а именно с вертикальной природой человека. По логике Мамардашвили, мышление имеет изначально сверхъестественное происхождение. «Если сознание и мышление нельзя вывести как естественный природный (например, эволюционный) процесс из физической проявленности мира (поскольку вначале должно быть сознание, которому “природа” дана как концепт и смысл), то сознание нельзя получить естественным путем из наличного порядка вещей. А значит, мышление есть нечто сверхъестественное, нечто необъяснимое и избыточное для мира» [1]. Поскольку для нашего мышления нет естественных причин, оно не поддается логике существующего мира. То есть человек принадлежит логике метафизического, являясь не просто культурным или символическим субъектом. Как доказательство можно привести тот факт, что, невзирая на существование в виде физического хрупкого тела, человек способен осознавать идеальное и абсолютные смыслы. «Рождаясь и умирая как тело, человек понимает законы математики и логики, а также формулирует философские идеи. Притом, он не только понимает их, но и открывает. Платон, Кант и Эйнштейн были просто людьми, но им открылось то, что не выводится из естественного порядка вещей. Всякое открытие происходит вопреки простой логике наблюдения, ибо в наблюдении нет ничего, что указывало бы на скрытые за ними сущности и вечные истины.
Есть нечто наивное в людской вере в то, что путем усердных занятий наукой, экспериментов и раздумий над ними, можно открыть законы природы. Законы везде выполняются, но нигде не встречаются как явление среди явлений. Тем не менее, человек может к ним прийти. Но эта достижимость не есть путь анализа и сопоставления того, что мы знаем как явления и вещи, не есть горизонтальный переход от причины к причине. Он есть результат той связи, которая как выстроенный перпендикуляр стягивает то, что дает, с тем, что дается» [1]. Несмотря на то, что в мире невозможно найти эти условия, человек знает о них, относясь к миру уже с их точки зрения. Мамардашвили в связи с этим тезисом говорит, что «человек есть существо далекое». И мир для нас есть отношение к миру с точки зрения вечности, поскольку мы всегда с ней непостижимо соединены. При этом человек никогда не сможет выразить высшие смыслы, которыми скреплен очевидный мир, несмотря на то, что понимает их. Глядя на мир с точки зрения несуществующего абсолютного (истинного, справедливого) и судя о мире с позиции этого радикально отсутствующего, человек становится присутствующим в другом мире. Следовательно, по Мамардашвили, человек является потусторонним существом. «Мы не можем опредметить этот трансцендентный мир, но находимся мы скорее в нем (что актуализируется только в актах мышления, а все остальное время остается потенциированным), и из него относимся к тому миру, который знаем как мир предметный. Эти неприсутствующие в опыте, но формирующие опытный мир смыслы Мамардашвили называет символами. Символы разом переносят нас в мир, который простирается над историей и над временем. Открытие законов природы будет для Мамардашвили причастностью к символам. Таким же будет моральное суждение или моральный поступок. Равно как именно связанность с высшим будет объяснять способность переживать прекрасное и судить о красоте как целесообразном без цели» [1].
Третий мотив исходит из противопоставления между сознанием и естественным порядком вещей, в котором сознание рассматривается с точки зрения этического измерения. Этическим поведением обычно считается такое поведение, которое не вытекает из ожиданий и обстоятельств, а скорее осуществляется вопреки им. Этот значимый мотив позволяет окончательно понять теорию сознания Мамардашвили в ее трансцендентальном истолковании.
Когда Мамардашвили пишет, что «нет никакой натуральной причины, природной последовательности событий, которая порождала бы в человеке мысль» [4, с. 214], или говорит, что «мышление есть усилие», то, вероятно, имеет в виду, что сознание относится не к области сущего, а к области должного. В этом можно рассмотреть нарративы христианства, с точки зрения которых понимание всегда есть понимание разницы между злом и добром. Не понимая этого различия, человек не понимает ничего. Это считается базовым условием сознания и способности к пониманию. То есть природа сознания является ценностной, что позволяет человеку подмечать не проявленные буквально в мире вещи или факты, как сущее. Человек сам привносит ценности, через которые понимает этот мир, таким образом улавливая смысл не через фактическое измерение, а через ценностное. «Если какой-то человек произносит фразу “Никогда уже этот город не будет для меня прежним”, то его друг может взволнованно спросить: “Что случилось?”, хотя сугубо лингвистически фраза лишь сообщает о разнице восприятия одного и того же объекта-города. Например, программа искусственного интеллекта так и расценит смысл этой фразы. Человек же обычно в состоянии увидеть такие смыслы, которые буквально не проговорены. Как правило, эту способность мы и называем пониманием, сознательностью» [1]. Природа получения этих смыслов, если присмотреться, будет ценностной, этической. Именно этическое и ускользает из вещественного мира. Поэтому, по логике Мамардашвили, быть сознательным и этическим существом значит действовать вопреки природе, обстоятельствам и фактическому положению дел. Именно разговор с точки зрения того, чего нет, называется пониманием. Это качество считается основой этического. И суть этической интуиции заключается в том, чтобы следовать идеалам в природном мире, где их нет, как если бы они существовали в реальности. «Противостояние таких понятий, как “естественный порядок вещей” (“естественная причинность”) и “сознание” (“собственно человеческое”, “историческое”, “культурное”) Мамардашвили нужно для того, чтобы показать, что человек конституируется посредством особой связности с таким порядком идей и ценностей, который превышает его текущее положение в мире. В самом простом смысле речь здесь идет об “измерении” идеалов – добре, справедливости, истине, смысле, по поводу которых у человека имеется устойчивая интуиция, но которые никогда не проявляются в мире во всей “наглядной” полноте» [2, с. 65]. При этом, понимая отсутствие в эмпирическом мире, например, абсолютного добра или абсолютной справедливости, человек руководствуется этими принципами и идеалами, поступая так, будто они реальны и существуют на самом деле.
Парадокс идеала
«Мамардашвили предлагает некую формулу: человек – это такое существо, для которого идеальное является реальным. Следуя ей, философ утверждает, что быть человеком – значит быть существом, вовлеченным в порядок идей и ценностей, превышающих его текущее положение» [2, с. 66]. Но этот опыт не происходит сам по себе – для этого нужно напрячь «мускулы мысли» и приложить усилие, считает Мамардашвили. Однако будет ошибкой приписывать только себе это усилие, сочетающее в себе сознательное и этическое. Особая (трансцендентальная) природа сознания как раз и указывает на некий запаздывающий характер нашей сознательности. То есть сознание опережает человека, являющегося сознательным существом. Опыт мышления предполагает смысловую спонтанность: не существует последовательности шагов, обязательно приводящих нас в точку понимания. Сам опыт сознания является «уже-сознанием». Для описания этого Мамардашвили применяет термин «неделимость», метафорически обозначая им ситуацию понимания, в которой человек застает себя уже-понявшим что-то. В процессе мышления мы не переходим от момента не-мыс-ли к мысли, но обнаруживаем себя уже мыслящими. Невозможно вызвать в себе понимание, его можно лишь дождаться. Осуществляющиеся акты понимания пассивно фиксируются при выполнении любых интеллектуальных процессов. Отсюда следует важный вывод: нет такого алгоритма шагов, который привел бы нас к пониманию. Если в процессе думания проявить усердие, можно значительно увеличить свои шансы, но невозможно добиться каких-либо гарантий. Если человек что-то понимает, то он уже это понял. В логике Мамардашвили путь вхождения в мысль должен с самого начала быть частью мысли.
Каким образом концепция «неделимости» мышления может быть применима к рациональности морального поступка? По мнению философа, последовательности шагов, по которым можно прийти к моральному поступку, как и в случае мышления, не существует. Решимость совершения или несовершения того или иного поступка ниоткуда не выводится. «В ситуации, когда мы уже-выбрали-добро, себя можно только застигнуть, а если мы будем долго присматриваться, высчитывать и продумывать шаги, которые должны привести нас к выбору добра, то мы никогда не доберемся до пункта назначения. Таким образом, Мамардашвили пытается провести сближение между моральным чувством (Мамардашвили называет его совестью ) и мыслью. И то и другое неделимо, то есть целостно; его нельзя представить как причинно-следственную траекторию. Такая модель означает, что пребывание в мышлении и в этическом измерении означает выход за пределы естественной и планомерной инерциальности мира, за пределы того, что Мамардашвили называет естественно-причинной связью событий» [2, с. 66].
Мамардашвили пишет: «…Порой люди мечтают о создании некоего механизма счастья, способного якобы рождать у человека особое состояние благорасположенности, которое без меня, в том числе и без моего “страха” и “трепета”, производило бы социальную гармонию. Представьте себе: вы принимаете лекарство добра, и в результате в вас что-то произошло. Можете ли вы, поскольку вас изменил кто-то, а не вы изменили себя, извлечь из этого смысл? Разумеется, нет. Этот нюанс важен для понимания аргумента, направленного против утопического “лекарства добра”» [5, с. 112].
Заключение
Вывод Мамардашвили будет заключаться в том, что, возможно, сама природа мышления, которое связано с моральным чувством, должна быть лишена инерциальности и законченности. Подлинное мышление, а не его суррогат, всегда протекает в условиях, когда готового решения нет. Это связанно с той свободой, которая по определению входит в состав морального поступка. Он возможен только в условиях, когда есть реальная неопределенность выбора. Например, когда можно так же свободно выбрать зло, как и добро. Из многих философских контекстов мы знаем, что только в случае реаль- ности зла добро не обесценивается и остается добром. Но это же требование касается и самого мышления – оно должно свершаться без всякого принуждения. В подлинном мышлении не может быть никакого автоматизма, и именно это роднит его с этическим чувством, ибо всякая гарантия встречи интеллектуального и морального обессмысливала бы все предприятие [6].
Мамардашвили говорит об этом следующее: «…Добро есть нечто, что каждый раз нужно делать заново, специально, а зло делается само собой. И этим же свойством обладает, в частности, совесть, ибо когда я совестлив и “держусь” в своей совести, то я как бы впервые и за всех, за все человечество совершаю акт совести в мире и не могу в этой связи воспользоваться тем, что сделали до меня. Обобщать или суммировать что-то здесь невозможно» [5, с. 247].
За неослабевающее стремление к истине и уникальные методы философии Мамардашвили стяжал ту же славу, что и афинский Сократ – им восхищались и его недолюбливали одновременно. Перефразируя слова современного философа Звейрде о том, что Мамардашвили был «постоянной помехой установленному порядку» [3, с. 118], можно сказать, что «противостояние порядку» стоит понимать непосредственно в философском смысле. Философ обречен выпадать из любого заведенного порядка и быть, как говорил сам Мамардашвили, «существом граничным, представителем того, что нельзя выразить» [5, с. 328].
Список литературы Сверхъестественность морального сознания в философии М. Мамардашвили
- Гаспарян Д.Э. "Человек есть существо далекое". Философский путь Мераба Мамардашвили. UrL: https://republic.ru/posts/95580.
- Гаспарян Д.Э. На пути к моральному действию: политическое измерение человека у Х. Арендт и М. Мамардашвили // Вопросы философии. 2019. № 6. С. 62-75.
- Звейрде Э. Взгляд со стороны на историю русской и советской философии. М.: Алетейя, 1990.
- Мамардашвили М.К. Беседы о мышлении. М.: Азбука, 2015.
- Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. М.: Московская школа политических исследований, 2000.
- Пашкова Н.В., Куземина Е.Ф. Философия как пространство свободной мысли // Теория и практика общественного развития. 2015. № 8. С. 154-156.