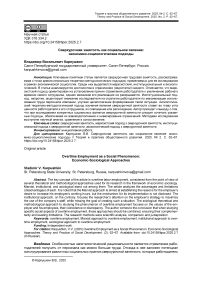Сверхурочная занятость как социальное явление: экономико-социологические подходы
Автор: Карпушкин Владимир Васильевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 2, 2025 года.
Бесплатный доступ
Ключевым понятием статьи является сверхурочная трудовая занятость, рассматриваемая с точки зрения нескольких теоретико-методологических подходов, применяемых для ее исследования в рамках экономической социологии. Среди них выделяются марксистский, институциональный и аксиологический. В статье анализируются достоинства и ограничения (недостатки) каждого. Отмечается, что марксистский подход ориентирован на установление причин стремления работодателя к увеличению рабочего времени своего сотрудника, однако механизм его реализации не раскрывается. Институциональный подход, напротив, акцентирует внимание исследователя на стратегии работодателя по максимизации использования труда персонала компании, упуская целеполагание формирования такой ситуации. Аксиологический теоретико-методологический подход изучения явления сверхурочной занятости ставит во главу угла ценности работодателя и его сотрудников, их совпадение или расхождение. Автор приходит к выводу о том, что при исследовании конкретных социальных аспектов сверхурочной занятости следует сочетать указанные подходы, обеспечивая их взаимодополнение и нивелирование ограничений. Методами исследования выступили научный анализ, сравнение и сопоставление.
Сверхурочная занятость, марксистский подход к сверхурочной занятости, институциональный подход к сверхурочной занятости, аксиологический подход к сверхурочной занятости
Короткий адрес: https://sciup.org/149147651
IDR: 149147651 | УДК: 316.334.2 | DOI: 10.24158/tipor.2025.2.7
Текст научной статьи Сверхурочная занятость как социальное явление: экономико-социологические подходы
может формировать в пространстве трудовых отношений своей организации и которым работник не может результативно противостоять в силу ограниченности своих социальных ресурсов. Имея под собой экономические причины реализации, сверхурочная занятость конструируется в пространстве трудовых отношений, что делает ее объектом социологических исследований и прежде всего - осуществляемых в рамках экономической социологии. Именно в пространстве общественных отношений имеет место противостояние работодателя и работника в контексте условий труда, а также социальных практик сверхурочной занятости. Поэтому выделение и анализ теоретико-методологических подходов к исследованию этого явления трудовой жизни в рамках экономической социологии представляется весьма актуальным.
Марксистский подход . Сверхурочная занятость оказывается социально обусловленным явлением и потому исследуется в экономической социологии. Можно выделить несколько основных теоретико-методологических подходов к изучению данного феномена. Исторически первым среди них стал марксизм, в котором сверхурочная занятость рассматривается в широком контексте социально-экономических отношений труда.
Исходным пунктом объяснения социальной природы сверхурочной занятости в марксизме выступает понятие нормальной продолжительности рабочего дня. При этом отмечается, что оно начинает формироваться в обществе с началом развития капитализма и потому связано именно с характерными для данного периода отношениями между субъектом и его работодателем. До капитализма режим труда и отдыха регламентировался, с одной стороны, характером производственных процессов; с другой - религиозными нормами и предписаниями относительно трудового распорядка; с третьей - возможностями трудового потенциала каждого конкретного работника. Рабочий день хотя и был достаточно долгим (при этом в каждой ремесленной мастерской имелись свои представления о нормальной продолжительности рабочего дня), но характеризовался слабой интенсивностью работы со множеством перерывов для приема пищи, отдыха, общения; было много выходных и праздничных дней, дней, в которые нельзя было работать по религиозным соображениям. Такой режим труда не был изматывающим для работников. В марксизме подобная ситуация объясняется тем, что непосредственной социальной целью производства выступало воспроизводство жизни трудящегося субъекта - работника, его семьи, общинной организации, в которую он входил, в отличие от непосредственной цели производства при капитализме, в качестве которой выступало получение как можно большей прибыли (Тарандо, 2012). Непосредственная социальная цель производства оказывается тем основанием, которое задает режим труда и отдыха работников, участвующих в производственных процессах.
При становлении капиталистической организации труда и, соответственно, смене непосредственной социальной цели производства резко меняется ритм трудовой деятельности на предприятиях. Рабочий день становится очень долгим, сотрудников заставляют выполнять свои обязанности интенсивно с минимальным количеством перерывов незначительной продолжительности, с тем чтобы капиталист мог получить от них максимальное количество прибавочного труда. При этом общество в лице государства очень долгое время устранялось от решения проблемы установления стандартной продолжительности рабочего дня, считая это частным делом каждого хозяина-капиталиста и отдавая решение данного вопроса в руки предпринимателей. Поэтому продолжительность рабочего дня в таких организациях оказывалась близкой к пределам физических возможностей человека как биологического существа. К. Маркс в свое время боролся за установление нормальной продолжительности рабочего дня, которой он считал 10 часов, в то время как на тот момент работники трудились по 14–16 часов в день, а некоторые капиталисты, у которых была возможность в большей степени диктовать свои условия персоналу, доводили продолжительность рабочего дня до 18 часов в сутки. Поэтому можно понять К. Маркса, который писал о том, что у капитализма «звериное» лицо (Маркс, 2024).
В такой ситуации речь о существовании сверхурочной занятости не шла, поскольку нормальная продолжительность рабочего дня в тот исторический период доходила до границы физических возможностей человека. Однако чем была обусловлена именно такая, а не меньшая продолжительность рабочего дня, позволяющая работнику нормально восстановить свои жизненные силы для последующей работы? Марксизм отвечает на этот вопрос весьма категорично -стремлением капиталистов получить как можно большие прибыли, а сделать это можно было только выжимая из людей все их силы через максимальное удлинение рабочего дня и предельную интенсивность труда.
При этом необходимо отдельно проанализировать вопрос о том, насколько такая продолжительность рабочего дня была связана с уровнем производительности труда в обществе, так как именно с этим с экономической точки зрения связано то количество часов, которое должен длиться нормальный рабочий день. В марксизме этот вопрос решается таким образом, что ключевым фактором установления нормальной продолжительности рабочего дня на предприятии признается стремление капиталиста получить как можно большую прибыль. Что касается уровня производительности труда в обществе, то К. Маркс считал, что этот уровень уже в XIX в. был достаточным для того, чтобы из работника не выжимать все его силы до последней капли и одновременно получать нормальные прибыли, достаточные как для дальнейшего развития производства, так и для безбедной жизни самого капиталиста и его семьи. Однако реальность демонстрировала именно потребительское отношение хозяев-предпринимателей к работникам, что заставило ученых-марксистов обратить внимание на ключевую роль именно социальных, а не экономических факторов при установлении нормальной продолжительности рабочего дня (Тарандо, 2013).
В 1919 г. была создана Международная организация труда (МОТ). Ее создание явилось реакцией капиталистического мира на Великую октябрьскую социалистическую революцию. МОТ в качестве настоятельной рекомендации капиталистическим государствам выработала рекомендацию установить 8-часовой рабочий день. Таким образом, его можно считать одним из завоеваний Октябрьской революции.
Принятая рекомендация опиралась, с одной стороны, на возросшую производительность труда в обществе, с другой – на укрепившиеся силы трудящегося класса по продвижению своих интересов в противостоянии собственникам средств производства. Таким образом, установление 8-часового рабочего дня стало результатом борьбы трудящихся классов за приемлемые условия труда. То есть в этом контексте ведущую роль сыграл социальный фактор.
Организация труда по 8-часовому рабочему дню способствует такому напряжению жизненных сил и затратам энергии работников, которые могут быть восстановлены в течение времени отдыха. При этом у них после рабочей смены остается некоторый запас энергии, который они могут потратить по своему усмотрению в том числе и на дополнительную трудовую деятельность. Тем самым у субъектов возникает возможность сверхурочного труда и сверхурочной занятости.
С точки зрения марксизма эта возможность очень привлекательна для работодателей. Несмотря на то, что в подавляющем большинстве стран законодательным путем установлен 8-часовой рабочий день, у собственника предприятия есть соблазн принудить сотрудника работать большее количество времени, так как в этом случае увеличивается прибавочная часть рабочего времени, что обеспечивает рост прибыли работодателей (Карапетян, 2024).
Однако законодательство большинства стран на современном этапе развития общества предусматривает повышенную ставку оплаты труда в сверхурочное время. На этот факт марксистская теория труда отвечает тем, что работодатель склонен использовать на практике различные социальные приемы и технологии с тем, чтобы принудить сотрудника работать сверхурочно, но при этом не оплачивать эту дополнительную занятость вообще либо оплачивать ее в неполном размере (Липатова, Москалев, 2024).
Обоснованием этой проблемной ситуации в сфере труда в марксистской теории является факт противостояния интересов работника и его нанимателя. В интересах последнего получить от персонала организации как можно больше труда, а заплатить за это как можно меньше, поскольку труд работника для собственника-капиталиста является доходом, и он стремится его максимизировать, а заработная плата, напротив, – расходом, который необходимо минимизировать. В интересах работника, наоборот, отдать как можно меньше труда, а получить за него как можно больше, поскольку это доход со стремлением к его максимизации. При этом работодатель занимает доминирующее положение, так как именно он создает рабочие места, определяет условия труда и принимает окончательное решение о том, кто и как будет работать на его предприятии. В этом противостоянии работник также может пытаться отстаивать свои интересы, но у него гораздо меньше социального ресурса, чтобы результативно добиваться соблюдения своих прав. Таким образом, с точки зрения марксизма у работодателя гораздо больше стимулов и социальных инструментов для того, чтобы принудить персонал работать больше, чем у последнего – социальных ресурсов, помогающих противостоять такой стратегии. Тем самым марксистская теория труда объясняет основную социальную причину существования сверхурочной занятости в условиях нормальных рутинных производственных процессов, когда эти процессы протекают в обычном режиме без каких-либо чрезвычайных или неординарных ситуаций в обществе.
Несмотря на стройный анализ противостояния интересов работодателя и работника в сфере сверхурочной занятости, из поля зрения марксистской теории труда выпадают ситуации, когда наниматель бережно относится к своим сотрудникам, соблюдает их права, создает эргономичные условия для выполнения должностных обязанностей, то есть не стремится принудить работников к сверхурочной занятости, а эпизодические случаи ее в связи с острой производственной необходимостью честно оплачивает (Малышев, Воронов, 2024). Сказанное является одним из недостатков марксистской теории.
Другим ограничением ее является то, что в концепции К. Маркса не анализируются конкретные социальные приемы, технологии и стратегии, которые вырабатывают и применяют работодатели для того, чтобы принудить персонал работать сверхурочно. Она не позволяет провести исследование более конкретных уровней социальной реальности (Воронов, Малышев, 2024).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что марксистская теория труда обладает значительным объясняющим потенциалом для анализа социальной проблематики сверхурочной занятости, но при этом имеет ограничения применения, которые задают познавательный потенциал этой теории в отношении лишь строго определенного круга социальных явлений и на четко обозначенном уровне конкретности их исследования. Можно сказать, что марксистская теория труда анализирует основы конструирования работодателями сверхурочной занятости на уровне общего, но практически не применяется к конкретным уровням этого конструирования. Однако это общее, которое объясняется марксистской теорией труда, выступает обязательным условием осуществления сверхурочной занятости на всех конкретных ее уровнях в рамках тех ситуаций, которые подпадают под исследовательское поле марксистской теории труда.
Институциональный подход . С конструированием стратегий работодателей по созданию социальных условий сверхурочной занятости имеет дело институциональный подход в экономической социологии. Однако и здесь имеется ограничительный аспект, касающийся того, как правила и нормы конструируют поведение сотрудников. Для исследования стратегий работодателей институциональный подход оказывается полезным тем, что нормы и правила имеют несколько уровней своего осуществления. Первый из них касается формальных ограничений, которые прежде всего задаются государством законодательным путем и оформляют общие рамки взаимодействия работодателей и работников относительно реализации последними их трудовой функции.
Второй уровень осуществления правил и норм поведения работников на рабочих местах задается формальными локальными правилами, выработанными в организации для регламентации активности работников применительно к конкретным производственным процессам, имеющим место в данной конкретной организации. Они не могут противоречить законодательным нормам, а лишь конкретизируют их применительно к специфике экономической деятельности организации.
Третий уровень осуществления правил и норм поведения касается социальных практик на рабочих местах. Они возникают под воздействием различного рода норм и правил поведения, как формального, так и неформального порядка. При этом первый может противоречить второму, но всегда будет выстраиваться работодателем таким образом, чтобы повысить экономическую эффективность трудовой деятельности работника (Веселов, Липатов, 2015).
Повысить экономическую отдачу от трудовой деятельности работника, как это постулируется в институциональном подходе, можно путем продуцирования норм и правил поведения, выполнение которых структурирует и направляет поведение работника в нужном для работодателя направлении (Липатова, Градусова, 2024). Причем это может предполагать дополнительные затраты труда первого и повышенный доход второго. Действие, повторяемое определенное количество раз за ограниченный период времени, постепенно превращается из модели поведения в общепринятую социальную практику в организации. Вновь пришедшие в организацию работники получают ее как данность и оказываются вынужденными ей подчиняться под страхом увольнения (Карапетян, Филиппова, 2024).
Провоцирование такого поведения работников при помощи норм и правил в организации может осуществляться целенаправленно, например, в рамках формирования корпоративной культуры как социального ресурса повышения эффективности труда и обеспечения экономической результативности работы организации. Корпоративная культура сама по себе представляет собой явление трудовой жизни, которое складывается в любой организации, поскольку она является моментом естественного бытия человека как социального существа. До определенного времени корпоративная культура складывалась и развивалась в организациях стихийно. В середине XX в. на нее обратили внимание, поскольку ресурсы традиционных экономических методов повышения производительности труда находились на стадии истощения и велся поиск других способов повышения экономической эффективности организаций. В качестве такого ресурса была взята корпоративная культура, которая с этого времени стала объектом социологических, психологических, культурологических и других видов исследований. Но все они в конечном итоге направлены на поиск методов конструирования корпоративной культуры таким образом, чтобы разделяющие ее работники трудились как можно более эффективно с точки зрения повышения прибылей организации.
Корпоративная культура имеет несколько уровней своей реализации, но одним из них, имеющих непосредственное отношение к управленческим практикам, оказывается уровень совокупности норм и правил поведения работников в организации, то есть тот, который является объектом для институционального подхода. В этом смысле последний предстает практикоориентированным, имеющим дело с продуцированием, внедрением и воспроизводством социальных норм и правил поведения работников на рабочих местах, чтобы наниматель мог получить от них наибольшую отдачу.
Поэтому работодатель может целенаправленно продуцировать и внедрять в компании такие правила и нормы поведения, которые будут побуждать работников работать сверхурочно и не требовать за это дополнительную оплату. Многократные акты выполнения этих норм и правил формируют устойчивые социальные практики осуществления сверхурочной занятости, которые закрепляются через ценности корпоративной культуры и транслируются всем работникам, в том числе вновь прибывшим в организацию.
Таким образом, основным достоинством институционального подхода является его ориентированность на практику. Если марксистский подход объясняет причину стремления работодателя к принуждению сотрудников к сверхурочной занятости, то институциональный – объясняет механизмы этого процесса.
Недостатком последнего из названных подходов выступает то, что он не дает объяснения направленности интересов участвующих в трудовом процессе субъектов, а потому слабо определяет целеполагание этих субъектов. Представляя механизмы реализации целей, институциональный подход нуждается в дополнении марксистским, поскольку в нем объяснение целеполагания выносится на приоритетное место.
Аксиологический подход . Еще одним важным подходом к исследованию сверхурочной занятости в экономической социологии выступает аксиологический. Согласно ему, исследования ведутся относительно влияния ценностей на экономическое поведение людей и, в частности, на выстраивание работодателями сферы занятости работников в своих организациях. В этом смысле ценности, разделяемые в компании, оказываются факторами, влияющими на формирование стратегий работодателей по конструированию социальных практик сверхурочной занятости (Социология ценностной солидарности современных обществ: грани научной проблемы …, 2024).
В указанном аспекте речь идет как о ценностях организации, являющихся составной частью корпоративной культуры, так и о приоритетах общества. Каждый сотрудник организации оказывается носителем и тех, и других. Для более глубокого понимания феномена сверхурочной занятости, особенно в его принудительном варианте, необходимо рассмотрение этого вопроса в разрезе ценностей, разделяемых сотрудниками, которые представляют работодателя, и приоритетов рядовых работников.
Сотрудники, являющиеся репрезентантами собственника организации, по логике экономической эффективности должны транслировать другим работникам через социальные практики осуществления отношений занятости ценности капиталистической рациональности. Но, являясь носителями ценностей разных социальных порядков, в том числе некапиталистических, они могут выстраивать практики занятости различными способами, в том числе отличными в каких-то моментах от тех, которые призваны обеспечить достижение экономической эффективности (Человеческий капитал руководителей корпораций: особенности, структура, измерения …, 2023). В этом аспекте имеется большой задел для влияния культуры общества на специфику социального пространства осуществления трудовых отношений в каждой конкретной организации.
В отношении своих работников компания реализует приоритеты капиталистической рациональности, однако они являются носителями ценностей разных социальных порядков, в том числе некапиталистических. Поэтому сверхурочная занятость может вызывать у них отторжение, особенно если работодатель привлекает к ней персонал на относительно постоянной основе. В этом аспекте для него становится крайне важным формирование в системе корпоративной культуры таких ценностей, которые будут способствовать реализации социальных практик интенсивного и более продолжительного труда (Титаренко, Карапетян, 2024).
Аксиологический подход к исследованию сверхурочной занятости имеет познавательный потенциал именно в отношении влияния различных социальных порядков и соответствующих им ценностей на конструирование работодателями социальных практик сверхурочного труда. При этом вопрос о том, как формируются эти порядки, почему они имеют именно такую, а не другую логику, остается за рамками исследовательских возможностей этого подхода.
Заключение . Экономическая социология, используя инструментарий социологического познания в рамках марксистского, институционального и аксиологического подходов, рассматривает сверхурочную занятость со стороны разных аспектов ее осуществления, исследуя социальные основы и механизмы реализации данного явления. Поскольку каждый из рассмотренных выше подходов к его исследованию имеет свои достоинства и недостатки, то имеет смысл их сочетать, акцентируя внимание на соответствующих этапах и уровнях исследования сверхурочной занятости, образуя своеобразную теоретико-методологическую конструкцию познания этого явления трудовой жизни общества.
Список литературы Сверхурочная занятость как социальное явление: экономико-социологические подходы
- Веселов Ю.В., Липатов А.А. Доверие в организации: методологические основания исследования в экономике, социологии и менеджменте // Российский журнал менеджмента. 2015. Т. 13, № 4. С. 85-104.
- Воронов В.В., Малышев, М.Л. Общее и особенное в новых условиях занятости на рынке труда в стране и регионах // Власть. 2024. Т. 32, № 5. С. 179-186. https://doi.org/10.24412/2071-5358-2024-5-179-186.
- Карапетян Р.В. Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и решения // Социологические исследования. 2024. № 5. С. 156-158. https://doi.org/10.31857/S0132162524050134.
- Карапетян Р.В., Филиппова М.В. От рынка труда к рынку занятости (к итогам VII Санкт-Петербургского международного Форума труда) // Ежегодник трудового права. 2024. № 14. С. 373-383. https://doi.org/10.21638/spbu32.2024.125.
- Липатова Л.Н., Градусова В.Н. Состояние и возможности укрепления трудового потенциала России (на основе данных Всероссийской переписи населения 2020 г.) // Регионология. 2024. Т. 32, № 3 (128). С. 563-583. https://doi.org/10.15507/2413-1407.128.032.202403.563-583.